Текст книги "Искусство соперничества. Четыре истории о дружбе, предательстве и революционных свершениях в искусстве"
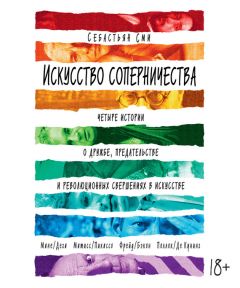
Автор книги: Себастьян Сми
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Если в компании у Гербуа Мане бесспорно верховодил, то в камерной обстановке домашних вечеров они с Дега выступали практически на равных. Острый ум Дега сверкал тогда особенно ярко, а его меланхоличный облик казался особенно гипнотическим в декорациях буржуазной гостиной, где тон по преимуществу задавали женщины. Из них двоих Дега несравненно лучше понимал музыку, и любой исполнитель, Сюзанна в первую голову, не мог этого не отметить. Возможно, он не был рожден мгновенно располагать к себе самых разных людей, как Мане, но он больше читал и мог со знанием дела изящно и точно высказываться по поводу таких предметов, о которых Мане не слишком задумывался.
Когда ты кем-то очарован, в душе у тебя поднимаются разом две волны: уступая неодолимому влиянию извне, ты в то же время ощущаешь равновеликое, хотя и прямо противоположное инстинктивное желание сохранить себя, собрать все силы – и дать отпор. А если твое самосознание еще не до конца сформировано, как это было в случае Дега, тебе лучше поскорее в себе разобраться.
У тебя нет иного выхода, поскольку тот, другой, продолжает тебя искушать и попутно, сам того не ведая, раскрывает тебе глаза на все, что составляло слабость и ущербность твоего прежнего «я». Такой принудительный самоанализ дает сумасшедший импульс творчеству. Но не способствует прочности отношений.
В 1860-х годах, когда Дега, казалось бы, все больше сближался с Мане – не только как друг, но и как художник, обращавшийся к тем же сюжетам и перенимавший какие-то стилистические приемы, – он чувствовал и нарастающую потребность жестко разграничить свои и Мане эстетические принципы.
Главное их несогласие начало проявляться около 1865 года и мало-помалу развело друзей по разные стороны четко очерченной границы. Чтобы заметить различия между художниками, достаточно посмотреть на холсты, но сейчас речь не столько о живописной манере или тематике произведений, сколько о философии искусства. А конкретнее – о совершенно несовпадающем понимании, что есть правда.
Для Мане правда трудноуловима и многолика. Соответственно, его увлекает внешняя игра отношений, флирт, шутка. Он наряжает своих героев в экзотические костюмы, упивается эфемерной природой того, что называют «неповторимая человеческая индивидуальность», принципиальной непознаваемостью людей, постоянно меняющих свои личины.
Дега же склонялся прямо к противоположному, и у него на смену интуитивному пониманию постепенно приходила убежденность, которая вскоре срастется с ним, как личная подпись или печать. В нем вызревала решимость прорвать карнавальную завесу и доискаться правды. Его не оставляло навязчивое ощущение потаенных истин, которые необходимо вытащить на свет. Такое намерение должно было насторожить Мане: в его собственной частной жизни было много такого, что он сознательно от всех скрывал.
Постоянно размышляя и наблюдая за своим талантливым приятелем, Дега, по-видимому, заметил, что и с ним все не совсем так, как кажется. Мане слыл дамским угодником, однако у него имелась жена Сюзанна, и они вместе заботились о мальчике – Леоне. Мане и Сюзанну связывали многолетние отношения, это было очевидно. Супруги жили вместе с матерью Мане, а Леона представляли то как крестного сына художника, то как младшего брата Сюзанны. Что-то тут было не так. Они поженились в 1863 году, почти сразу после смерти отца Мане, респектабельного чиновника, судьи высокого ранга. Возможно, с его смертью исчезло какое-то препятствие для их брака? Во всяком случае, складывалось такое впечатление.
Огюст Мане оставил службу в 1857 году из-за потери речи. Парез развился вследствие нейросифилиса – последней, смертельной стадии третичного сифилиса, приведшего также и к слепоте. Он прожил еще пять лет, но речь уже не вернулась. «На него нельзя смотреть без слез», – писала мадам Мане одному из его сослуживцев незадолго до его кончины.
Мане скрывал свою связь с Сюзанной так долго и так умело, что даже близкие друзья несказанно удивились, когда узнали о его планах жениться на голландке. «Мане только что сообщил поразительную новость, – писал Бодлер. – Нынче вечером он отбывает в Голландию и вернется оттуда с женой». Уж если Бодлер ни о чем не догадывался, то Дега, к тому времени знакомый с Мане всего год, и подавно.
На момент их свадьбы Леону было одиннадцать лет. Позже Леон уверял, что никогда не знал наверняка, кто его отец. Так или иначе, он стал любимой моделью Мане и запечатлен на семнадцати его полотнах, установив своеобразный рекорд среди моделей художника. Переменчивая внешность юноши на этих изображениях породила множество спекуляций, и по сей день его личность окутана облаком нездорового ажиотажа. Высказывалось предположение, что настоящий отец Леона – Огюст Мане. Но эта гипотеза, выдвинутая в 1981 году Миной Кертис и подхваченная в 2003 году Нэнси Локк, остается маловероятной. Кертис довольствовалась слухами. Локк, спустя много лет обратившись к этой версии, сосредоточилась на загадочном обстоятельстве: почему Леон так и не был официально признан сыном художника, даже после того, как Мане и Сюзанна наконец поженились. По мнению автора, все легко объясняется, если отцом мальчика был Огюст Мане, потому что в таком случае Леон рожден не просто вне брака, но в результате адюльтера. (Согласно тогдашнему французскому праву, такой ребенок не мог быть узаконен.)
Однако этот факт можно объяснить гораздо проще. В том общественном слое, к которому принадлежала семья Мане, внебрачных детей – даже по прошествии одиннадцати лет – признавать было не принято. Да, такие случаи не редки в богемной среде импрессионистов, друзей Мане, но они были выходцами из другого, более низкого сословия. Конечно, это обстоятельство печально сказалось на будущем Леона. Он пребывал в неведении или, как минимум, в сомнении относительно собственного происхождения. Даже на похоронах матери он оставил визитную карточку, на которой отрекомендовался ее младшим братом. Путь к образованию ему был закрыт, хотя, носи он фамилию Мане, перед ним распахнулись бы двери любого престижного коллежа. Вместо того чтобы учиться в университете или военной академии, он служил мальчиком на побегушках в банке отца Дега.
Возможно, отказ официально признать Леона исходил от Сюзанны. Такой точки зрения придерживался один из первых биографов Мане Адольф Табаран, обвиняя Сюзанну в «чрезмерном почтении к лицемерной морали, к тому, „что скажут люди“». Но негласные предписания общества – особенно для аутсайдера, каковым являлась Сюзанна, – действовали порой неотвратимее закона.
Мане, по-видимому, согласился участвовать в хитроумном семейном обмане, но сам жестоко страдал. Табаран убежден, что это «отравило ему жизнь». Многочисленные портреты Леона – которые подразумевают долгие часы общения с ним – действительно наводят на мысль о попытке хоть как-то воздать юноше за все, чего он был лишен.
При всей справедливости утверждения, что пример Мане пробудил у Дега желание стать по-настоящему современным, выражать свою эпоху и создавать новое искусство, не менее справедливо и другое: Дега искал собственный ответ на вопрос, что значит быть передовым и современным. Для Дега этот вопрос затрагивал в первую очередь психологию личности, новые условия и способы существования в мире, новые аспекты формирования и сохранения своего «я». Дега хорошо чувствовал грань между внутренним миром индивида и его внешними проявлениями, грань труднопреодолимую и даже труднообъяснимую. (Его провидческие догадки во многом стали первым образом тех внутренних состояний – вызванных бездомностью, неприкаянностью человеческой души, – которые впоследствии так драматично воплотят Пикассо и Бэкон.) Постепенно он утвердился в мысли, что его модели больше расскажут о себе, скорее выдадут свои секреты, если их застигнуть врасплох – когда они думают, что их никто не видит, или удивлены чьим-то внезапным появлением. Поэтому, вдохновленный отчасти фрагментарностью и асимметрией японских гравюр, Дега примерно с 1865 года начал экспериментировать с произвольно смещенными, перенасыщенными фигурами, разбалансированными композициями. На первых порах его картины еще жестко связаны с рисунком – в котором он был необычайно силен – и следуют традиционным принципам моделировки с постепенным переходом от темных тонов к светлым. Однако медленно, но верно в них стало проступать нечто новое, нечто такое, что способен был создать только он, Дега.
В 1865 году он написал картину, которую можно считать подлинным творческим прорывом: «Женщина у вазы с цветами» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Женщина – вероятно, жена приятеля Дега Поля Вальпенсона – задумалась о чем-то своем, явно не подозревая, что за ней наблюдают. Первое, что бросается в глаза, – асимметричность композиции. Фигура сдвинута к краю холста, словно ее вытеснил пышный букет августовских цветов. Этот прием, как, впрочем, и почти все детали картины, вплоть до поднятой к уголку рта руки (жест, который будет повторяться у Дега снова и снова), создает ощущение нерешительности. По сравнению с гротескными искажениями и утрированной драматизацией лица, ставших в портрете XX века обычным явлением, инновации Дега могут показаться едва заметными. Но до него ничего подобного в портретной живописи просто не было.
И здесь самое время рассказать о дружбе Дега с Эдмоном Дюранти. В отличие от Мане, постоянно и тесно общавшегося с писателями, начиная с Бодлера и заканчивая Золя и Малларме, Эдгар Дега литераторов в общем не жаловал. Но в 1865 году – когда была написана «Женщина у вазы с цветами» – он познакомился с Дюранти и сразу к нему расположился, как будто знал его давным-давно. Романист и критик Дюранти печатал в газете «Фигаро» заметки об искусстве, отличавшиеся суховатой точностью стиля и высокой культурой речи. Поговаривали, будто бы он внебрачный сын Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» (на сюжет которой Жорж Бизе написал еще более знаменитую оперу), но слухи так и остались слухами. Вместе с Шанфлёри он в 1856 году стал выпускать ежемесячное литературно-художественное обозрение «Реализм», правда дальше шести выпусков дело не пошло, издание разорилось, но Дюранти продолжал писать об искусстве, о поисках новых тем, о попытках живописцев идти в ногу со временем.
Для Дюранти – и для Дега тоже – быть новатором означало бескорыстно служить Истине, всегда говорить только правду. Культивируя в себе холодную объективность ученого, они взялись изводить сентиментальность и объявили войну клише. В полемическом запале Дюранти не замечал никакого противоречия в том, что, с одной стороны, он выступает пламенным борцом за дело реализма, а с другой – восхищается теми самыми мастерами, против которых художники-реалисты и восстают. В этом, как и во многом другом, они с Дега были похожи. Дюранти разделял давнюю любовь Дега к холодноватому неоклассицизму Энгра. Размышляя о живучести традиционных пристрастий, Дега мучительно искал свой стиль, который был бы сдержаннее и спокойнее, не таким страстным и откровенно живописным, как сногсшибательный стиль Мане.
Среди множества общих интересов самым большим увлечением Дега и Дюранти была физиогномика – искусство распознавать характер и склонности по чертам лица. Приятели часто обсуждали этот занимательный предмет, и, по-видимому, прямым следствием их бесед стал опубликованный в 1867 году, то есть через два года после их знакомства, памфлет Дюранти «О физиогномике».
Физиогномика была одной из главных точек опоры всей литературы начала девятнадцатого столетия; о ее роли в искусстве говорит уже тот факт, что физиогномика считалась обязательным элементом художественного образования.
Широкую популярность теория физиогномики приобрела еще в конце XVIII века благодаря швейцарскому богослову и поэту Иоганну Каспару Лафатеру, который, в свою очередь, развивал идеи работавшего в XVII веке французского художника и теоретика искусства Шарля Лебрена.
В трактате Лебрена «О методе изображения страстей» (1668) была представлена наглядная классификация различных выражений человеческого лица, что позволяло использовать трактат в качестве пособия для упражнения, называемого «tête d’expression» («выразительная голова»), – академической штудии лица, которое, как зеркало, отражает характер и душевное состояние, например печаль, испуг, упрямство или скуку. В книге было множество рисунков, иллюстрирующих разные «типы» лица. У художников она пользовалась большой популярностью, особенно ее карманное издание.
К середине XIX века многие умозаключения Лебрена и даже Лафатера казались давно отжившими и надуманными. Но сама идея, что характер и общественное положение человека можно «прочитать» на его лице, была жива как никогда. Для этого имелись причины социально-политического свойства. Начиная с революции 1789 года французское общество вступило в эпоху нескончаемых, зачастую кровавых перемен, которая на момент описываемых событий продолжалась без малого семьдесят лет. При очередном политическом потрясении прежняя иерархия классов, подобно карточной колоде, перетасовывалась снова и снова, а к этому еще добавилась индустриализация, которая стремительно меняла облик города. Все это привело к тому, что буржуазия и высшие классы были охвачены подозрительностью и страхом. Даже мода и вообще манера одеваться не служили больше надежным ориентиром – по одежке теперь нельзя было судить о социальном статусе. Гардероб отражал скорее социальные чаяния. И те, чей статус прежде был относительно благополучен, остро нуждались в иных критериях. Им хотелось вернуть себе уверенность в том, что жизнь в городе подчиняется определенным правилам, которые можно понять и усвоить, что неузнаваемо изменившаяся городская среда управляема – хотя бы потенциально. (Не случайно жанр детективного романа, где герой раскрывает самые загадочные преступления благодаря сверхъестественной способности видеть потаенные приметы и связи, возник именно в это время.) В новых условиях крайней социальной нестабильности (фактор, во многом определяющий природу индустриального общества) такая псевдонаука, как физиогномика, оказалась невероятно востребованной. Друг Бодлера Альфред Дельво утверждал, что, внимательно наблюдая за лицами горожан, способен «разделить парижскую публику на слои так же легко, как геолог – напластования пород». Насколько спокойнее жилось бы в большом городе тому, кто овладел бы этой наукой!
Дега был слишком умен, слишком плоть от плоти позитивизма своего века, чтобы безоговорочно уверовать в физиогномику. Но он был одержим тайной человеческого лица. Поэтому лицо, с его разнообразными выражениями, заняло центральное место в попытках художника модернизировать эстетику своего творчества, осовременить его иным, отличным от Мане способом.
И действительно, характерной чертой портретов Мане стал пустой, непроницаемый взгляд. Художник последовательно отказывался акцентировать внимание на лице модели – особенно это касается изображений Викторины Мёран и его сына Леона, – и это часть той загадки, которую несут в себе его картины. Критик Теофиль Торе упрекал Мане в исповедовании «своего рода пантеизма: голова для него значит ничуть не больше дамской туфельки». Но разве не лицо – заветный ключ к портрету? Не напрасно же люди веками уделяли лицу повышенное внимание? Мане отказался следовать общему правилу. Он готов любоваться старой туфлей, белым платьем, розовым поясом, веером, чем угодно – не обязательно лицом.
Дега увидел в этом удобный случай решительно размежеваться с Мане. Надо сказать, что он, как и многие другие художники, ревниво относился к литературе. Ему дорога была точка зрения, что чисто визуальными средствами – будь то лицо или обстановка – можно поведать о внутренней жизни персонажа полнее, чем с помощью нескончаемого нагромождения слов девятнадцативекового романа. Начиная с картины «Женщина у вазы с цветами», Дега проводит важную для него мысль: хороший, глубокий портрет не есть простое отображение в лице и общем облике модели некоего набора индивидуальных черт. Нет, портрет должен соответствовать новаторскому духу времени, духу перемен, а значит, отражать саму внутреннюю жизнь, нестабильную, переменчивую, трудноуловимую, но оттого не менее существенную для характеристики персонажа.
Да, лицо – ключ к характеру, этого никто не отменял; вопрос только в том, что именно ты хочешь с его помощью выразить, и Дега пытался найти свой ответ.
Его убежденность в своей правоте и привела к той драме, с которой связана загадочная история двойного портрета Мане и Сюзанны. «На портретах изображать людей в привычных, типичных для них позах, – сделал он заметку на память в своей записной книжке незадолго до того, как приступил к работе над семейным портретом Мане, – а главное – следить за тем, чтобы лицо и тело выражали одно состояние».
Под влиянием Бодлера Мане тоже связывал современную, урбанизированную жизнь с непрерывным движением, нестабильностью. Но для него весь смысл заключался в самой шараде под названием жизнь, в игре, маскараде, в осознании, как это емко сформулировал Эдгар По в рассказе «Убийство на улице Морг», что «в глубокомыслии легко перемудрить». Мане по душе было остроумное наблюдение того же По: «Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, всегда лежит на поверхности». Оно как нельзя лучше описывает подход Мане к искусству. Самые известные его картины отражают ту часть его личности, которая побуждала его «радоваться жизни, пленяться самыми обыденными вещами и уклоняться от сложностей». Для своей именной почтовой бумаги он выбрал подходящий стоический девиз: «Tout arrive» (эти два слова могу означать «Всему свое время», «Все приходит и проходит» или «Всякое бывает»).
Приоритетная ценность того, что «лежит на поверхности», как и авторский произвол, усиливают ощущение скрытого подтекста в картинах Мане. Их смысл – и в его время, и в наше – до конца неясен. В творчестве большого художника редко встретишь столько вопиющих аномалий: неподходящий случаю костюм (или полное отсутствие одежды); странная мешанина жанров; головокружительное сочетание современного реализма и отсылок к истории искусства. Легион загадок. Но все они на поверхности, их разгадки не столь уж важны, куда важнее удовольствие от них самих.
Вероятно, какими-то сторонами такого чародейства Дега восхищался. Но не настолько, чтобы следовать тем же путем. Дега с самого начала подходил к искусству с этической меркой, как к занятию, которое требует не только смелого, но и здравого суждения, и потому подход Мане – его «пантеизм» – стал казаться ему дорогой к нравственной зыбкости, к чему-то сомнительному, что далеко не реализует подлинных возможностей искусства. Он не желал тратить себя на пустяки, вроде авторской прихоти, а к иллюзиям питал стойкую неприязнь. Он верил в то, что искусство должно служить истине. И его дело – открыть эту истину: выследить ее, застигнуть врасплох, подловить. В этом смысле Дега-художник напоминал вышедшего на охоту хищника.
«Без хитрости, коварства и порока не бывает картины, как не бывает преступления», – однажды сказал он.
Мане попытался переиграть критиков, устроив собственный павильон за воротами Всемирной выставки 1867 года. Он развесил там пятьдесят своих работ. Но этот гамбит вышел ему боком. Картины не продавались, и он не сумел вернуть матери долг, баснословную сумму – 18 000 франков. В конце года ему стало по-настоящему страшно. К его неудачам добавился траур по навсегда ушедшему близкому другу: 31 августа 1867-го умер Бодлер. Мане почти потерял способность работать. Зачем? Что бы он как художник ни выпустил в свет, его детище всякий раз возвращалось к нему на порог в смоле и перьях.
Летом он ненадолго съездил на побережье, в Трувиль, куда ему ежедневно доставляли почту – в основном свежую порцию разгромной критики, которую он встречал словами: «Опять поток грязи – новый прилив!»
Видеть Мане таким поникшим и слабым, остро нуждающимся в поддержке было для Дега огорчительно, однако в известном смысле, возможно, небесполезно. За предыдущие два-три года художники очень сблизились, поэтому неудивительно, что к началу 1868 года Дега почувствовал: с другом творится неладное. Он был встревожен. И вместе с тем, вероятно, заинтригован, даже втайне слегка возбужден, как это нередко с нами бывает, когда кто-то из дорогих нам людей переживает внутренний разлад.
Так продолжалось до лета 1868 года, которое Мане проводил с семьей в Булони-сюр-Мер. Он тосковал, не находил себе места, мучимый сознанием своего полного фиаско. В мыслях он постоянно возвращался к Дега. Понятно почему: в Дега он видел живое доказательство собственной значимости. Одним из первых увидеть в современнике талант и знать, что среди многих сил, этот талант формирующих, есть и твоя рука, всегда отрадно – тем более если мэтр сам вступил в полосу кризиса и растерял былую уверенность в себе. Что, как не пример Мане, побудило Дега оставить историю и мифологию и обратиться к современным темам? И разве не пример Мане заставил Дега полюбить жизнь современного большого города? Или понять очарование – и в искусстве, и в жизни – беззаботности, импровизации, остроумной краткости взамен изнурительных, скучных и слишком рассудочных усилий?
От подобных мыслей Мане мог немного воспрянуть духом. И в надежде расшевелить себя он пишет Дега: «Я задумал небольшое путешествие в Лондон. Не составите мне компанию?»
Чтобы предложение прозвучало как можно беспечнее, он объяснил, что его соблазняет главным образом дешевизна поездки: «Билет из Парижа в Лондон и обратно первым классом обойдется в 31 франк 50 [сантимов]». Однако легкий тон нарушает убедительная просьба поспешить с ответом: «Известите меня безотлагательно, потому что нужно связаться с Легро [знакомым художником, постоянно проживающим в Лондоне] и сообщить ему, когда мы прибудем, чтобы заручиться его услугами в качестве нашего переводчика и провожатого».
На самом-то деле Мане был близок к отчаянию. «Я по горло сыт неудачами, – сетовал он в письме Фантен-Латуру примерно в то же время. – Сегодня мое единственное желание – заработать денег. И поскольку я, как и вы, понимаю, что в нашей дурацкой стране, где население сплошь чинуши, рассчитывать особо не на что, хочу попытаться выставить картины в Лондоне».
О том же, только в разрезе общих интересов, он пишет Дега: «Думаю, нам нужно исследовать тамошнюю почву, вдруг она окажется благоприятной для нашей продукции». Он вложил в письмо листок с расписанием и предложил наметить выезд на 1 августа, воскресенье. Поезд отходит днем, и, таким образом, пояснил он, они успевают на полуночный паром.
«Пришлите ответ с обратной почтой, – пишет он в завершение. – В дорогу возьмите лишь самое необходимое».
В Лондон Мане влекла не только перспектива продаж. Они с Дега оба были англофилы. Побывав на Всемирной выставке 1867 года, Дега с восторгом отзывался об английской живописи, которую там увидел. Мане, завсегдатай парижского кафе «Лондон» (Café de Londres), восхищался английскими «охотничьими» гравюрами, на которые ориентировался в тех редких случаях, когда работал над сценами скачек. Оба приятеля высоко ценили традицию английской карикатуры.
Как известно, Лондон – родина дендизма, особой манеры одеваться и вести себя, воплощавшей отношение индивида к миру. Отношение, в котором сочетались независимость и непринужденность, элегантность и оригинальность, и все это как будто без больших усилий. Мане и Дега слыли поклонниками дендизма, основоположником которого в Лондоне XIX века был неподражаемый Бо (Красавчик) Браммел; одной из его реинкарнаций стал общий друг Мане и Дега художник Джеймс Уистлер, заботливо культивировавший свой эксцентричный образ. И конечно, Мане надеялся повидаться с ним в Лондоне.
Все вышесказанное интересно нам только потому, что примерно в это время Дега в своей записной книжке сделал заметку, которая имеет самое прямое отношение к его портрету Мане, небрежно развалившегося на диване в щегольской жилетке и остроносых туфлях. «Есть такие, кто худо обращает во благо; и другие, кто благо обращает в худо». Не приходится сомневаться, что место Мане в первой категории: его естественной раскованности в одежде и повадке какой-нибудь претенциозный Уистлер мог только завидовать. Судя по всему, это присущее Мане свойство Дега и имел в виду, цитируя в той же записной книжке французского денди середины века Барбе д’Оревильи: «В неловкости есть та непринужденность, которая, если я не заблуждаюсь, грациознее самой грациозности».
Обе эти цитаты несомненно сидели у него в голове, пока он писал портрет четы Мане в конце 1868 года. Вероятно, Мане был польщен. За одним-единственным исключением: Дега не утаил и оборотной стороны изящной небрежности денди Мане – скуки, тоски, апатии. С налетом презрения.
Дега не откликнулся на призыв Мане сопроводить его в Лондон. Никто не знает почему. Возможно, просто не нашел времени. Но скорее всего, Дега наконец почувствовал, что пришел срок – и представился случай – утвердиться в своей творческой независимости. Явиться в Лондон в качестве младшего по рангу, эдакого оруженосца при Мане, и смиренно наблюдать, как гораздо более живой, обворожительный, приятный в общении и, уж конечно, более знаменитый Мане окажется в центре внимания, отодвинув его в тень, было не в интересах Дега.
В итоге Мане поехал в Лондон один. Английская столица привела его «в полный восторг», как он признался Фантен-Латуру, и всюду, где бы он ни появлялся, ему оказывали радушный прием. Правда, с Уистлером повидаться, увы, не удалось – тот отправился в вояж на чьей-то яхте. В общем и целом путешествие пошло ему на пользу, он вновь с надеждой смотрел в будущее. «По-моему, там может что-то получиться, – писал он. – Ощущение от страны, атмосфера – все мне по душе, и я настроен попробовать выставить там свои работы на следующий год».
Одного он никак не мог взять в толк: почему Дега (который к тому времени почти наверняка планировал написать портрет Мане и Сюзанны) отказался с ним ехать. «Напрасно Дега не поехал со мной, с его стороны это большая глупость», – написал он Фантену. В следующем письме, спустя две недели, Мане снова помянул его: «Скажите Дега, что ему пора бы мне написать. От Дюранти я слышал, что он становится художником „большого света“. Почему бы и нет? Жаль, что он не поехал в Лондон…»
Интуиция не обманула Дега: если он хотел покорить Лондон, ему лучше было делать это на своих условиях. В конце концов он так и поступил. Через три года он сам отправился в Лондон – один, без Мане, – а еще через год уже продавал картины при посредничестве Томаса Агню, владельца галереи на Бонд-стрит. К 1880-м годам Дега стал в Англии знаменитостью. Его величали «главой импрессионистов» и превозносили за «интересные, блестящие, полные жизни» произведения. Уолтер Сикерт, главный среди многочисленных английских протеже Дега, провозгласил его «живописцем номер один во Франции, одним из величайших художников, каких видел свет». Художники следующего поколения, творческие наследники Сикерта, Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд, тоже были верными почитателями Дега. У Бэкона в мастерской хранились репродукции «обнаженных» Дега; художник-модернист искал отгадку способности Дега посредством рисунка не просто отображать, но «интенсифицировать» реальность – именно к этому Бэкон стремился в собственном творчестве. В домашней коллекции Фрейда в Ноттинг-Хилле были две статуэтки Дега, которые он время от времени рассеянно поглаживал…
Пока его друга Мане в клочья раздирала пресса, а публика пригвождала к позорному столбу, Дега неприметно трудился в его тени. В отличие от Мане, он за славой не гнался. К официальным почестям относился скорее с презрением.
«Вы, Дега, выше этого, – скажет ему Мане несколько лет спустя, – не то что я. Если я вхожу в омнибус и не слышу: „Месье Мане! Как вы поживаете, куда держите путь?“ – мне досадно от мысли, что я не знаменит!»
На протяжении 1860-х годов Дега время от времени посылал работы в Салон, но делал это скрепя сердце, отнюдь не разделяя наивного энтузиазма Мане. Со своей стороны, Мане, вероятно, подозревал, что под маской высокомерного презрения Дега к Салону, критикам и, что греха таить, к большинству собратьев по живописному цеху скрывалась тайная гордыня. Если Мане всегда радовался похвале, от кого бы она ни исходила, то Дега брезгливо относился к восторгам профанов, ибо такое признание не делает художнику чести. «В известности есть что-то постыдное», – напишет он в своей записной книжке.
В последний раз Дега представил свою работу в Салон в 1867-м, за год до того, как написал портрет Мане и Сюзанны. Кстати, отобранная им для Салона картина – тоже семейный портрет. Ныне признанный ранний шедевр Дега, портрет семьи Беллелли, запечатлел любимую тетушку Дега Лауру с дочерьми, Джулией и Джованной. Их отец (и муж Лауры) Дженнаро сидит в кожаном кресле спиной к зрителю, но голова его повернута в сторону, так что виден бородатый профиль, рыжеватые волосы и белесые ресницы.
При внешне бесстрастной манере исполнения картина внушает зрителю странное беспокойство. В «Семействе Беллелли» художник, как написал в 1924 году Поль Жамо, в полной мере проявил присущее ему «чувство семейной драмы» и стремление выявлять «тайную неприязнь в отношениях между людьми».
Вообще-то, Дега написал картину десятью годами раньше. Он трудился над ней несколько лет, начав во Флоренции, где два года жил в доме Беллелли, и завершив в Париже. Амбициозное – как по своим размерам, так и по замыслу – полотно далось ему нелегко и еще долго служило источником постоянных сомнений. Этой картиной Дега когда-то планировал дебютировать в Салоне, но, не сумев добиться результата, который бы его удовлетворил, отложил портрет до лучших времен и занялся историческими и мифологическими сюжетами, более приемлемыми с точки зрения салонного жюри и его собственного отца. Портрет семьи Беллелли – это, образно говоря, альбатрос: символ тех неимоверных трудностей, которые ему пришлось преодолевать в начале своей карьеры.
Картина была ему дорога. И только теперь, по прошествии многих лет, он решился показать ее широкой публике. Перед отправкой портрета в Салон 1867 года он спешно внес кое-какие изменения. Картину приняли. Но повесили так, что лишь считаные зрители сумели ее увидеть, и никто – буквально никто – ни словом о ней не обмолвился.
Дега был взбешен. Он столько сил вложил в эту работу, столько лет ждал подходящего момента, чтобы ее выставить, и вот теперь, когда он наконец выпустил ее из своей мастерской, ее попросту игнорировали. Дега дал зарок никогда больше не подвергать себя салонному унижению. Раз и навсегда он запретил себе брать в расчет официальный путь к славе и состоянию. Как только Салон закрылся, он забрал картину из Дворца промышленности и вернул ее в мастерскую. Там свернутое в рулон полотно простояло в углу до самой его смерти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































