Текст книги "Искусство соперничества. Четыре истории о дружбе, предательстве и революционных свершениях в искусстве"
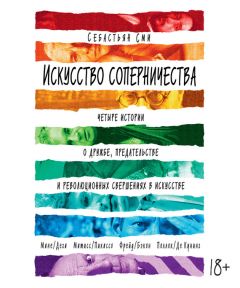
Автор книги: Себастьян Сми
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Помимо всего этого, главным раздражителем, скорее всего, был особый взгляд Дега, его способ ви́дения, в художественном плане день ото дня становившийся все совершеннее, – беспощадный, холодный, аналитический взгляд! Дега с хирургической точностью препарировал все, что видел. Это вам не Мане с его интуитивным, целостным, помноженным на чувство и воображение восприятием мира – нет, Дега расчленяет целое, разбирает на волокна взаимосвязи, чтобы дознаться, из чего все состоит. Трудно при этом не задеть какие-то чувствительные нити. Наверное, увидев себя и свой брак глазами Дега, Мане яснее, чем когда-либо, убедился в разнице мировосприятия – своего и Эдгара Дега – и решил, что с него довольно.
Но все вышесказанное – не более чем попытка взглянуть на инцидент с точки зрения Мане. А как к этому отнесся Дега? Как-никак его полотно изуродовали. И тут возникает вопрос: сознавал ли он, что делает, когда писал двойной портрет Мане? Не было ли тут умысла, холодного расчета? Намерения навредить?
Вероятнее всего, нет. В таких случаях обычно срабатывает механизм более сложный и не всегда осознанный. Современный английский поэт Джеймс Фентон однажды написал о непростых отношениях Сэмюэла Тейлора Кольриджа и Уильяма Вордсворта, отметив, что Кольридж признавал авторитет Вордсворта и его лидирующее положение в их кружке. Несомненно, Кольридж и сам обладал ярким дарованием – и большим честолюбием, – но несокрушимое самомнение Вордсворта подавляло потенциальных соперников. В этом смысле он, подобно Энгру, являл собой гигантскую и ревнивую артистическую личность, для которой «мысль о возможном соперничестве невыносима». По тем или иным причинам Кольридж не замечал этой стороны Вордсворта и болезненно реагировал на попытки мэтра принизить его творческие достижения – особенно на его насмешки по адресу поэмы «Кубла-хан». Однако – поразительная вещь – это не помешало впоследствии самому Кольриджу в своей двухтомной «Литературной биографии» посвятить целую главу недостаткам – характерным дефектам! – поэзии Вордсворта, не вполне отдавая себе отчет, как уверяет нас Фентон, «что он, Кольридж, творит».
«Он не мог разлюбить Вордсворта, – заключает Фентон. – Не мог оставить его в покое».
Разрезав картину Дега, дав выход своему гневу, Мане сам написал портрет Сюзанны за тем же пианино – лиричный, сочувственный портрет. Он словно хотел сказать: «Смотрите! Вот как это делается».
Или хотел извиниться – кто знает?
Еще раньше, в 1865 году, он написал портрет Сюзанны в белом платье на белом диване, а фоном ей служат белые кружевные занавески на широком окне. Лицо ее повернуто к зрителю – миловидное, как у фарфоровой куклы: голубые глаза, белокурые волосы, задорный вздернутый носик. (В 1873 году Мане переписал картину, добавив фигуру Леона, к тому времени уже взрослого, который на заднем плане стоя читает книгу.)
После того как он отрезал фигуру Сюзанны от написанного Дега двойного портрета, Мане был решительно настроен запечатлеть жену в ином, обновленном обличье. Себя он из картины исключил, сосредоточившись только на ней. Сюзанна изображена в профиль (как и на портрете Дега), на ней строгое черное платье, взгляд прикован к нотным листам, пальцы перебирают клавиши. Позади нее в зеркале на стене отражаются часы, которые в 1831 году преподнес матери Мане в качестве свадебного подарка ее крестный, шведский король Карл IV Бернадот. По всей видимости, Мане порядком намучился с этой картиной. Контур носа Сюзанны, в итоге вышедший совсем неплохо, пришлось много раз переписывать, это заметно даже на окончательном варианте. Он не успокоился, пока не добился правильной линии. Ему было важно, чрезвычайно важно, чтобы в портрете жены все было правильно.
Дружба Мане и Дега на этом не прекратилась. Как и их соперничество. В 1870-е годы, после осады Парижа прусскими войсками, когда оба художника бок о бок сражались за любимый город, и провозглашенной затем Парижской коммуны (положившей конец Второй империи), они часто обращались к одним и тем же сюжетам, словно и впрямь соревнуясь друг с другом: лавки модисток, дамы в модных платьях, кафе-концерты, куртизанки, скачки. Каждый не прочь был уколоть другого в споре, выясняя, кто из них первый обратился к той или иной современной теме. Каждый насмехался над тем, каким способом другой ищет признания у публики. Каждый время от времени отпускал по адресу другого обидные замечания личного свойства. Но в целом напряженности в их отношениях со временем стало меньше.
Даже обмениваясь колкостями, они нередко делали друг другу завуалированные комплименты. «Мане в отчаянии, – заявлял Дега, – потому что не умеет писать такие чудовищные картины [как Каролюс-Дюран] и получать за это награды и почести». В другой раз, в разгар жаркого спора с Мане по поводу официальных лавров, Дега внезапно сказал ему с какой-то обезоруживающей искренностью: «В душе все мы давно удостоили вас ордена Почета, как и многих других, еще более лестных титулов и званий».
Оба живописца не стояли на месте, продолжая искать и совершенствовать новые подходы и приемы. В 1870-е годы их манеры в известной мере сблизились, поскольку в работах каждого появилась спонтанность и эскизность, внешнее впечатление незавершенности, традиционно ассоциирующееся с импрессионизмом. Надо отметить, что после «Интерьера» Дега больше не экспериментировал с нарративностью и постепенно избавился от своей чрезмерной сосредоточенности на выражениях лица. Через десять лет, когда в сюжетах Дега на первый план выйдут прославившие его балерины, лошади и занятые туалетом женщины, о лицах на его картинах можно будет сказать только одно: их просто нет. Ему намного интереснее стала женская спина.
Пройдет почти сорок лет, прежде чем он снова напишет портрет семейной пары.
В свой черед Мане перестал увлекаться постановочным студийным псевдореализмом – с переодеваниями, ролевыми играми и эффектными вариациями на тему старых мастеров. Под влиянием Клода Моне он обратился к пленэрной живописи, и чем дальше, тем большую роль в его картинах стал играть свет. Новых предложений съездить вместе в Лондон или позировать друг другу не последовало. Они остались друзьями, но уже без прежней близости, без чувства, что они во всем заодно. И все-таки, если верить Джорджу Муру, который хорошо знал обоих художников, такого друга, как Мане, у Дега больше не было.
Одно можно сказать с уверенностью: Дега не переставал восхищаться Мане-художником, хотя и старался не подавать виду. Один их общий приятель так рассказывал о визите Дега в мастерскую Мане: «Дега посмотрел на рисунки и пастели. Притворился, что от усталости у него болят глаза и он не очень хорошо видит. Он почти ничего не сказал. Вскоре Мане встретил знакомого, и тот вдруг ему говорит: „На днях я столкнулся на улице с Дега. Он только что вышел из вашей мастерской и был в полном восторге, в потрясении от всего, что вы ему показывали“. Мане покачал головой: „Вот стервец…“»
Берта Моризо тоже не перестала любить Мане. Но их роман не мог привести к счастливому концу. Мане сам подталкивал ее к браку со своим родным братом Эженом, и она рассудила, что ей, пожалуй, стоит согласиться: это лучше, чем выйти замуж за кого-то еще, раз уж ей не суждено быть женой Мане. Хотя все могло обернуться не лучше, а хуже: Эжен далеко не Эдуар. «Мое положение безысходно, с какой стороны ни посмотри», – печально заключила она, взвешивая все за и против. В конце концов она все же дала согласие на этот брак, и Дега не упустил случая (как всегда) тут же написать портрет Эжена.
У Берты и Эжена родилась дочь Жюли Мане, которую Берта обожала.
Эдуар Мане умер весной 1883 года. Он длительное время страдал от спинной сухотки (локомоторной атаксии – нарушения чувствительности конечностей), развившейся вследствие запущенного сифилиса, и последние полгода жизни художник терпел неотступные режущие боли. В марте 1883 года ему поставили диагноз «гангрена левой ноги», и в апреле ногу ампутировали. Операция его не спасла. Через одиннадцать дней он умер.
Дега среди многих других остро переживал утрату друга.
После смерти Мане в его личной коллекции не было обнаружено ни одной работы Дега. Зато после смерти Дега в 1917 году миру предстало богатое собрание неизвестных прежде «мане»: восемь живописных полотен, четырнадцать рисунков и свыше шестидесяти гравюр.
Свою великолепную коллекцию (одно время он даже подумывал о создании музея) Дега собрал в 1890-е годы, десять с лишним лет спустя после безвременной смерти Мане. В то время Дега начал зарабатывать достаточно денег, чтобы позволить себе коллекционирование, которое стало его страстью. Помимо многочисленных произведений Мане (некоторые хранились у него еще с прежних времен), он приобретал картины и рисунки своих кумиров – Энгра, Делакруа и Домье. Покупал он и работы художников молодого поколения, включая Сезанна и Гогена; гравюры и пастели Мэри Кэссет; картины Камиля Коро. Кроме того, в его коллекции оказалось более сотни ксилографий, иллюстрированных книг и рисунков японских художников.
Двадцать лет спустя, к началу Первой мировой войны, о его баснословной коллекции знали только по слухам. Под конец жизни Дега практически ослеп и никого к себе не допускал. Когда собрание покойного живописца попало на рынок, художественный мир был потрясен. «Событием сезона» назвал журнал «Искусство» (Les Arts) три аукциона в марте и ноябре 1918 года, на которых распродавалась коллекция Дега. (Еще на пяти торгах с молотка пошли работы самого Дега.) Американские коллекционеры, вроде Луизины Хэвмейер, и музеи ранга Метрополитен в Нью-Йорке спешно слали распоряжения своим парижским агентам. Лувр тоже не остался в стороне, тем более что большинство представленных в коллекции Дега художников были французы. Но сливки достались Лондону. Видный экономист Джон Мейнард Кейнс, входивший кружок английских интеллектуалов, писателей и художников под названием Группа Блумсбери, прислушался к мнению своего друга, художественного критика Роджера Фрая, и понял, что такой случай упускать нельзя. Он сумел убедить Британское казначейство выделить не имевшей собственных средств лондонской Национальной галерее разовую целевую субсидию в размере 20 000 фунтов для участия в торгах.
Кейнс лично отправился в Париж, когда в Европе еще полыхала война. Немцы вплотную подошли к городу и обстреливали его из тяжелых орудий. Обстановка была нервозная. В аукционный зал галереи Жоржа Пети доносился грохот канонады. Спутник Кейнса Чарльз Холмс вспоминал, что после очередного разрыва, прогремевшего как будто совсем рядом, «люди повскакали с мест и устремились к дверям», позабыв про торги и думая только о собственной безопасности. Большинство из покинувших зал так туда и не вернулись, и в результате многие шедевры пошли в тот день с молотка при сильно сократившемся числе претендентов на покупку. Кейнс и Холмс проявили хладнокровие – и британские любители искусства оказались в выигрыше.
Коллекционирование – даже если коллекционер и сам художник – занятие, в основе которого лежит механизм сублимации, преобразующий жажду удовольствия в разумную деятельность, хаос в порядок. А еще это способ что-то возвратить, восстановить, воскресить.
С этой точки зрения собранная Дега коллекция произведений Мане может поведать удивительную личную историю. На многих из них изображены люди, сыгравшие ключевую роль в короткой, но яркой жизни Мане и, пусть опосредованно, оставившие свой след в жизни Дега. Был там, например, портрет Берты Моризо – в живописном варианте и в виде гравюры. На нескольких гравюрах запечатлен Леон. Прекрасный офорт с головой Мане-отца, два других – с портретом Бодлера. Все вместе они составляют компанию знакомых лиц. Дега жил среди этих изображений, и они постоянно напоминали ему о том, что было время, когда он обладал особым пропуском в такой заманчивый и мало кому доступный таинственный мир Мане.
Впрочем, даже тогда он чувствовал, что есть дверь, которая всегда будет для него закрыта. И в этом смысле его коллекция отчасти компенсировала то, чего недоставало в жизни. Она позволяла ему, несмотря на ход времени, по-прежнему ощущать связь с теми, кого в реальности он так и не сумел до конца узнать, понять, удержать. И первым среди них был Мане.
Что касается поврежденных картин – в частности, той, которая стала камнем преткновения в его дружбе с Мане, – то у Дега срабатывал инстинкт самосохранения, и подобные травмы не были для него губительными. Он не мог вечно обижаться на Мане за то, что тот изувечил его работу. «Разве можно надолго рассориться с Мане?» – сказал он Воллару.
Пожалев о том, что в сердцах отослал Мане подаренный натюрморт («Как он был красив, этот маленький этюд!» – сокрушался он), Дега попытался его вернуть, но, увы, было уже поздно: Мане его продал.
Дега собирался восстановить испорченный портрет Мане и Сюзанны. Он уже и холст подготовил, как следует из его рассказа Воллару, с намерением дописать фигуру Сюзанны и потом вернуть картину Мане. Да так и не собрался – «откладывал со дня на день, и в итоге все осталось как есть».
Примечательно, что спустя годы он приложил немало усилий, чтобы восстановить другой разрезанный холст – не свой, а Эдуара Мане. Речь идет об одной из четырех картин, написанных Мане в конце 1860-х годов – примерно в то же время, когда Дега создал портрет Мане и Сюзанны. Все они были посвящены казни смещенного мексиканского правителя Максимилиана (цв. ил. 4). Картины носили характер политической декларации Мане и выражали протест против жалкой и беспринципной внешней политики Наполеона III. В них он предпринял попытку совместить собственный оригинальный стиль с отжившим свой век жанром исторической живописи.
Поскольку Мане всегда оставался самим собой – и поскольку в крови у него бурлил азартный дух репортажа, побуждая ценить неопределенность настоящего более, чем слежавшуюся пыль прошлого, – сюжетом этих «исторических» картин стало злободневное событие. Австрийский эрцгерцог Максимилиан Габсбург по инициативе французского правительства Наполеона III получил титул императора Мексики. В стране был установлен марионеточный режим, целиком зависевший от поддержки европейских держав, и прежде всего Франции. Но когда мексиканские республиканцы подняли восстание против Максимилиана, французы бросили своего ставленника на милость победителя. В 1867 году мятежники взяли его в плен и расстреляли. Французские газеты замалчивали эту новость, но пресса других стран широко ее освещала, и вскоре нелицеприятная правда вышла наружу. Европейская общественность содрогнулась от ужаса и стыда.
Попытки Мане совладать с актуальной для того времени темой растянулись на три года (те самые три года, когда они с Дега были особенно близки: 1867–1869). Мексиканские события все время обрастали новыми подробностями и уточнениями, по мере того как на поверхность всплывали скрываемые ранее факты. Замысел Мане тоже не раз трансформировался. Стоявшие перед ним задачи в чем-то перекликались с теми вопросами, на которые стремился ответить Дега, работая над «Интерьером» и портретом Мане и Сюзанны. Как можно посредством картины рассказать некую историю – или, наоборот, как уйти от рассказа? На каких весах отмерить оптимальную меру эксплицитности? Какой конкретно момент запечатлеть? Роковую долю секунды, разделившую жизнь и смерть, самый миг убийства? Или здесь уместнее проявить широту и гибкость, охватить временной диапазон, который вобрал бы в себя исторический контекст и подразумевал бы моральную оценку?
А дальше, конечно, возникала проблема выразительности лиц. До какой степени детализировать лица солдат расстрельного взвода? И насколько эмоциональными должны быть лица Максимилиана и двух его генералов, глядящих в лицо смерти?
В итоге Мане создал четыре больших варианта на эту тему. В наши дни их причисляют к шедеврам, в которых драматический накал сюжета парадоксальным образом усилен холодной, как бы лишенной всякого авторского отношения трактовкой. Но в то время титанические усилия Мане, как это нередко с ним случалось, пропали втуне. Мексиканская трагедия была все еще слишком на слуху, слишком очевидно бросала тень на французское правительство, и власти запретили художнику выставлять картины.
«Какая жалость, что Эдуар упрямо продолжал напрасную работу! – сокрушалась Сюзанна, вспоминая постигшую его неудачу. – За это время он мог бы написать столько прекрасных вещей!»
Незадолго до смерти Мане разрезал один из вариантов «Казни императора Максимилиана» – тот, что хранился в его мастерской (причина опять-таки нам неизвестна). На отрезанном куске оказалась часть фигуры Максимилиана и фигура казненного вместе с ним генерала Мехи. После смерти художника его наследник Леон, сперва продержав полотно в каком-то непригодном для живописи хранилище, разрезал его еще на несколько частей. «Я подумал, что сержант лучше смотрится без ног, а то брюки висели, как тряпка», – объяснял Леон. Центральную часть полотна – сбившихся в кучу солдат со вскинутыми ружьями – он позже продал Воллару.
К тому времени Дега уже выкупил у Леона другой кусок расчлененной картины, на котором сержант заряжает ружье, чтобы добить раненых. По воле случая Воллар и Дега отдали свои куски в работу одному и тому же реставратору, и тот показал Воллару фрагмент, доставшийся Дега. Узнав от Воллара, что они независимо друг от друга купили две части, вырезанные из одной картины, Дега пришел в бешенство. Он послал Воллара к Леону для спасения недостающих частей и потом как мог собрал всё воедино.
(Этот не полностью восстановленный холст был приобретен Кейнсом на распродаже коллекции Дега в 1918 году и висит теперь в лондонской Национальной галерее.)
Когда кто-то из его гостей останавливался перед склеенной из кусков картиной, Дега сердито ворчал: «Семья и здесь постаралась! Уж лучше вовсе без семьи!»
Всего через полтора года после смерти Мане Дега написал другу: «В сущности, я не склонен к любви. А если когда-то и был, то эта способность не развилась за неимением семьи и прочих невзгод. Со мной осталось лишь то, чего у меня не отнять, – не много… Это говорит Вам тот, кто желал бы провести остаток дней и умереть в полном одиночестве, и не надо мне никакого счастья».
Он проживет еще тридцать три года.
Матисс и Пикассо
Стоило одному приметить в работе друга смелую находку, как тут же все заделались смельчаками.
Анри Матисс
Весной 1906 года, рассудив, что бояться ему нечего, Анри Матисс впервые посетил мастерскую Пабло Пикассо. Он пошел не один: с ним были его дочь Маргарита (Маргерит) и коллекционеры Гертруда и Лео Стайн, брат и сестра, американские евреи, незадолго до того перебравшиеся в Париж.
Мастерская Пикассо находилась на Монмартре – на другом берегу Сены. Стоял погожий весенний день, и все четверо решили пройтись пешком. Лео был высокий, жилистый, с косматой бородой. Брат и сестра одевались весьма странно. Оба разгуливали в кожаных сандалиях, а Гертруда вдобавок носила мешковатый костюм из коричневого вельвета. Двенадцатилетняя Маргарита очень переживала, как бы кто-нибудь из знакомых не увидел ее на модной авеню Опера́ в такой чудно́й компании. Но Стайнов совершенно не заботило, что о них думают другие.
Пикассо было тогда двадцать четыре, Матиссу тридцать шесть. Оба подошли к очень важному, во многом решающему моменту в своей карьере. Их положение было еще непрочно, но впервые за годы борьбы и сомнений оба начали получать какое-то, быть может временное, признание. И главную роль в этих едва наметившихся переменах к лучшему – если оставить в стороне творческий гений художников – несомненно играл Лео Стайн. В предыдущие несколько месяцев они с Гертрудой установили прочные связи с каждым из художников в отдельности и теперь, по вполне понятным причинам, решили их познакомить. Стайнам хотелось посмотреть, как с самого начала будут складываться их отношения, а в том, что эти отношения окажутся плодотворными, у американцев не было ни малейшего сомнения.
У себя в студии Пикассо с волнением ожидал гостей. Показать свои работы художнику-конкуренту – значит все поставить на кон. Живший в XVI веке итальянский скульптор фламандского происхождения Джамболонья любил рассказывать историю, ставшую впоследствии знаменитой (в 1995 году ее прекрасно изложил английский поэт Джеймс Фентон). В молодые годы, еще не освоившись в Риме – точно так же, как Пикассо еще не освоился в Париже, – он представил на суд великого Микеланджело небольшую, вылепленную из воска, но виртуозно проработанную скульптурную модель. Поверхность ее была настолько безупречна, что казалось, фигура вот-вот оживет. Микеланджело, бывший тогда в зените славы, взял модель в руки, внимательно рассмотрел со всех сторон, потом опустил на стол, занес кулак и со всей силы обрушил его на восковую фигурку. И так он проделал несколько раз, пока не превратил ее в бесформенную кучку воска. Все это на глазах у Джамболоньи. И так же у него на глазах Микеланджело стал лепить из воска что-то свое. Закончив, он вручил молодому человеку новую модель со словами: «Теперь иди и, прежде чем изощряться в отделке, научись сперва моделировать фигуру».
Матисс никогда бы не стал вести себя подобным образом. Хотя бы потому, что, несмотря на их с Пикассо разницу в возрасте, его статус в мире искусства не имел ничего общего со статусом Микеланджело в эпоху Высокого Возрождения. Но дело не только в этом – поступок Микеланджело слишком напоминает реакцию человека, который почуял в другом серьезную угрозу собственному авторитету. В отличие от великого итальянца, Матисс гордился своей способностью не просто терпеть соперников, но благодаря им открывать в себе новые возможности. Индивидуальность художника формируется в борьбе, в столкновении с другими индивидуальностями, сказал он однажды, а в другой раз признался, что, конечно, испытывал влияния, но всегда умел над ними возвыситься.
С тех пор как Пикассо переехал из Барселоны в Париж, не прошло и двух лет. Он еще не научился свободно говорить по-французски. Но у этого низкорослого, крепко сбитого испанца такая харизма, что даже сильным и ярким личностям приходится порой посторониться. Он живет со своей любовницей Фернандой Оливье и держит дома большую собаку по кличке Фрика – помесь немецкой овчарки и бретонского спаниеля. Втроем они ютятся в скудно обставленной комнате ветхого барака, общежития для нищих художников, прозванного за свою нелепую архитектуру «плавучая прачечная» – Бато-Лавуар. Эта же комната служит ему мастерской, куда ни глянь – всюду кисти, холсты, краски, мольберты. Летом там невыносимое пекло, зимой зуб на зуб не попадает от холода: уголь для печки стоит дорого.
У Матисса коротко остриженные волосы и густая борода, на лбу глубокая поперечная морщина, на носу очки, и живет он на другом конце города. На первый взгляд между самими художниками и обстоятельствами их жизни нет никакого сходства. Начать с того, что Матисс женат. Но ему тоже приходилось несладко. Долгие годы он и его жена Амелия (Амели) с трудом сводили концы с концами, пока Матисс с завидным упрямством пытался доказать, что как живописец чего-то стоит: он сравнительно поздно начал заниматься искусством и далеко не сразу нащупал свой путь. Временами дела его шли так худо, что он не мог позволить себе новый холст: приходилось соскребать краску со старых и использовать их повторно.
Всего три года назад, в 1903-м, Матиссы пережили страшный позор: родители Амелии, Катерина (Катрин) и Арман Парейр, сами того не ведая, оказались замешаны в грандиозной финансовой афере, разорившей бесчисленное множество кредиторов и вкладчиков по всей Франции. Правительству грозила отставка, банки балансировали на грани банкротства, по стране прокатилась волна самоубийств. Во главе мошеннической схемы стояла Тереза Юмбер, жена депутата парижского Городского собрания, которому супруги Парейр преданно служили – не просто вели дела, но были доверенными лицами депутата, всегда и во всем его поддерживали. Из-за столь тесных связей подозрение пало и на Парейров. Отца Амелии взяли под стражу, повсюду, даже в мастерской Матисса, шли обыски, обманутые вкладчики угрожали расправой. Родители Амелии в одночасье превратились в изгоев без гроша за душой.
Эта катастрофа донельзя осложнила положение неудачливого живописца. В родном городке на севере Франции его «неумелые картинки» и раньше никто всерьез не принимал. (Да и то сказать, разве это занятие для мужчины? Просто курам на смех!) Матисс не выдержал стресса – перенес нервный срыв и на два года практически прекратил писать.
Со временем он пришел в себя. Но после скандала вокруг аферы Юмбер Матиссам было чрезвычайно важно – в отличие от молодых и беспечных Пикассо и его подружки Фернанды Оливье – поддерживать репутацию добропорядочной, респектабельной семьи. К тому же у них было трое детей, и значит, им, родителям, тем более следовало вести себя осмотрительно и всегда помнить о приличиях. Младшему, Пьеру, еще не было шести. Жану исполнилось семь. Старшей, Маргарите, было на пять лет больше. У нее была ямочка на подбородке и вьющиеся пушистые волосы, которые она собирала в хвост или свободный узел на затылке. На шее она носила бархотку, оттенявшую блеск больших черных глаз. Но бархотка служила не просто украшением: под ней скрывался некрасивый шрам.
Пикассо был наслышан о Матиссе задолго до их личного знакомства. Едва ли он мог оставить без внимания тот факт, что маршан Амбруаз Воллар, походив несколько лет кругами, в 1903 году устроил Матиссу первую персональную выставку, поскольку еще раньше, в 1901-м, тот же Воллар устроил персональную выставку ему самому. Тогда девятнадцатилетний Пикассо даже не был парижским жителем, хотя и надеялся им стать. Предложение Воллара давало шанс осуществить мечту. Рецензии на выставку тоже внушали надежды. Критик Фелисьен Фагю с похвалой отозвался о «потрясающей технике» молодого испанца.
Пикассо привык быть в центре внимания. Он вырос в интеллигентной семье и, сколько себя помнил, со всех сторон слышал про свою одаренность. Но выставка у Воллара не принесла желаемых плодов, хотя успех, казалось, был не за горами. Следующие три года жизни Пикассо были отравлены трагическим происшествием.
Первую поездку в Париж Пикассо предпринял в октябре 1900 года в связи с тем, что его картину «Последние мгновения» – большое, драматическое по сюжету полотно в духе так называемого каталонского модернизма – отобрали для показа в Испанском павильоне Всемирной выставки, и это само по себе было невероятным достижением восемнадцатилетнего художника. Чтобы полнее насладиться своим торжеством, Пикассо поехал в Париж не один, а вместе с закадычным другом художником Карлесом Касахемасом. Касахемас, старше Пабло всего на год, но намного более образованный (он был сыном дипломата), психологически являл собой полную ему противоположность. Чувствительный, ранимый, вечно неуверенный в себе юноша питал неодолимую слабость к морфию – и к Пикассо, полагая, что только несокрушимая энергия и бойцовский характер друга способны уберечь его, Касахемаса, от душевной катастрофы. Они оба отказались учиться в академии и вели богемный образ жизни бунтарей-модернистов. В Барселоне они на пару снимали студию, на пару и отправились в Париж, где сразу попали в круг обитавших на Монмартре испанских экспатриантов. Они вместе ходили на выставки и оба пристрастились к танцзалам и кафе Монмартрского холма. У них все было общее – жилье, модели, любовницы.
Одной из таких любовниц была двадцатилетняя натурщица-прачка Лора Флорантен, присвоившая себе имя Жермена. Касахемас совершенно потерял из-за нее голову, но в конце концов она его отвергла, якобы по причине его импотенции. Дружба Пикассо и Касахемаса не обходилась без шпилек и насмешек, по большей части односторонних: так, Пикассо охотно упражнялся в шаржах на Касахемаса, утрируя его унылый облик, длинный нос и тяжелые веки. На слухи о его импотенции Пикассо откликнулся рисунком: голый Касахемас боязливо прикрывает руками гениталии.
В декабре 1900 года приятели вернулись в Испанию и вместе встретили в Малаге Новый год. После чего Пикассо на время уехал в Мадрид, а Касахемас – обратно в Париж в надежде вновь покорить Жермену.
17 февраля 1901 года доведенный до отчаяния Касахемас созвал друзей на ужин в монмартрском кафе. В девять часов он поднялся с места, сунул Жермене в руки пачку писем и разразился безумной и бессвязной речью. Верхнее письмо было адресовано начальнику полиции. Едва заметив это, Жермена заподозрила неладное. Она нырнула под стол в ту самую секунду, когда Касахемас выхватил из кармана пистолет и выстрелил в нее. Не сообразив, что промахнулся, он приставил пистолет к виску и с криком «А это мне!» застрелился. Той же ночью в больнице он умер.
Нелепая, жуткая смерть Касахемаса ввергла Пикассо в состояние, близкое к невменяемости. Происшедшее неотвязно его преследовало – тем более что вскоре Жермена стала его любовницей… Он снова приехал в Париж: спал с Жерменой в постели Касахемаса и работал в его опустевшей мастерской.
С этого начался его так называемый «голубой» период. Все больше погружаясь в нищету и депрессию, он писал откровенно меланхоличные, пронизанные безысходностью картины, которые мало кому могли прийтись по вкусу. Под стать его тогдашнему настроению была голубая палитра; круг сюжетов охватывал нищих и слепцов, циркачей и бродячих музыкантов – у всех изможденные фигуры и глубоко запавшие глаза.
Все вокруг считали, что он попусту тратит свой талант и упускает шанс, который давала ему выставка у Воллара.
И действительно, после пяти лет нужды и разочарований он столкнулся с тем, что все обсуждают не его, а Матисса. Минувшей осенью, после судьбоносного лета на побережье Средиземного моря, в Коллиуре, где Матисс увлеченно работал на пару с Андре Дереном, художник выставил серию небольших пейзажей и портретов, ошеломивших зрителей неестественным буйством цвета. Было это на Осеннем салоне 1905 года. Основанный в 1903 году Огюстом Роденом и Пьером Огюстом Ренуаром Осенний салон представлял собой альтернативу нескольким ежегодным выставкам последних достижений в области изобразительного искусства, отличаясь от них более молодым составом участников и более свободным подходом к отбору произведений. Публика встретила работы Матисса враждебно, отзывы критики в большинстве своем тоже были резко отрицательными. По словам депутата-социалиста Марселя Семба, «почтенная публика увидела в нем воплощение Беспорядка, грубого и бесповоротного разрыва с традицией… фигляра в дурацком колпаке». Крик поднялся такой, что Матиссу хватило одного визита на выставку, а жене Амелии он и вовсе запретил там появляться из опасения, что ее могут узнать и прилюдно оскорбить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































