Текст книги "Искусство соперничества. Четыре истории о дружбе, предательстве и революционных свершениях в искусстве"
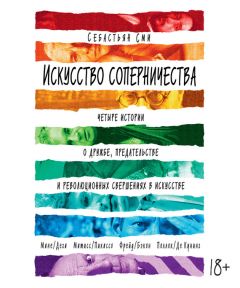
Автор книги: Себастьян Сми
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Картина прекрасна – она изумительно написана, композиционно выверена, радует глаз «брызгами» роскошного цвета. Но если анализировать ее с психологической точки зрения, то атмосфера этой домашней сцены до крайности напряжена. Две маленькие дочери Беллелли, в темных платьях с большими белыми передниками, составляют единую группу с матерью; позы их несколько скованны и в то же время неспокойны. Между родителями, Лаурой и Дженнаро, явно ощущается отчуждение с оттенком взаимной неприязни. Это не просто видимость. В то время, когда Дега писал портрет тетушки Лауры, она чувствовала крайнюю безысходность, оказавшись запертой, как она говорила в письмах племяннику, в «ненавистном чужом краю», да еще с мужем, которого считала человеком «чрезвычайно беспардонным и бесчестным». Он не занят никаким серьезным делом, писала она, и потому не может справиться со своим дурным настроением. Она вконец отчаялась. Не блещущая здоровьем Лаура была беременна третьим ребенком и носила траур по недавно умершему отцу (отсюда на картине ее траурное платье и портрет покойного деда Дега на стене позади нее). Она не на шутку опасалась за свой рассудок. «Вот увидишь, я так и умру здесь, на чужбине, вдали от всех, кому я еще дорога», – писала она племяннику, которого искренне любила и в котором обрела единственное утешение и поддержку.
Жизнь в доме Беллелли – единственный в биографии молодого Дега опыт непосредственных, личных впечатлений от супружеских взаимоотношений, и опыт этот нельзя назвать удачным. Вкупе с его собственными природными наклонностями он окончательно убедил Дега в том, что серьезное творчество и женитьба – вещи несовместные.
Возвращаясь к злополучному портрету Мане и его жены, следует уточнить, что это картина не только о семейной паре, но и о музыке. Дега не случайно решил изобразить Мане в ту минуту, когда он слушает игру Сюзанны. С тех пор как Дега стал регулярно бывать у Мане в квартире на улице Санкт-Петербург, он успел хорошо узнать Сюзанну. Сам большой меломан, он не мог не оценить ее незаурядный музыкальный талант. Судя по отзывам, она была блестящей пианисткой. Она не только играла дома для гостей, но старалась познакомить свой ближний круг с другими музыкантами, в том числе с четырьмя сестрами Клас – их струнный квартет часто приглашали выступать в разных местах. К ее кругу примыкали и такие популярные в то время композиторы, как Эммануэль Шабрие и Жак Оффенбах.
Кроме того, по средам он, как правило, встречался с Сюзанной на вечерах у художника Альфреда Стевенса, а по понедельникам отец самого Дега устраивал небольшие концерты у себя, на улице Мондови. Во всех случаях общество собиралось главным образом для того, чтобы послушать музыку. Французы тогда уже открыли для себя Вагнера, от которого многие, например Бодлер, пришли в неистовый восторг. Теперь же у всех на языке был еще один немец – Шуман. В кружке Мане музыку Шумана кто-то впервые услышал в исполнении Сюзанны.
Сам Мане музыкальным слухом, по-видимому, не обладал. Иногда он мог с удовольствием послушать какой-то концерт (говорят, ему нравился Гайдн), но дальше этого его интерес не простирался. Дега, напротив, был истинный меломан и с двадцати лет брал сезонный абонемент в оперу. Что касается его музыкальных вкусов, то Дега шел обычно против течения: высмеивал культ Вагнера, предпочитая ему Верди. Среди прочих композиторов он выделял Глюка, Чимарозу и Гуно, иначе говоря, был в своих пристрастиях довольно консервативен. Он водил дружбу с композиторами (упомянем Жоржа Бизе) и музыкантами, среди которых, не считая Сюзанны, были пианистка-любительница мадам Камю, фаготист Дезире Дио и его сестра пианистка Мари, а также тенор и гитарист Лоренцо Паган. Все перечисленные музыканты изображены на картинах Дега в момент исполнения, чаще всего вместе с каким-нибудь слушателем, как на портрете Мане и Сюзанны.
Эти картины с музыкантами, играющими в домашней обстановке, датируемые периодом между 1867 и 1873 годом, представляют собой важнейший переходный этап в постепенном продвижении Дега к живописным циклам, которые сделали его по-настоящему знаменитым – истинным «Дега»: заполненные музыкантами оркестровые ямы, представления в кафе-концертах, а самое главное – репетиции в балетном классе. Эти более поздние, прославившие Дега композиции, эти схваченные на лету, словно тайком подсмотренные сценки фокусируются преимущественно на физическом движении, тогда как картины с домашними исполнителями и слушателями по-прежнему глубоко связаны с движениями души – с психологией.
Музыкальные вечера в узком кругу были для Дега не только приятным развлечением. Он вовсе не стремился проиллюстрировать или расцветить свою любовь к музыке посредством соответствующих жанровых сценок. Нет, он искал здесь чего-то иного, чего-то, что не давало ему покоя с тех пор, как он написал «Женщину у вазы с цветами». В этой связи он сделал одно любопытное наблюдение: когда люди слушают музыку, они забываются. Их склонность так или иначе преподносить себя, невольно настораживаться, поймав на себе чей-то взгляд, внезапно испаряется и уже не мешает видеть правду. Они теряют способность каждый миг себя контролировать. И значит, в такие минуты что-то более глубинное и подлинное проступает, блуждает на лицах. Дега вознамерился это ухватить.
Почему все-таки Мане и Сюзанна согласились позировать Дега? К тому времени Сюзанна уже хорошо знала Дега, и ей, вероятно, пришлось по сердцу, что один из самых одаренных художников современности, к тому же образованный человек из хорошей семьи, пожелал увековечить – и тем самым, пусть очень опосредованно, легитимизировать – ее союз с Мане.
Мане в свою очередь находился под впечатлением от нескольких рисунков и гравюр, на которых Дега его запечатлел между 1864 и 1868 годом. Это были легкие по настроению, обаятельные образы: подкупающе жизнерадостный, элегантный Мане стоит, наблюдая за скачками, или непринужденно сидит на деревянном стуле в своей мастерской. Глядя на эти портреты, нельзя не почувствовать искреннее восхищение художника своей моделью. Наверное, Мане не прочь был посмотреть, что получится у Дега в красках, если образ будет решен примерно в том же духе. Однако первые пробы сил на бумаге (сопоставимые по решаемым в них задачам с тремя рисунками, которые Люсьен Фрейд сделал с Бэкона, прежде чем приступить к его портрету) не были, как стало понятно задним числом, самоцелью: с их помощью Дега подбирался к решению задач иного уровня. Учился проницательнее смотреть, глубже анализировать.
В то время многие художники-батиньольцы с увлечением писали друг друга в повседневной обстановке – дома и в мастерской, весело импровизируя и по-дружески состязаясь друг с другом. Так что задуманный Дега портрет Мане и Сюзанны был вполне в духе этого поветрия. Один из самых известных групповых портретов той поры создал Фредерик Базиль в 1870 году – вскоре после того, как Дега завершил семейный портрет Мане (всего через несколько месяцев Базиль погибнет в бою на полях Франко-прусской войны). На картине Базиля Мане с видом наставника стоит перед полотном на мольберте в мастерской, которую Базиль снимал на пару с Ренуаром. Холст на мольберте – работа Базиля. На стенах, как немой упрек жюри парижского Салона, висят полотна Базиля и Ренуара – все они, большие и маленькие, были в разное время отвергнуты. В дальнем углу за пианино – Эдмон Метр. Другие присутствующие, личность которых доподлинно не установлена, – возможно, среди них есть Закари Астрюк, Клод Моне и Ренуар, – разбившись на группы, о чем-то беседуют. Картина отражает добрые приятельские отношения, связывавшие молодых художников-единомышленников, но вместе с тем подчеркивает бесспорный авторитет Мане (он единственный из шестерых бородатых мужчин изображен в шляпе) и его готовность с высоты этого авторитета руководить своими менее опытными товарищами и даже что-то подправить в их работе. Базиль уверял, что Мане собственноручно добавил долговязую фигуру с палитрой в руке справа от мольберта: это не кто иной, как сам Базиль, и, судя по его позе, он с благодарностью ловит каждое слово Мане.
Дега не единственный, кто запечатлел облик Мане в живописи, – незадолго до него это сделал Фантен-Латур, но были и другие. Да и сам Дега написал несколько портретов знакомых художников, в том числе Джеймса Тиссо, прежде чем взялся за портрет Мане и Сюзанны. Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что никто из батиньольцев («банды Мане») ни разу не попытался написать портрет Дега.
Позировать для портрета означает жертвовать своим временем. От модели требуется немалое терпение. Выдержка. Смирение. Вполне возможно, что никто из батиньольцев просто не мог себе представить в этой роли блестящего молодого Дега, хотя он и был один из них. А может быть, они побаивались, что он не удержится от критики, причем не столь доброжелательной и необидной, какую они привыкли слышать от дипломатичного Мане.
В отличие от Мане, который в любом обществе чувствовал себя как рыба в воде, Дега был рожден одиночкой. И других мерил собственной меркой – меркой абсолютной преданности делу. «Есть любовь, и есть дело, – говорил он, – а сердце у нас одно».
Во всяком случае, таким он был в глазах окружающих. Догадывались ли его друзья, что это тот самый Дега, который наедине с собой чувствовал себя «таким слабым», как он признался в письме Валерну? Который, несмотря ни на что, втайне тосковал по семейным радостям, по детям? Который страшился одиночества и мучился сознанием, что сердце – «инструмент, который от долгого бездействия ржавеет»? Который риторически вопрошал: «Без сердца какой ты художник?»
К началу работы над портретом Мане и Сюзанны Дега столько размышлял о браке, что эта тема обрела для него характер навязчивой идеи. В Рождество 1867 года – вскоре после неудачи с показом «Семейства Беллелли» – он сделал первый эскиз для работы, которую впоследствии станет называть «моя жанровая картина». Ее провозгласят «шедевром» – если не «главным шедевром» – Дега, а ее датировка, 1868–1869 годы, полностью совпадает с датировкой портрета Мане и Сюзанны.
На картине (цв. ил. 2) мужчина и женщина в полутемной спальне, тусклый свет падает от настольной лампы в центре. Женщина в нижней рубашке, спадающей с плеча, сидит в левой части картины спиной к мужчине, словно убитая горем или стыдом. Ее накидка и шейный платок брошены в изножье кровати, на полу валяется корсет.
Картина, больше известная сейчас как «Интерьер», долгое время бытовала еще и под названием «Насилие» – с легкой руки литераторов, лично знавших Дега и утверждавших, будто бы это и есть авторское название. (Впрочем, другие свидетели из круга знакомых Дега уверяли, что художник вовсе не вкладывал такой смысл в свой сюжет и страшно негодовал по поводу широкого хождения этой версии.) Второй персонаж картины – высокий, бородатый, полностью одетый мужчина – стоит, заложив руки в карманы, у противоположной, правой стены, спиной опираясь на дверь, словно преграждая женщине выход; от его фигуры на дверь ложится зловещая тень. Композиция мгновенно рождает ощущение загнанности, безысходности. В центре комнаты, на круглом столике, прямо под лампой стоит раскрытая шкатулка для шитья, изнутри обитая красной тканью. Из-за вспышки красного цвета шкатулка притягивает к себе взгляд. Раскрытая, выставляющая напоказ свое содержимое, она намекает на грубое вторжение в мир интимных тайн.
Картина Дега – результат напряженных раздумий. По устоявшейся традиции «жанровые» картины рисуют сцены из повседневной жизни и, как правило, включают в себя элемент повествования и сопутствующую мораль. Но морализаторство всегда было чуждо Дега – даже в начале 1860-х, когда он упорно трудился над амбициозными салонными полотнами, иллюстрирующими эпизоды из истории и мифологии. В то же время Дега, как это явно следует из его ранних работ, питал повышенный интерес к отношениям между полами. Стремясь привести свое творчество в соответствие с духом времени, он искал способ выразить наболевший вопрос современным языком. В итоге ему пришла в голову мысль решить картину как сцену из спектакля с соответствующими театральными декорациями.
Что же это за спектакль, какая драма разыгрывалась в его воображении? Хотя законченная картина не является прямой иллюстрацией, художник, по-видимому, отталкивался от вполне конкретных сцен в двух только что опубликованных романах Эмиля Золя – «Тереза Ракен» и «Мадлена Фера».
Золя был другом Мане. Они особенно сблизились за два предыдущих года, после того как Золя пылко вступился за художника, когда жюри Салона 1866 года отвергло его картину «Флейтист». Вскоре он влился в кружок Мане, где Дега с ним и познакомился. Хотя впоследствии отношения их испортились (Золя считал, что Дега слишком «зажат», «закрыт на все замки»; Дега же говорил, что Золя «незрелый», вечно «ребячится», и остроумно сравнивал его с «исполином, штудирующим телефонную книгу»), первые года два или три они прекрасно ладили.
В 1867 году Золя написал небольшой очерк о творчестве Мане, выступив адвокатом его искусства. В том же году был опубликован один из его ранних романов, «Тереза Ракен», – он печатался в газете частями и вызвал бурную реакцию. Шумиха вокруг Золя, как и давно устоявшаяся в общественном сознании близость Мане к скандальной фигуре Бодлера, не шла на пользу репутации художника. «В „Терезе Ракен“ есть описание картин, – заметил один въедливый критик, – которые могли бы служить образчиками всего самого энергичного и самого отвратительного, что только способен явить реализм».
В «Интерьере» Дега предпринял попытку – которую никогда больше не возобновил (поскольку это его последняя «жанровая» картина) – помериться силами с литератором, так сказать, на его поле. Он задумал создать картину не менее эмоционально нагруженную, многозначную, психологически сложную, чем какая-нибудь сцена из реалистического романа.
В кульминационной двадцать первой главе «Терезы Ракен» описана ночь после свадьбы Терезы и ее любовника Лорана. Задумав и осуществив свой преступный план избавиться от первого, больного мужа Терезы (в конце концов его утопили), сообщники больше года выжидали, прежде чем пожениться. За это время, терзаемые чувством вины, они внутренне отдалялись друг от друга, так что брачная ночь стала для них тяжким испытанием. Глава начинается так:
Лоран тщательно затворил за собою дверь; минуту он неподвижно стоял, прислонившись к косяку, и тревожно, в смущении, оглядывал комнату. […] Тереза сидела на низеньком стуле, справа от камина. Подперев подбородок рукой, она пристально смотрела на яркое пламя. Когда Лоран вошел, она не обернулась. Она была в нижней юбке и ночной кофточке с кружевами, и жаркий свет камина подчеркивал резкую белизну ее одежды. Кофточка немного спустилась с плеча, обнажив розовое тело…
Камина у Дега нет, зато все остальное почти полностью совпадает. А где не совпадает (скажем, узкая кровать на картине плохо согласуется с идеей брачной ночи), там Дега, вероятно, заимствовал детали (обои в цветочек, «удивительно узкая для двоих кровать», «коврик под круглым столом», «кроваво-красные плиты пола») из столь же драматичной сцены в романе Золя «Мадлена Фера», вышедшем в свет осенью 1868 года.
Но дело не столько в совпадении деталей, сколько в психологической сути этой сцены в «Терезе Ракен»: из-за общей тайны, которая оказалась для них слишком мучительной, Тереза и Лоран утратили способность любить друг друга. Они добились чего хотели, они теперь муж и жена, но, подобно супругам Беллелли, «обречены жить вместе словно чужие».
Когда до Дега дошел слух, что кто-то из попечителей крупного нью-йоркского музея подумывает о приобретении «Интерьера», но не вполне уверен в благопристойности сюжета, художник с присущей ему циничной безапелляционностью заметил: «Я мог бы с чистой совестью приложить к картине свидетельство о браке».
Интригующее совпадение: Дега писал «Интерьер» в то же самое время, когда работал над портретом Мане и Сюзанны. Трудно удержаться от соблазна провести параллели между двумя картинами. На обеих мужчина и женщина разведены к противоположным концам вытянутой по горизонтали композиции. На обеих женщина изображена в профиль (мы видим изящное, тонко выписанное ушко), спиной к мужчине. На обеих в центре некий предмет загадочно красного цвета. Более того, «Интерьер», как и портрет Мане и Сюзанны, показывает нам супружескую пару, в которой нет душевной близости.
Портреты Сюзанны, созданные Мане в разные годы, говорят о его глубокой и длительной привязанности к этой женщине. Но их роман начался, когда ему было всего девятнадцать, и, несмотря на его осторожность и скрытность, нет сомнений в том, что он далеко не всегда был ей верен. Он любил красивых женщин, и они отвечали ему взаимностью. В картине Дега незримо, словно бесплотный дух, присутствует третий персонаж – одна из упомянутых выше красавиц, художница Берта Моризо.
Моризо вошла в кружок Мане и Дега под конец 1867 года. С Мане ее познакомил Фантен-Латур, и случилось это в Лувре – там же, где Мане в свое время повстречался с Дега. Лувр был одним из немногих мест, где художники обоих полов могли свободно общаться, куда они приходили, чтобы самостоятельно, без посредничества учителей и академий, усваивать уроки великих мастеров прошлого. На сей раз их свел не Веласкес – как это было восемь лет назад, когда Мане впервые увидел Дега; Моризо копировала Веронезе, а Мане – висящего неподалеку Тициана.
Моризо была чутка и восприимчива, разбиралась в литературе и уже – в свои двадцать восемь лет – прекрасно владела живописным ремеслом. Прелестное живое лицо обрамляли темные волосы, глубоко посаженные глаза смотрели пристально, испытующе. Между ней и Мане почти тотчас вспыхнуло необъяснимое взаимное влечение.
Она была одной из трех сестер с ярко выраженными артистическими наклонностями. Сестры Моризо были в каком-то смысле зеркальным отражением Мане и двух его братьев – никто из троих сыновей высокопоставленного судейского чиновника не сделал служебной карьеры. Берта и ее сестра Эдма брали уроки живописи у Камиля Коро. (Не говоря о том, что они приходились внучатыми племянницами знаменитому художнику минувшего, восемнадцатого столетия Жану Оноре Фрагонару.) Картины Берты получали благожелательные отзывы критиков и признание коллег по цеху. Во многих отношениях она превосходила большинство современных ей художников-мужчин. Но, подобно другим одаренным женщинам своего класса и века, она разрывалась между стремлением посвятить себя искусству и куда более банальным, но оттого не менее настоятельным желанием полюбить и выйти замуж. К несчастью, репутация талантливого, прогрессивно мыслящего и имеющего все шансы добиться успеха художника была неважным подспорьем для женщины, которая надеялась создать семью в шестидесятые годы XIX века. На этот счет Берта Моризо ничуть не заблуждалась.
Мане увековечит свое чувство к Моризо в серии картин, которые создаст за несколько последующих лет. Эти картины – всего их двенадцать – одно из самых вдохновенных признаний в любви во всей истории искусства. Внешне вполне целомудренные, они источают тайную муку желания (цв. ил. 3). В быстрой смене характера мазков, в чувственной игре оттенков черного, в понятном только двоим кодовом языке атрибутов, которыми он наделяет Берту (веер, бархотка на шее, букетик фиалок, письмо), нельзя не увидеть, что здесь всегдашняя милая беспечность Мане уступает пылкости чувств. Пожалуй, самая поразительная черта этих портретов – взгляд: умный, прямой, отважный взгляд Моризо. В отличие от лиц на прочих портретах Мане, ее лицо всегда выразительно. В этом случае Мане не собирался ни льстить, ни играть – он пытался совладать с напастью. В этом случае он, вопреки обыкновению, смотрит на модель не как актер, иронично играющий свою роль, – он смотрит и видит ее как она есть. Видит ее как личность.
Через Мане Дега тоже познакомился с сестрами Моризо – и тоже был очарован ими. Вообще, весь круг их знакомых с радостью принял Берту и ее сестер, Ив и Эдму. Довольно скоро и Дега, и супруги Мане стали регулярно бывать на вторничных вечерах у мадам Моризо, а сестры Моризо по четвергам приходили к мадам Мане.
Девицам Моризо, кажется, удалось расшевелить Дега. Особенно ему нравилась Берта, и, хотя он едва ли мог не знать о чувстве, вспыхнувшем между ней и Мане, он пытался за ней ухаживать.
Уж не думал ли он помериться силой с Мане? Во всяком случае он мог быть уверен в том, что у него, как у холостяка, прав на это больше, чем у его женатого соперника. Сестры Моризо, со своей стороны, были заинтригованы господином Дега. И у них появилась возможность узнать его поближе. Иногда – не так уж редко – он целыми днями пропадал у них в доме на улице Франклина. Он покорил их тем, что говорил с ними на равных, как с мужчинами. Он был умен и насмешлив. Он был саркастичен. Он откровенно говорил им, что думает. Он их забавлял, тешил их самолюбие, поддразнивал. И в то же время сбивал их с толку своими играми в галантное ухаживание, порой заходя слишком далеко, почти за границу допустимого. В начале 1869 года Берта пишет Эдме: «Месье Дега вошел и сел подле меня с таким видом, будто собрался флиртовать, но весь его флирт ограничился пространным комментарием в духе Соломоновой премудрости: „Женщина – горе для праведника“».
Вскоре после знакомства с Бертой Мане попросил ее позировать для картины «Балкон» – его последней (и неудачной) попытки произвести благоприятное впечатление на посетителей Салона. По меркам того времени подобная просьба могла повлечь за собой нежелательные последствия: отец сестер Моризо был чиновником высокого ранга, а мать – респектабельной хозяйкой светского салона. Позировать для неведомо какой картины живописца, широко известного своими странными фантазиями и небрежным стилем, – рискованный шаг, и любая другая почти тридцатилетняя незамужняя дама хорошо бы подумала, прежде чем согласиться. Но у Берты были веские причины принять это предложение. Как художнику, ей, конечно, хотелось увидеть Мане за работой: она следила за его достижениями и давно оценила его смелый дар. Она хорошо знала его сильные, а возможно, и слабые стороны. (В письме Эдме она сравнивает его картины с «дикими и, пожалуй, слегка недозрелыми плодами» – удивительно меткое наблюдение! – и добавляет: «Это вовсе не значит, что они мне не по вкусу».)
Для новой картины Мане позировала не только Берта. Моделями для других участников группы на балконе послужили скрипачка Фанни Клаус (близкая подруга Сюзанны; ее присутствие должно было, по-видимому, несколько отрезвить Мане), художник Антуан Гийме и Леон, которому исполнилось уже шестнадцать, – его лицо едва различимо в полутемной глубине комнаты. (Заметим в скобках, что в основе композиции – картина глубоко почитаемого Эдуаром Мане Гойи.) Сеансы позирования, происходившие, вероятно, в тот же период, что и сеансы для двойного портрета Дега, растянулись на несколько месяцев, показавшихся Берте целой вечностью. И все это время мать Берты, взявшая на себя роль дуэньи, сидела с рукоделием в уголке мастерской; от ее зоркого взгляда не укрылось смятение дочери и лихорадочное возбуждение Мане, необъяснимые перепады его настроения: в один миг он был полон бодрости и оптимизма, а в следующий вдруг сникал, парализованный мучительными сомнениями.
Несмотря на все ухищрения и внешние приличия, взаимное влечение стало, для Мане и Моризо в равной мере, источником душевной драмы. Берта искала и находила поддержку у сестер и матери. Но в марте 1868 года Эдма дезертировала – вышла замуж за морского офицера, и Берта впала в уныние. Сосредоточиться на собственной работе мешали назойливые попытки родни подыскать ей подходящего мужа. На портретах Мане она выглядит взволнованной и одновременно сердитой, терзаемой тайной тоской.
А тут еще Мане, как назло, увлекся – правда, мимолетно – талантливой молодой испанской художницей Евой Гонсалес. Ей было всего двадцать. Испанофил Мане просто не мог пройти мимо такого чуда. Она напросилась к Мане в ученицы (Моризо всячески этого избегала), и тот вскоре принялся писать ее портрет. Однажды мать Берты, мадам Моризо, нагрянула в мастерскую Мане – под предлогом вернуть взятые у него книги – и застала там позирующую Гонсалес, о чем немедленно доложила в письме дочери. «Нынче не ты у него на уме, – писала она. – Мадемуазель Г. – вот кладезь всех добродетелей, всех мыслимых достоинств».
Вряд ли это улучшило Берте настроение. Возможно, мадам Моризо не меньше других симпатизировала Мане, но сложившаяся нездоровая ситуация ее не устраивала. Она беспокоилась за дочь. В письме Эдме она рассказала, как вошла в комнату Берты и увидела, что та лежит «в постели, уткнувшись носом в стену, чтобы никто не видел ее слез… На этом с художниками покончено, – заключила она. – Они все безмозглые пустозвоны. Флюгеры! Им бы только играться».
Но Эдма не была убеждена в справедливости столь сурового вердикта. Она призналась Берте, что ее «безумное увлечение Мане» осталось в прошлом (да и как иначе, она теперь замужняя женщина), но что ее по-прежнему интригует Дега. Он совсем другое дело, уверяла она, ему не откажешь в уме, он насквозь видит притворство и ханжескую высокопарность. «Толкование Соломоновой премудрости наверняка вышло у него очень мило и пикантно, – предположила она в письме Берте. – Может быть, я глупа, думай как знаешь, но когда я перебираю в памяти всех этих художников, то говорю себе, что четверть часа разговора с ними стоит многих незыблемых истин».
Когда сегодня читаешь давно написанные письма, не так-то просто понять, что в них можно принимать за чистую монету: где там налет иронии, игры ума, а где, напротив, прямое, откровенное высказывание. Нам остается только гадать, с каким намерением Дега вдруг взялся толковать Берте «премудрость Соломона» и насколько серьезны были его ухаживания. Как большинство художников, он лучше изъяснялся посредством образов. Примерно в то же время, в начале 1869 года, он подарил Берте веер, на котором изобразил довольно странную сцену: писатель-романтик Альфред де Мюссе (известный своими любовными похождениями, в частности бурным романом с Жорж Санд), аккомпанируя себе на гитаре, поет серенаду одной из испанских танцовщиц. Другие мужчины – участники этой вымышленной сцены падают ниц или стоят на коленях перед женщинами, умоляя их о любви.
Моризо до конца своих дней не расставалась с подарком Дега. В трогательном автопортрете с сестрой, написанном вскоре после ее замужества, Берта и Эдма, в одинаковых белых платьях в горошек, с оборками на воротнике, в одинаковых черных бархотках на шее, уютно сидят у себя дома на диване с цветочной обивкой. На стене у них за спиной хорошо виден расписанный Дега веер.
Пока Мане бился над портретом Евы Гонсалес, Дега все больше времени проводил в доме у Моризо, тем более что у него появился прекрасный предлог: он уговорил одну из двух старших сестер Берты, Ив, позировать ему для портрета. Это обстоятельство могло сильно действовать Мане на нервы, ведь ему самому дозволялось видеться с Бертой только под бдительным надзором мамаши Моризо или ее доверенных лиц. Пытался ли он отвадить Дега от Берты? В сущности, у него не было на это права – он был женат. Но на Берту он повлиять пытался, это факт. Он хорошо знал Дега, знал его слабые места. И постарался использовать это на все сто. Так, в разговоре с Бертой он дал понять («в презабавной манере», по словам Берты), что Дега малый не вполне «естественный» и, хуже того, он «не способен любить женщину и еще меньше – сказать ей, что любит, или как-либо ей это доказать».
Подобные инсинуации нельзя расценить иначе как попытку настроить Берту против Дега. И надо сказать, он своего добился. Берта передала их разговор сестре в выражениях, которые говорят о ее солидарности с мнением Мане. «Я определенно не считаю, что характер у него [Дега] приятный, – писала она. – Он остряк, и только».
Если бы Дега слышал, как отзывается о нем старший товарищ, он, вне всякого сомнения, был бы страшно задет. «Презабавный» отзыв Мане был слишком близок к правде, чтобы легко от него отмахнуться.
Возможно, так же близок к правде был и написанный Дега портрет Мане и Сюзанны? В конце концов, хороший портрет выявляет суть человека. Двойной портрет – такой, как Дега написал в 1868–1869 годах, – выявляет не просто суть двух разных людей, но суть их союза. Мане был тогда слишком уязвим, чтобы легко отмахнуться от правды, проступавшей на его семейном портрете.
Конечно, брак никогда не сводится только к отношениям двоих. А брак Мане в тот момент был многолюден сверх меры. Впрочем, Мане нравилось большое скопление людей, людская толпа. (Особенно толпа маскарадная.) Но он любил и тайну личной жизни. У него были свои секреты, и он не намерен был их разглашать. В портрете Дега – портрете, рисующем его брак, – Мане разозлила, скорее всего, не такая маловразумительная и банальная вещь, как якобы недостаточно лестное изображение Сюзанны (именно этим обычно объясняют его дикий поступок, когда он отрезал ножом часть холста с фигурой жены). Куда более вероятно, что картина подлила масла в огонь и без того уже крайне опасной для него ситуации.
Попросту говоря, Дега слишком близко подобрался к семейной жизни Мане и тайнам, которые должны были оставаться тайнами. Даже если допустить, что портрет Мане и Сюзанны скорее выражал отношение Дега к браку вообще (отношение, уже обозначенное им в «Семействе Беллелли» и в «Интерьере»), он отражал и его мнение по поводу брака Мане в частности. С невозмутимостью зоркого наблюдателя Дега изобразил Сюзанну полностью ушедшей в свое музицирование; ее равнодушному к звукам мужу видна только ее спина. Он тоже где-то далеко от нее, в каком-то своем мире, в мечтах, быть может, о другой. Быть может, о Берте Моризо.
В таком случае наброситься на картину с ножом его, вероятно, побудило непрошеное вторжение Дега в щекотливую ситуацию его, Мане, отношений с Моризо. Возможно, здесь не обошлось и без смутного подозрения – подогретого отказом молодого друга ехать с ним в Лондон, – что Дега больше не приятель и протеже, а серьезный соперник, который теперь на коне, тогда как его, Мане, засасывает трясина. И ко всему еще Дега слишком много о нем знает, он слишком догадлив и вообще занимает в его жизни непомерно большое место.
Разумеется, можно предложить и другое объяснение: яростной вспышки Мане не случилось бы, если бы собственная семейная жизнь его не разочаровала. В конце концов, он полоснул ножом не наугад, а по изображению Сюзанны. Не потому ли, что портрет Дега совсем некстати напомнил ему: в их семейном союзе изначально присутствовала какая-то горечь, тайная суетливость, как будто им было что скрывать? Не потому ли, что они с Сюзанной в тот вечер повздорили и произошла бурная сцена? Хотя в целом они, кажется, были вполне совместимы и неплохо ладили, в их брак (еще до того, как он был официально заключен) проникла отрава лицемерия и обмана. В тяжкий для него период упадка творческих сил и мучительного романа с Бертой Моризо он мог даже допустить в свое сознание мысль, что всем известное предубеждение Дега против брака как такового, возможно, не лишено смысла. Разве не были бы у него развязаны руки для творческих экспериментов – и вообще для чего угодно, – если бы не постылая обязанность сохранять декорум из уважения к брачным узам?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































