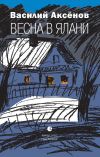Текст книги "Малая Пречистая"

Автор книги: Себастьян Жапризо
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
В веснушках. Весной и летом. К зиме сходят. Детей у них девять человек. Все уже взрослые, живут не с ними. Работы не стало. Разъехались кто куда. В основном, конечно, в Елисейск, ближайщий к Ялани город. Стариков навещают, не забывают. С их средним, Витькой, я учился в одном классе. Нормальный парень. И все у них ребята ничего. Только, Гошка, старший, непутёвый – болтун, хвастун и пьёт всё подряд, что только в горло можно влить. Ослеп от этого, почти не видит. Лет пять уже с ним не встречался. Может, уже и изменился. С людьми такое происходит. Один из всех, арынинских, он перебрался далеко – живёт в Исленьске. И здесь давно уже он, Гошка, не был. Не интересно тут ему, в деревне – городчанин. Совсем ослепнет, может, привезут. Там, говорят, жена такая – жить со слепцом не станет долго. Шалапутный, говорит про него отец, сам дядя Саша. В деда какого-то из них, мол, из арынинских, – прутом, во хмелю, стегнул по морде жеребца, тот, осерчав, его и затоптал – перед кобылами-то опозорил. Ещё до высылки их дело было. Такой и Гошка вот, и по повадкам, мол, и по обличью – гольный.
Про них, Арыниных, хоть книгу напиши. Кто б только взялся. И я, иду-то вот, как будто пробую. Да тут про каждого, в Ялани. Мне и письмо сестре в Иркутск… не получается составить. Здравствуй, Наталья, мол… А дальше? Открытку только… С Новым годом!.. И то, наскрябаешь пока, вспотеешь. Слова куда только деваются. Вот, говорю-то, они есть. Иду и думаю – словами же. Как будто льются. А на бумагу вызволить попробуешь их – разбегаются, как тараканы, – не поймаешь. Из головы их все как будто кто-то выгонит – пусто в ней станет. Как в анбаре голодным годом, в бескормицу, сказала бы мать.
Тьма редеет. Восток блекнет. Сколько раз уж это наблюдал.
Над Камнем светлая полоска обзначилась, его гребень проявился.
Кемь едва-едва отсвечивает.
Перекат шумит. Громко. Поговорить тут, около него, с кем-то – не удастся. Далеко надо отходить, чтобы не заглушал. Кричать только – сейчас некому. Себе.
Э-э-э-э!
Не перебить. Себя не слышу.
Распустил болотники. Шурша галечником, вошёл в приплёсок. Мордушку вытащил на берег. Вывалил из неё улов: одного ельчика и двух окушков, да небольшая щучка забрела, травянка.
Приманку обновил. Отнёс морду на место, бросил её в воду. Проверил две другие, в тех пусто. Арынин сглазил… со своей луной.
Собрал рыбу в полиэтиленовый пакет. Подался обратно.
Светает. Ялань стала проступать. Как на фотобумаге. Когда бросишь её в проявитель. Пока совсем не проявилась. Только медленнее. И там – на белом, тут – на тёмном, на тёмно-синем – так точнее. Ещё не сером.
Пришёл домой.
Вера ходит по ограде. С подойником в руках.
– Я, – говорит, – так и решила, что ты на рыбалке… Тряпку искала – вымя вытереть корове. Нашла вот. Сама повесила вчерась вон на угол – и потеряла. Ума-то нет совсем, не стало.
– Да какая, – говорю, – рыбалка… Морды проверил.
– А это, чё ли, не рыбалка?
– Луна, – говорю, – полная… Рыба не ловится.
– Чё, от луны?.. Луна-то в небе, не в реке… Ну, я пойду, – говорит Вера, – то ждёт, мычит там… Подою.
Ушла Вера во двор. С коровой, слышу, разговаривает. Как с подружкой.
Я – в дом.
Рыбу выпотрошил, солью её, от чешуи не очищая, просыпал, положил в эмалированную кастрюльку, сунул в холодильник. Среди запасов поместилась.
Плитку электрическую включил. Поставил на неё чайник.
Сел на кухне возле окна.
Всё уже можно разглядеть. Через потёки на стекле. Всю свою ограду вижу. Как в аквариуме. Без подсветки.
Пришла Вера. Молоко стала процеживать.
– Чё-то вдруг сбавила, – говорит. – Сёдни дала всего четыре литра. И обдристалась, вымя ей кое-как отмыла… лежала прямо… Жрут чё ни попадя… В огородах. Городские на своих дачах картошку выкопали, гнилой много набросали… Её и жрут, с неё поносят. Загородить путём не могут – они и лезут. Чё-то ещё и дойки зачерствели, тяну – ей, бедной, как не больно. Трешшина на одной – задеть-то боязно. У тебя, – спрашивает, – вазелину или солидолу нет?.. Хошь ей помазать.
– Есть, – говорю. – Солидол. Надо найти.
– Найди, пожалуста… Помажу завтра.
– Найду, – обещаю.
– Если забудешь, я напомню.
Процедила Вера молоко. Разлила его в две банки – в трёхлитровую и литровую. Подойник помыла. Опрокинула его на шесток.
– Может, тебе оставить больше? – спрашивает. – В банку ещё отлить какую? Или в бидончик… был-то тут где-то… алюминявый.
– Нет, – говорю, – и литры хватит.
– Смотри.
– Я его так ведь только, с чаем. С парного тоже… как корова.
– Ну, я пойду, – говорит Вера, закрыв капроновой крышкой трёхлитровую банку и пряча её в матерчатую сумку. – Вечером придёт Любка. Я не смогу. Надо к Степану… В город поеду на вечёрошнем автобусе.
– Как он? – спрашиваю.
– Да как… Ничё. Под капельницей… Разговари-ват, шумный. Опал в лице. И чё-то шибко. Заметно в теле исхудал. Больше я, обешшат, ни капли в рот, Веруня, не возьму и не попробую, мол, даже… Нао-бешшат он, насулит. Как же – мужик! – да и не выпить. Сам не возьмёт, предложит кто-нибудь – духу не станет отказать… Ещё и Плетиков наушшыват. И Винокуров сомушшат… Когда те с пенсии. Им можно разоряться. Ну, до свиданья. Я пошла. Любка одна там домовничат… Гора посуды – от поминок…
Ушла Вера.
Сижу.
Бабушка умерла её. Настасья. Вот уж жила так уж жила. Плетиков говорит, что сам адмариал Колчак ещё за неё сватался. Придумывает, конечно.
Но что красивая была, это уж точно. В доме у них портреты на стене. Один из них – на нём она, бабка Настасья. Тогда не бабка. Молодая. На Мордюкову похожа. Артистку. В старинном платье. Рядом дед – и тоже видный. Взгляд у него, у деда, только строгий. Это с портрета. Был есаулом. Матери у неё, у Веры, нет давно. В Кеми утонула. С ягодой с Камня шла. Идти до брода поленилась. Какой была она, не помню. Там и её портрет есть. Симпатичная. Глаза только, как вода, прозрачные. Мне такие не нравятся. Но меня никто и не спрашивает – последний в очереди. Отец лежит, не поднимается. От кровоизлияния. Так говорят. Все за ним, и Вера, и дети её, присматривают, ухаживают. Не обижают. Молодцы. И Степан всегда с ним по-хорошему – не злой-то. Злым он, и выпив, не бывает. Не до зла ему теперь – выживет ли? Пусть бы выжил.
Голос у Веры, думаю, похож на Тасин. Грудной. Слышу, становится не по себе. Всё же троюродные сёстры. Были. И есть, наверное. Родство же не распалось. Вера и вовсе уж чудная. Муж напьётся, лежит, она по хозяйству хлопочет. Вера, куда поехала? За сеном. Так а Степан-то? Спит. Пьяный? Пьяной, маленько выпил, для здоровья. Вера, куда ты? За дровами. Ну а Степан? Ночью рыбачил – отдыхат, он же мужик – имет, мол, право. Кто из детей чуть огрызнётся только на отца, когда тот бражничает, урезонит: не смейте голос повышать – не на кого-то ведь, а на отца, мол. И всё: дак он же идь, мужик, устал. А ты, мол, Вера, не устала? Да я-то баба – я двужильная. Чё, мол, не поменяешь, за другого не пойдёшь? Бабу такую оторвут с руками. Да как же можно!.. Он же мне муж, и Богом дан, не в поле найден. Как поменять – не коромысло. Вот уж чудачка так чудачка. В школе училась вроде хорошо.
Умереть бы, и тогда что дождь, что нет его – всё будет ладно. Или неладно одинаково.
Совсем за окном ободняло. Но пасмурно, так и темнит. Светлее, если тучи не разгонит, уж и не станет.
Вороны орут. Оголтело.
А он, Володька, говорил: волоны.
И те насквозь, наверное, промокли. В такой промозглости – иззябли.
Была бы мать жива, сказал бы ей: упроси Бога, пусть бы уж и меня туда забрал – куда-то – никуда. А тут-то чё мне? Одному. Он бы послушался её. Конечно. Если Он есть. Да это вряд ли. Был бы Он, Бог, так рыбнадзор бы так над рыбаками-то не измывался, как говорит Арынин Васька. Рыбачит Васька на Ислени. Без стерляди и осетрины не живёт. А без Бога – наверное. Хотя не знаю. В чужую душу – не карман – не залезешь. Так говорится.
Мама, упроси.
Корова зычно во дворе мычит. Протяжно. На выгул просится.
Сходил, выпустил скотину на улицу.
Пока шли они до ворот, раза два бычка корова стукнула рогами – сына. Такая. Поругал её. А ей-то… и ухом не повела. Тёлка умнее – держится от неё, от матери, на расстоянии.
Пусть кормятся. Не смогут скоро – поляны снегом как завалит. Всю зиму во дворе пробудут, взаперти. Зима-то – год – такая бесконечная. Подумать страшно. Жить устанешь.
Вижу:
Автобус школьный подошёл. Сели в него ребятишки, в школу поехали. В Полоусно.
Вернулся в дом.
Лёг на диван. Накрылся полушубком.
И задремал под ноющее сердце.
2. Полдень
Дождь перестал. Даже не верится. За это время приучил. Долго присутствовал. По траве идёшь, из-под сапог вода жмётся.
Всему есть мера. Определена она была, значит, и этому: с такого дня и по такой, вплоть до минуты. И не вмешаться. Из пушек разве попалить. Как – когда надо – над Москвой-то.
Лить столько суток – истощился. Не удивительно.
Час назад, как град, по крыше вдруг забарабанил. Сеял до этого и припустил. Как через кромку полной тучи. Будто наткнулась та на что-то и накренилась. Сплошной стеной. Отвесно. Как обрушился.
Ни Ялани, ни ельника за ним не стало видно – загородил, как занавеской; рядом поленница – исчезла.
Как кто-то мямлил, мямлил и внезапно закричал. Похоже.
Ливень.
Начал разом, разом же и прекратился – будто умолк. После покрапал ещё редко. Как напоследок – попрощался. Кто затоскует, огорчится? Вряд ли. Ручьи разве – может. Да червяки-то дождевые.
Ещё с потоков шумно побежало. Коротко. Теперь с карниза только плюхает. Капли крупные. Прямо под окнами канавка-сток – в неё. В канавке чёрно-белый галечник. Как новенький. По берегам канавки мурава. Жёлто-зелёная. Стареет – как и люди. Капли, тяжёлые, в канавке будто тонут – на дне незримыми лежат.
Заглядываешь в неё, в канавку, как в детство. Что-то далёкое припоминается. Может, пелёночное. Не конкретно. Как ощущаешь. Чем-то – не умом.
Воздух прояснился. Камень разглядеть можно – до сосны, до лиственницы и до рыжих осыпей на склонах. Густо туман его до этого окутывал – поднялся вверх, на месте рассосался ли – нет и помину; курится жиденько лишь по распадкам – там, где ручьи да мочажины. Зато над Кемью уплотнился – среди тайги её отметил, все кривуны, все извороты. Река красивая, конечно, – завлекает.
Может, на что-то и наткнулась. Туча. Ползти так низко над Яланью. Чего тут только не торчит.
Брусника уродилась. Там, на Камне, говорят, её полно. Дивно, Арынин бы сказал. Крась красет, сказал бы мой отец. Так, дескать, много. Схожу на днях. Если, конечно, распогодится.
Но вот черники нынче не было. Когда цвела, заморозком её крепко прихватило – не завязалась. Ту только свежую поесть. Сахару много надо – на варенье.
Пойду, загадывать не стану, не пойду ли… Пока не знаю. Не худо было бы сходить. Себе на зиму оставить, продать ли кому – купят. И тут кто с пенсии, и в городе, на рынке. Набрать её не каждый может. Кому-то некогда, кому-то не по силам. С этой-то нет особенной мороки. Не земляника, не малина.
Мужик управится. Откатал, на мороз вынес, и ничего с ней не случится. Можно и не откатывать – с сором хранить её, с листом. Не пропадёт. Птички бы только не склевали. Схожу, наверное. Погода бы наладилась. Раньше и мать, и Тася стряпали с брусникой шаньги. Как откусил – и вкус во рту будто возник. С отцом и в этом были мы похожими – нам стряпанину только подавай. Хоть горячую, хоть зачерствевшую. Только что испечённую-то – лучше. Отподавалось. И ему, и мне – по-разному.
Ветер налетает. Давно у нас не появлялся, словно умер. Не отпускал ли кто его сюда. Глухо было. Отец сказал бы: как в котле, стояло – спёрто. Пригибает в логу и без того сникшие за время ненастья конёвник и крапиву. Мнёт волной возле Куртюмки лебеду. Вскинувшись от земли, деревья треплет в палисадниках – срывать с них уже нечего, листва опала, ветвями только поиграть – да долговязые скворечники и шесты антенные раскачивает. Порывами. То стоят спокойно, неподвижно, то вдруг, смотришь, зашатались. Не все одновременно. Только что в Городском краю, заметил, кланялись, тут вот теперь ожили, в Луговом. Дует ветер полосами, разделившись ли на языки, – не одним фронтом. У Чеславлевых, напротив, баня топится – дым над трубой – как будто вымпел. Или как этот… куколь полосатый… Как называется, забыл. Висел такой – где вертолёт садился раньше. Возле Бобровки. На поляне. Метеостанция была при школе – ещё и там такой имелся. Спрошу, кто, может быть, и помнит. Не суббота – не мыться. Марья, наверное, стирает, а потому и истопила – вода горячая нужна ей.
С улицы, хоть и разуваюсь всегда, когда вхожу, на крыльце или в сенях, грязи в избу натаскалось. Там особенно, в прихожей. Как картошку копать начал, так и не прибирался. Не подметал даже. Пыли собралось – под этажеркой, под столом вон – чуть не в палец. Мать бы мне мыть сегодня не позволила – большой, мол, праздник. Отец над этим посмеялся бы: дескать, большой, куда уж больше-то – как День Победы, как Седьмое. Мол, и наскажешь. Мать ему: уж помолчи, побойся Бога. Чё, мол, накажет? И накажет. Мирно, без ругани, конечно.
Воды нагрею и помою. Но не сегодня. Завтра, быть может, соберусь. Когда подсохнет чуть – тогда. Или когда уж подморозит. А то – надолго ли – помоешь. Тут же опять и наберётся.
Пришёл школьный автобус. Оранжевый пазик. Тот же самый – неизменно. На площади перед бывшим, давным-давно уже сгоревшим клубом, развернувшись, остановился – как заучено. Высыпала из автобуса ребятня. В ярких разноцветных куртках. Кто-то с зонтом. Оранжевым, как жарок. Раскрыл его, вспыхнувший, и закрыл тут же, как погасил, – дождя-то нет, так и без надобности. Все там от мала до велика. Среди них и первоклассники. Говорят о чём-то между собой, не говорят ли – в звонкий, хороший день из дома слышу, сегодня – нет. И далеко, и, больше, из-за ветра – стучит, напирая, стеклом в моём окне и чем-то брякает в ограде – заглушает. Направились ребятишки, девчонки и мальчишки, каждый в свои околотки, по-нашему – края. Куда-то группками, куда-то в одиночку. В мой – никого.
Ушёл автобус.
И я подался от окна. Как лист от ветки оторвался.
Понесло меня на кухню.
Стекло надо закрепить. Раздражает. И среди ночи иногда разбудит, как застучит-то. Будто приюта кто-то, запоздалый, просит. С дурной ли вестью. Растревожит. После уснуть не так-то просто. Гвоздик там вбить – всей и работы.
Вобью. Но только не сегодня.
Шарба сварилась. Долго ли ей, минут пятнадцать – и готова. С перцем, с листом лавровым, с луком – запашисто. В ограде был – оттуда чуял. Щучка осталась – угощу Арыниных. Миша Чеславлев сам наловит. Гриша-остяк – тот мясо только ест. Хоть и беззубый, как Арынин. Рыбу ему не надо даром. Когда-то костью рыбьей, в детстве, дескать, подавился – вот с той поры, мол, и не ест. Его дело.
Пообедал. Чаю напился. Голова от него даже замутилась – такого крепкого навёл. Перед глазами мушки побежали.
Отправился убирать во дворе, чтобы проветриться, на свежем воздухе побыть. И во дворе, и в стайках накопилось. Навоз уже неделю не выкидывал, всё ждал погоды.
Сыро. Крыша желобниковая, столетняя, прогнила. Двор-то дед ещё мой строил. По отцу Игнат Павлович Черкашин. Когда это было? В прошлом веке. До войны ещё. В годах двадцатых. Или тридцатых. Перекрыть бы. Нечем. Желобник новый делать? Трудоёмко: пихтач добрый нарубить, привезти его из леса, располовинить да жёлоб в каждой половине вырубить – не шутка. Работы на лето. И надо ли? Если продам-то всех – корову, тёлку и бычка. И двор будет ни к чему. На дрова его распилить – только. А заодно уж с ним и стайки. Гореть будут. И дом, как пуп, торчать останется. О чём печалюсь? О дне-то завтрашнем. Не знаю, что сегодня будет. Мать говорила: смешной человек, за час вперёд не видит, а за год, мол, загадыват. Про отца. А ей отец: дак чё-то думать надо, баба; дескать, не крот, а – человек: вперёд во времени и смотришь. Нет уже. Ни его, человека, ни её. А не хватает.
Вычистил в стайках, выкидал из них во двор. Привычно. И отец так раньше делал. После уж из двора, открыв ворота, перетаскал навоз на пригон вилами; жидкий – лопатой деревянной. Всякий раз так. Как заведено. И дед так же и тем же обходился. Конечно. И прадед. Раз крестьяне. И дальше, в глубину, в корень – до царя Гороха. После меня – некому. Как отсохло. Мало – крестьяне-то, ещё ж и – казаки.
За год гора нагромоздилась на пригоне, чуть не под крышу. Можно кому-нибудь продать. Его, навоз-то. Городские часто спрашивают. На свои дачи, на участки. Удобряют. Не яд, не химия – предпочитают. Правда, подъезд неловкий у меня тут – в гору. Кому надо, подберутся. Кузовом спятиться к забору вон – и набросаешь. Или тележкой. И самому на огород не помешало бы – вверху-то глина. В знойное лето, глызами окаменеет, в неё и ломом не пробьёшься, только отбойным молотком, ну а в дождливое – увязнешь по колено. На сапоги налипнет – ноги не поднимешь. Хоть из сапог вылазь, из глины их не вырвешь. Ладно, успел картошку до ненастья выкопать. Засухо – всё же. А то – как муха бы на тесте – побарахтался.
И вверху был чернозём когда-то. Не меньше метра. Весь его вниз – место неровное, угор – спустили трактористы. Трезвым-то редко кто пахал. Не потому что неумельцы. Мастера. К нам после всех уже, напотчевавшись, заезжали. Тут, на отшибе-то деревни. Пока доберутся. Пахарь – везде же угощают. Не угости – другой раз не поедет. Нынче не так, теперь – за деньги. И не садятся пьяными за трактор. Трактор-то свой, а не колхозный – жалко.
Натаскаю. Не этой осенью. Весной. Сойдёт снег – тогда. До пахоты. А и по снегу – на санках-то. Вози тихонько да вози. Лучше – по насту. Рано планировать, конечно. Так говорится: поживём-увидим, а не увидим, так помрём. Это-то так уж – отсебятина.
Уморился. Стою на пригоне. На вилы оперся. Как Арынин нынче утром. Обо всём об этом думаю. Много кладу им сена на подстилку – об этом тоже. Бычку особенно – изнежил. Вон – не навоз – сплошное сено. Отец бы выругал меня за это – разорительно, не икономно, дескать. И мать бы – та не похвалила. Сам себе теперь хозяин – что хочу, то и ворочу. Шучу, конечно. Пусть поворчали бы, но были б. И без отца, без матери люди живут – неполноценно. Природа так распорядилась – умирают. А молодые-то когда – неправильно… А дети… Лучше не думать. А то до злости добираешься. Не надо. Плохой она советник – злость-то, и сам знаю. Но и без неё совсем – никак, не получается. Живу вот.
Смотрю кругом. Всё примелькалось. С каждым метром, сантиметром, что-то связано – за мою жизнь-то.
Ельник. Поляны. И угоры. Вижу их с детства, сколько себя помню.
Небо сплошь всё ещё серое, без единого просвета. Тучи несутся, одурелые. Когда закончатся? Как никогда. На то похоже.
Лицо и шею освежает воздух. Прохладный, влажный. Разгорячился от работы, уж и вовсе. Как после бани. Куртку снимал, пока не надеваю.
Дело сделал, а радости нет. Не как прежде. То бы пришёл, сказал: Тася, готово. Быстро, сказала бы, управился. Глаза – так только у неё – лучатся весело… Хвалить любила. Тогда и горы бы свернул. Теперь – как обязанность. Без души. Не убирать, скотина тут утонет. Поэтому.
Не моросит.
Ветер. Сиверок. С низовки. Нетерпеливый. Не настойчивый – дохнёт и отступит. И при таком, если не стихнет или не развернётся на девяносто или сто восемьдесят градусов, ночью подстынет. Ну а уж выяснит, тогда и вовсе.
Капусту надо будет всё же вырубить. А то останусь в зиму без капусты. Только скоту скормить её – закоченеет-то. В засол, мороженая, не годится. Сегодня-завтра. Не сегодня. Рано ещё – ещё сентябрь. Сентябирь, говорит Арынин, октябирь, ноябирь – осинь. И не он один, многие так тут произносят. Лёгкий-то заморозок нипочём ей. Как сибирячке. А вдруг да тюкнет? Такой – сразу под десять. Будет без квашеной-то скучно. Привык, что стоит всегда, каждый год, с осени в сенях, в кадке, закисает – нравится. Проходишь мимо, пальцами зацепишь и попробуешь. После, в мороз, уж только сечкой. Сечка там, в кадке, и находится. Извечно.
Перед глазами пробегает разное. Вспыхивает. Что-то задержится. И это:
Много лет назад, такой же вот порой, но в хорошую погоду. Старым бабьим летом. В Аспожинки, как называла ещё это время мать. Надумал отец перебрать одну из стаек, сгнившие брёвна поменять на новые. Чтобы зимой корове в ней не околеть. Даже и брёвна заготовил.
Узнал об этом намерении отца и вызвался ему в помощники свояк его, муж маминой родной сестры, тёти Клавы, Егор Гаврилович Нашивошников.
И их обоих нет уже давно на свете, дяди и тёти. А вспоминается – будто вчера происходило. Словно на днях только расстался с ними. А стосковался так, будто не видел век. На самом деле. Вспомнил сейчас, и сердце защемило.
Пришёл дядя Гоша с фронта без ног. И, как он выражался, сушшэсвовал в последуюшшэй мирной жисти почти неслазно на тележке. Спал только не на ней – на ней подушки не было для этого, мол. Рядом. Как бы когда ни перебрал. В обнимку. Чтобы не укатили сорванцы. Транспорт всегда, дескать, под боком. Только проснулся, мол, и трогай. Куда сам, вредный с похмелья, пожелаешь или душа, в капризах, повелит. Одно сплошэнное удобство. Ни от кого, мол, не зависишь. Как погода. Сам по себе, мол, своеволен.
Приехала с ним с Усть-Кеми, где, поселившись сразу после войны, они жили, и тётя Клава – с сестрицей, дескать, повидаться. Живём, мол, хоть и рядом, а собираемся вместе редко. Так, дескать, повод.
Первый день встречу отмечали. Не засиделись. Спать легли, помню, в полночь. Свет как потух в деревне, так и улеглись. Постоянного тогда ещё не было. Работал дизель. И свет давали только вечером и утром. Если ещё и Винокуров, дизелист, не закуражится. А то бывало и такое. Обидится на жену свою, на тётю Машу, и света всю Ялань лишит. Никак с ним было не управиться – чуваш. Одна у него была, и по сей день остаётся, присказка: не горе-не беда – и хоть тут тресни.
Назавтра мама с тётей Клавой отправились на кемские старицы за голубикой.
Отец и дядя Гоша, как только скрылись за воротами их жёны, опохмелились медовухой и, взяв в руки топоры, начали плотничать. Стук топоров понёсся звонко к ельнику, оттуда – эхом по округе.
Меня, закончившего в том году десятый класс и слонявшегося до призыва в армию без дела, отец заставил натаскать им из ближайщего болота мох.
Быстро подвигалось строительство, спорилось – людьми они, свояки, были мастеровыми.
Перебрали уже, помню, звеньев восемь. Возвысили сруб.
Отец, свесив на стороны ноги, сидел то на южной стенке, то на западной. А дядя Гоша, уцепившись специально для такой работы изготовленным им приспособлением из железных обручей и стальных крючьев, – то на северной, то на восточной. Отец чертил, и оба они ловко пазили и прокладывали мхом.
Принёс я мешок, вывалил из него мох рядом со стройкой, чтобы на солнце просыхал.
На толстой проволоке, протянутой от стенки до стенки, висит, вижу, пятилитровый алюминиевый бидончик. Прикладываются к бидончику плотники то и дело, притягивая его к себе по очереди привязанным к нему шнуром. Переговариваются весело. Отец шутит, дядя Гоша смеётся. Смеялся так он, дядя Гоша: гыть-гыть-гыть! – как будто лошадь подгоняет. Сам после скажет что-нибудь, смеются оба.
Ещё ж погода тут – на заглядение. И есть что выпить. Рыжие рты у них – от медовухи; глаза прищурены – от солнца.
И мне от этого спокойно. Как будто жизни нет конца. Не только жизни, но и осени.
Ушёл я опять за мхом.
Принёс второй мешок. Забросил его строителям на помост – потребовали.
Разговаривают они, слышу, о войне и о Сталине. Всю войну оба прошли, на разных фронтах, есть им что вспомнить и о чём поговорить. Отец был разведчиком, а дядя Гоша – сапёром.
Ушёл я опять, в их разговор особенно-то не вникая, – не интересно было мне тогда. Сейчас послушал бы, да поздно.
Вернулся.
Отец уже не шутит. Взгляд у него суровый. Кепка на затылке – недобрый знак. И Егор Гаврилович уже не смеётся.
Ссорятся. Как два петуха.
Для отца Сталин – Хозяин, при котором не воровали, иВеликийполководец, не лизавший задницу ни Черчиллю, ни Рузвельту, и в кулаке держал партийцев – немаловажно. Для дяди Гоши – кровопивец неуёмный, усатый бусурман и наизлейший во всем человеческом бытовании народогубец беспримерный, какого белый свет ещё не видывал, а русский люд, мол, и подавно.
Ухватил отец в руку клок мха и швырнул им в свояка – последний довод.
Дёрнулся свояк, стараясь увернуться, крючья вырвались из стены. Упал Егор Гаврилович, взорвавшись золотыми брызгами, в кучу свежего коровьего навоза. Лежит лицом в небо, крючьями в навоз воткнувшись. Как бюст. Только кричит, отца снизу не видя: и ты – эй, где ты там?! – и Сталин твой, оба вы, дескать, стоите друг друга, и трибунал об вас, мол, плакал; не подыскать для вас и слов мне подходяшшых, ир-роды!
Отец в ответ: предатель Родины!
Понял я, что им уже сегодня не понадоблюсь. Взял в кладовке винтовку-тозовку, подался на Пятугору. В ельнике рябчиков пострелять – там их полно всегда водилось.
Осень – вернулся уже затемно. До ограды ещё не доходя, слышу, что в доме шумно, как в клубе на какой-нибудь праздник, и только-только что допели песню. На Муромской дороге. Любимую отцовскую. Закончили красиво. На два голоса: высокий и низкий.
Винтовку поставил в кладовку. Вхожу в избу. Вижу:
За столом сидят мама, тётя Клава, отец и дядя Гоша. Отец с мокрыми ещё после бани, зачёсанными назад волосами. Взгляд у него на всех – как на любимых – добрый. Дядя Гоша, тоже помытый и причёсанный, в отцовской белой, праздничной, рубахе и в его же, выходных, штанах. Сидит он, дядя Гоша, на табуретке. Свисают с табуретки до полу у него пустые гачи. Смеётся громко дядя Гоша: гыть-гыть-гыть! – коня казак как будто подгоняет. Мне предложили медовухи – я отказался. Сейчас бы выпил.
Стайку они всё же достроили. Стоит вон, и не покосилась. И мох в пазах – не вытаскали птицы.
Тасе как будто рассказал. Не первый раз. Уже рассказывал. Ну и Володьке. Было бы интересно и ему.
Зябко стало – надел куртку.
И очень горько – отчего-то.
Лампочка во дворе перегорела. Поискал дома – нет. Пошёл к дяде Саше Арынину. Спросить у него в долг сороковку. Туда больше-то и не надо – нитку в иголку там не вдёргивать и книгу не читать. А со скотом и при такой, маломощной, можно управиться. Корову различишь, хоть и Чернуха. По белым пятнам по бокам. Да и глаза – как отражатели.
Вышел из ограды.
На проводах вороны – не порвали бы – навесились. Молчат. Вникают:
Напротив, у Чеславлевых бранятся. Миша кричит на всю Ялань – громкоголосый. В бабушку свою – Марфу Измайловну. Бабушка была, помню, добрая, но, как говорил мой отец, большеротая. Её голосиной, мол, в лесу просеки можно было пробивать, лес бы от грохоту валился; скалы обрушивать. Марью, жену Мишину, не слыхать. Как мышка, обычно попискивает. Ухо устаёт – Марью слушать, говорит Арынин – так перепонка напрягатса. Чуть глуховатый он – ещё поэтому.
Кроет Миша в три короба Марью и родню её заодно – за бестолковость. И себя тоже – за то, что с ними, с Кислерами, породнился – себя уж и того пуще.
Выскочил, вижу, он, Миша, за ворота. В бледно-голубом, вылинявшем, берете десантника, кем-то подаренном ему когда-то. Зимой только в нём не ходит. За что его Десантником в Ялани и прозвали. Лицо красное. Как от пощёчин. Но не от этого, конечно. От природы. Глаза под цвет ему, берету. Чертит ими по тучам, как стеклорезом, будто продырявить их собрался. И говорит кому-то – улице:
– Ну ничё не скажи!
– Здорово, Миша, – говорю.
– Здорово!
– Чё там у вас стряслось опять? – спрашиваю.
– Да чё, обычно дело, – отвечает. – С ног сбились, плоскозубцы ишшэм, не найдём.
– Найдутся, – говорю.
– Ага. Канешна, – говорит Миша. – Когда не нужно будет, может, и найдутся… Скобку согнуть, и хошь зубами. Куда вот сунула?!
– Возьми мои, – предлагаю. – Принести?
– Зачем мне чьи-то?! Своих бы не было, другое б дело. Пусть не ревёт, а лучше ишшэт. Ну всё везде уж обыскал… Как провалились. К небу, ли чё ли, примагнитились?
Развернулся Миша резко, скрылся за воротами. Может, что вспомнил?
Пошёл я дальше.
Загря, кобель арынинский, валяется возле дома. На мокрой мураве. Повёл ухом, приподнял веко, глянул на меня, но не поднялся. Я ему как свой. Мы с ним охотились когда-то. Лосей били. Остарел За-гря. Слух и нюх утратил. Переживает. На лес с тоской теперь смотрит. На меня – тоже.
Прошёл оградой, затем – тёмными сенцами. Вступаю в избу.
Тётя Луша спит. Навзничь. Грузная, широко разметалась на высокой деревянной кровати. Похрапывает. Лицо марлей накрыто – от мух. Ей, тёте Луше, спать днём положено, по её древлеотеческой, как говорит она, вере. Кто днём не спит, те, по её словам, пусть хоть и русские, но немцы. Пока, говорит тётя Луша, Адам и Ева в Раю в полдень отдыхали, так с ними Змий безногий проклятушшый ничего не мог поделать. А как только не улеглись раз, забыли, так дьявол в грех и сомустил их. И давление, говорит дядя Саша, её изводит постоянно – днём подремать ей непременно надобно, хошь, мол, маленько, чтобы из переполненных мозгов кровь по всему обширному телу равномерно растеклась. Как не поспит когда, беда, мол. Не человек становится – колючка.
Пахнет бензином.
Дядя Саша стоит, склонившись, посреди избы. Перед ним, на полу – пила «Дружба». Одной рукой дядя Саша в рога пилы упёрся, другой – за стартёр держится.
– Ты чё? – спрашиваю. – Что тут, в избе, пилить собрался? Пол?
– Да вот, – отвечает, – завести пилу да испугать Лушу, думаю, не надо ли? Ещё угару напущу.
– А-а, – говорю. – Нет у тебя лампочки, случайно, сороковки?
– Погляжу, – говорит. – Была где-то. Сороковка, нет ли, уж не помню. Знаю, что привозили мне ребята.
Оставил пилу дядя Саша, направился в другую комнату.
Вышел оттуда вскоре, подаёт мне лампочку.
– Вот, сороковка, как раз самая. Так-то не вижу, по размеру. Вроде и целая, не стряхнутая.
Взял я лампочку, посмотрел на свет.
– Целая вроде, – говорю.
– Ну и бери.
– Куплю, отдам.
– Отдашь дак отдашь. А не отдашь, дак и хрен с ей. Не последняя. Там, на шкапу, их у меня коробка полная. Есчё с советских-то времён… с достатошных.
– Спасибо.
– Спасибо в карман не нальёшь.
– Найдём другое чё – нальём.
– Да я шучу.
– Но не сегодня.
Ушёл домой.
Вкрутил во дворе лампочку. Проверил – светит. Теперь не спрятаться Чернухе.
Принёс из-под навеса лестницу. Поднялся на крышу сеней. Смотрю, лист шиферный, и точно, треснул. Менять его прямо сейчас, не менять ли? Ещё успею. Может, дождя больше не будет?
Поленница на улице. Стал дрова в ограду, под навес, перетаскивать.
Какая с города идёт машина, хорошо её отсюда видно. И как сворачивает – тоже. По Ялани долго едет. Ни одну, если следить-то, не пропустишь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.