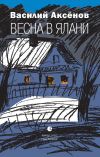Текст книги "Малая Пречистая"

Автор книги: Себастьян Жапризо
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Встал. За выскорью. Зарядил ружьё. В левый ствол с пулей патрон вставил, в правый – с дробью.
Сердце своё слышу – как не своё – чьё-то. В такт песне:
Я смотрю в темноту…
Сбивается. Или оно, сердце, или язык. Пресное на нём что-то… прикусил сильно. А то, раз сердце-то, колотится. Как мать говорила-до Кого-то. Само по себе – конечно. До кого уж… Кровь гоняет – всего-то. Стреляю с правого плеча – не помешает.
Дорога близко тут подходит. Промахнуться трудно. Сейчас – невозможно.
Поворачивает машина. Лужа. Колеи глубокие. Машине надо объезжать. С другой стороны пень. Только ко мне чуть не вплотную, не иначе. Был я здесь много раз, обследовал. И места лучше не нашёл. И выскорь эта – ель для меня упала будто, чтобы укрыться мне за корневищем. Может, и есть Он, Бог, раз так устроил.
А если есть, так подсоби… Быть переполненным устал я. Чем бы своим, а то чужим-то.
Солнце за спиной. Отражается в лобовом стекле машины. Ничего за ним не разгляжу – ослепило.
И он меня не видит из кабины – из-за прямого солнца. Полагаю.
Навёл ружьё, держу на уровне.
Стала машина лужу объезжать, сползло солнце со стекла.
И я – себя как будто не признал, кого другого ли – опешил.
Сидит за рулём мальчишка, лет десяти или двенадцати. Правит. Тянет шею. На дорогу. Неопытный. А сам он, этот, тот, кто мне нужен, спит, склонив на грудь голову, на пассажирском кресле. И темя лысое – как зеркальце.
Палец у меня на собачке – не убираю. Перевёл ствол, налепил мушку на темя. Не дрожит – как присохла. И мысль – как спица тонкая – насквозь пронзила. От уха в ухо. Будто оглох. Мысль – не словами. Чем-то. Как будто всплыло что-то – образ чей-то…
Кто-то сказал в суде, вдруг вспомнил. Есть сыну этого… Глухонемой. Чем-то больной ещё. Неизлечимо.
Или привиделось?
Вниз опустил стволы.
Проехала машина. Скоро, не скоро ли – не знаю. Скрылась за поворотом. Не слышу, как гудит. Слышу только песню:
Я смотрю в темноту… Сам пою, другой ли кто-то.
Повесил ружьё на плечо. Не чувствую.
Трясёт всего – от чего-то.
Сел на упавшую ель. Посидел сколько-то. Долго, наверное.
Как улетел глухарь, не заметил. Глянул – нет его на лиственнице.
Пошёл. В сторону дома.
Солнце в глаза. Не отражённое. Давно его не видел – настоящее. В душу как будто проникает – так стосковался. Оказывается.
Иду и обмираю: одно мгновение, и после пропасть. Палец согнуть пытаюсь – подчинился. Один, два, три, четыре раза – сколько хочешь. Теперь уж поздно.
Повторяю про себя слово: «убить», «убить». Смысла его не понимаю. Как будто произносит его человек, который вселился в меня в тот день, в сугробе, на иностранном языке. С утра до вечера произносил, вот уж полгода… С вечера до утра. Ну не на самом деле так, а так мне кажется.
Бобровку по бревну стал переходить. Смотрю в плёс. Вода в нём после дождей мутная. Ни харьюзов, ни гольянов не видно. Снял с плеча ружьё. Бросил его в плёс. Потом – патроны. Булькнули.
Не охочусь – не понадобятся.
Заилит.
Тем же путём прошёл обратно – лесом. Не по дороге.
Ельник миновал. Краем его направился.
К кладбищу.
И тут её, рябины, много. Тут и черёмухи полно.
Постоял на могиле отца и матери. Они рядом. Лежат тихо. Теснятся. Сколько бы их о чём тут ни спрашивал, не было так, чтобы ответили. Помалкивают. Будто сговорились.
Может, не слышу.
Шиповник молодой нарос в оградке. Прийти как-нибудь, вырезать. Завтра. До снега сделать надо будет. Обязательно.
Недалеко от них – Тася.
И сын.
Здесь – близко. Несколько шагов. Как там – не знаю. В одной землице – значит – плотно.
У родителей стоял нормально. Тут вдруг ноги подкосились.
Лежу между. Руками на ту и на другую. В горсти их будто ухватил. Уже не выпущу.
Листья на земле палые. Пахнут. Не убирал я их – из-за дождей. Не отговорка.
Глина. Мягкая. Меж пальцев.
Глаз чем-то колет. Хвоинкой, может быть, кедровой. Кедр – с него упала. Может. Не как ресницей. Остро. Не выколет.
Семь лет тебе исполнилось сегодня. Сын. Ты и сегодня не приехал. Встречал… Не вышел из автобуса. Сапожки кирзовые – вырос бы из них уж. Дёгтем их смазал – стоят… Если воскреснем все… как мать-то говорила… тебе сгодятся.
Тася, родимая, моя слезиночка, моя росиночка, не получилось. И не смогу уже теперь. Если бы сразу…
И хорошо, Серёжа, хорошо. Белка когтями так процокала по кедру – и послышалось. Пришёл сюда уж чуть оглохшим.
Кровь во мне стынет – стосковался.
Белка в ответ мне:
Не тоскуй.
Я ей: да как не тосковать-то!
Шуршит в кроне.
Поднялся.
Посмотрел на своё место – пустует.
Он, сын наш, будет между нами.
Сын, сын, сын – твержу – есть, значит. Произнести: был – язык не справляется. Как «убить», смысл не теряет.
Сын, сын, сын… что это слово значит, знаю.
Пошёл с кладбища.
Не тяжело на душе – неожиданно. Давно так не было.
Человек, который вселился в меня в сугробе, будто остался там, у выскори. Ну, так мне кажется. Больше меня он будто весил. Чуть не лечу – освободился.
Свечерело. В избах яланских засветились окна. Разбросанно. Село большое было – разорилось. Теперь – страшно.
Дым. Не из огородов – сыро, не жгут ботву ещё, – а из печей. Прямой – без ветра-то. Об небо плющится. Внизу серый, в небе – золотой.
Фонарь на столбе перед домом. Не болтается.
Загря арынинский под фонарём – хвостом виляет.
Стоит в свете фонаря Любка, Верина дочь. За-грю треплет по загривку. Разговаривает с ним о чём-то – знакомые. Девчонки Загре нравятся. Мальчишки – меньше. Пакость устроить могут те – мальчишки. Ожидать от них можно всякого. Опыт.
Отвлеклась Любка от Загри и говорит мне:
– Корову загнала. Только что. Доить буду.
– А чё тут ждёшь?.. Замка-то нет – изба открыта.
– Да там увидела вас, у Куртюмки, в сумерках. Думаю, вы или не вы? И жду вот.
– Корова, – спрашиваю, – не упрямилась? За ней гоняться не пришлось?
– Да нет, – отвечает.
– Сама пришла?
– Сама. Сегодня смирная какая-то.
Пошла Любка. И я пошёл.
Сошлись у ворот.
В ограду вступили. Любка первая, я за ней.
Загря остался за воротами. Не нахальный. Не бесцеремонный, как сказал бы дядя Саша.
Встал я на крыльцо. Обернулся и говорю:
– Подойник на столе в ограде. Я его вынес.
– Да я уж видела.
– Мать его, – говорю, – споласкивала.
– Знаю.
Вошёл в избу. Сел у окна. Смотрю в ограду.
Лампочка во дворе горит – жёлтый свет в щели пробивается. Как будто щурится ограда. Как дядя Саша.
Подоила Любка корову. Процедила в доме молоко.
Взяла с собой три литра.
– Ну, я пошла.
– Я провожу.
Вышли за ограду.
– Любка, темно, не упади… Смотри, – говорю, – под ноги, то банку расколотишь.
Оборачивается и говорит строго:
– Не упаду. Дядя Серёжа, я вам не Любка.
– А?
– Любовь.
– Любовь?.. Любовь. Любовь, конечно.
Пошла Любовь.
Шаги её слышу, а видеть её уже не вижу – вышла из света фонаря, в потёмках растворилась.
Стою я.
Смотрю в темноту…
Фонари по всей Ялани.
Я вижу огни…
Языком напеваю, а умом думаю:
И какой тебе я дядя – лет на восемь только старше.
Загря рядом – глядит на меня, веками – то левым, то правым – двигает, будто небольшой незримый мячик ими ловит и подбрасывает. Циркач. В хорошем, значит, настроении.
Звёзды в небе. Как по столу брусники, их насыпано. Одна – яркая – над ельником. Откуда я пришёл. Как клюквинка. Взять в пальцы, надавить – брызнет.
Мать раньше, таким же вот осенним вечером, войдёт в дом, бывало, с улицы после управы, разболакаться станет и промолвит:
Звёзд-то на небе… как потомства Авраамова. Чей-то там предок, я не помню.
Разглядываю созвездия. Распределились.
Или Кто их распределил – согласованно.
Говорю про себя:
Отец. Мать…
Тася. Сын.
Перечислил.
Не в земле. В сердце.
Одежда на мне мокрая – застывать начал.
Ещё жив воздухе – похолодало.
Пошёл в дом.
Впервые так:
Как не один я буду там – с родными.
Когда войду, со всеми поздороваюсь.
Петербург, ноябрь-декабрь 2007
Смешной он, этот Дядя Вася
Скоро уже и отемняет. Нынче не медлит с этим – глухозимье. Так, будто дверь перед тобой закроет кто с размаху. Вроде.
Север синеет краем ночи. Та выползает глухо из-за окаёма. Где она царствует – оттуда. Наваливается. Не как летом. Без церемоний. Кто спит, тот её только не боится. Медведь да бурундук. Когда не шатаются. Ещё и хищники ночные – тем уж она как мать родная.
«Русь навалила, – говорит дядя Вася о приезжающих со всех окрест в Ялань за черникой или брусникой ягодниках, сезона не дожидающихся, – совсем задавила». Так же и о ночи.
Чуть оплошаешь, и задавит.
Солнце только что вот закатилось. Не мешкая. Свысока ему теперь не падать. Ходит вплотную к горизонту. Как дядя Вася выражается, по ёлкам скачет собольком. Про солнце. Чуть поднялось, уж опускается. Лесную кромку обагряет, в корону вырядив её. Всем и всему себя напоминает изморозью озарённой: ну, мол, до завтра.
Надо дожить. Так бы ему сказал и дядя Вася. То, мол, «до завтра». Не загадывай.
Да лишь Хребты вдали откосами алеют. Уже тускнеют. На глазах. Совсем недавно были золотыми. Чуть отвлечёшься, глянешь – и запеленало.
День-то нынче с гулькин нос. После трёх уж и смеркается. Моментом. Пообедать только засветло. Всё остальное совершай в потёмках.
Это-то нас особенно и подгоняет.
Ещё мороз крепчать стал к вечеру. Обычно. Ночь – чуть не сутки. К утру, наверное, и ниже сорока опустится. Придавит. Да – не наверное, а – точно. Закат – на ясно. Не видно мороку. Нигде. И ни на западе, и ни на юге. Ни малой тучки.
Только – след от самолёта. Чёрно-розовый. С края на край располовинил небо. Не развалилось бы – звенит от стужи.
Сейчас пока ещё нормально. Градусов тридцать – тридцать пять. На ходу-то-даже жарко. Так в целик-то вот ломиться. По пояс снегу. Где и глубже.
И не по-пляжному одеты. А как в доспехах.
«В ямщину будто собрались… столь на себя-то на-здевали. Ну, чё там… голым не подашься. Оно – конешно. Не у негров».
Ох, и смешной он, этот дядя Вася. Глаза у него… как плошки. Ещё, с испугу будто, их всегда таращит. Хоть на кого, хоть на тебя. На что-то, может, их и щурит. Голубые. Вокруг морщинки – как лучи. Брови косматые, белёсые. А борода зато каштановая. С проседью. Вся вон в сосульках. Как у Конюхова. Путешественника. По телевизору показывали. Зубов во рту мало. Совсем ли нет. Один – передний. Как-то ещё и сохранился. «Хоть и шатат-са, – жалуется, – сволочь». Зовут его, дядю Васю, в Ялани Дедушка Ау. Ау и есть, очень похожий.
Это – мультфильм-то. Ещё роднёй далёкой мне приходится. Да и фамилии у нас с ним одинаковые. Сотниковы. Из местных оба мы, из коренных. Был у нас Сотников какой-то – прадед. А может – сотник.
Смешной, конечно, дядя Вася.
Сидим летом с ребятами на брёвнах. Маленько распивам. Идёт мимо. В чёрных трико, в красной майке. В домашних тапочках. На голове белая панамка. Детская. Загорелый. Мы его приглашам: «Эй, дядя Вася, подходи. Выпей с нам чарочку. Перекури. Петруху вон поздравить надо». – «Нет, ребята, – говорит дядя Вася резко. – Не пью. Не курю. И вам не советую». Скрылся за углом – к Плетикову подался зачем-то. К деду Серафиму. Умер тот нынче осенью. Похоронили… Ну, мы сидим. Маленько это… У Петьки Вторых сын родился – ножки тому и обмывам. Хоть и на солнце – припекат нас, малость разморило. Прошло минут двадцать – тридцать. Полчаса. Глядим, выруливат он, дядя Вася, из-за угла. Пьяной-распьяно-ой. Без панамки – забыл в гостях её, наверное, – и с беломориной во рту… дым от него, от дяди Васи, как от паровоза. И хитро-хитро чё-то лыбится… Но и на этот раз не подошёл к нам. Так «объегорил».
Бредём, мне в спину всё бурчит. Уши у меня под шапкой, и на ходу ещё – что там бормочет, не расслышу. Поворачиваюсь к нему.
– Ну, чё ты? – спрашиваю. – Устал?
– Ну чё, чё, – говорит мне дядя Вася. – Молись.
– А чё молиться-то?
– Да чтобы не замёрзнуть.
– Мы почему замёрзнуть-то должны?
– Вот де дурак-то дак дурак… И не заметишь, как замёрзнешь. Знаю я это…
– Мы же идём-то, шевелимся.
– Ну дык пока… А где присядем.
– Когда присядем, уж тогда… если уж надо.
– Вам, молодым, как втолковать-то?.. Да бес так спутат всё в мозгах, не собразишь, как и присядешь, как и замёрзнешь, не почувствуешь.
– Ну, ты наскажешь.
– Вот де горе… Иди тогда, не оборачивайся. Башкой-то вертишь всё… как филин. Прямо, сказал тебе, шагай. На ту таёжку.
Тут пошагаешь. Ноги еле тащишь.
– Я не на лыжах.
– Хе – на лыжах!
– Ну дак а чё?
– Да ничего.
Не могу говорить. Губы у меня от мороза – как эспандер. Резиновый. Круглый, кистевой. Только тот сжать трудно, а их мне – разжать. Отерпли. У дяди Васи в бороде они – им и теплее. Я – «скоблёный».
Лес в куржаке. Как дядя Вася говорит: «В опоке». Без ветра – тихий. Стоит – будто замаскировался. Чтобы мороз его не отыскал. Отыщет.
Ронжа одна – таёжная сорока – на всю округу растрещалась. Нас провожает, любопытная. Медведя бы преследовала так же – оповещала б всех о нём. Тот, слава Богу, спит в берлоге.
Пусть выдаёт. Теперь нас это не волнует: сегодня, точно, отохотились. Уж до ночлега бы добраться.
И хитрован же дядя Вася. Как свои пять пальцев, знает эту местность. «Тут, – говорит, – я первым пойду. А дальше – ты. Когда устанешь, поменямся». Он вёл по ровному, в низинке. Как мне идти вперёд – гора высокая. В гору-то вовсе тяжело уж. Так каждый раз, пока бредём.
И этой осенью, картошку уже выкопали, прихожу я к нему. Сидит он, дядя Вася, на крыльце. Лыжину камусом обшивает.
– Пойдём, – предлагаю, – добудем зверя. Гон у него. Возьми лицензию. Я оплачу.
– Не, парень, – отказывается дядя Вася. – Какая мне теперь охота. Совсем здоровьишка не стало. Прошлой зимой едва сохатого догнал… чуть не задохся.
– Ну, – говорю, – сохатого…
– Ты думал, чёрта?
– Да нет… Так, значит, не пойдёшь?
– Дык нет, конечно… Отходился. Отпромышлял, ядрёна вошь. Поизносился, как обшлаг у старой рубахи, поистрепался.
Всему, мол, время. «Кажной веш-шы»
– А лыжи-то?
– И чё что лыжи?
– Да мастеришь.
– А по привычке. Чтобы без дела не сидеть.
Идём, однако, вот. За ним, за дядей Васей, не угнаться. Мне двадцать восемь только лет. Ему почти уж семь десятков. А позади сейчас он – от притворства: так поглядит – как будто помирает.
Где же и вытерпел бы он. Сам заявился. Один идти не хочет – «инфарта опасатса». Где, мол, завалится, ищи его потом. Звери, говорит, прошли. На Медовом. Нашептал ему кто-то. Сам ли придумал. У тебя, дескать, снегоход. «Буран». Оно сподручней, чем пешком-то.
– Да он, – говорю, – не надёжный. Сломаться может.
– Чё он сломатса-то?.. Еслив с молитвой.
Вот и сломался. И зверей никаких не нашли. Старые следы есть. Бык и матка. Но где искать их?.. В Томской области? Снег не задержит их, как нас.
«Буран» пришлось оставить там, где отказал. За собой не поволочишь. Вешкой отметили – вдруг занесёт-то.
И на Новый год домой теперь не успеем. Переживаю.
Избушек по всей тайге настроил дядя Вася – и за «инфарт» свой не боится. В одиночку. С ходу и не заметишь – так упрятал. К одной из них и направляемся.
Совсем уже завечерело. Снег только отбеляет. Да небо в звёздах.
Ронжа отстала, не стрекочет.
Теперь сова летает, ухает.
– Вон, к пихтачу-то, в горку, поворачивай.
Опять я первый.
Поднялись в горку. Вошли в пихтач.
Избушка. Еле разглядел.
– Вон, – говорит, – лопата возле пихты.
Давай, мол, парень, отгребай.
Добрёл я до лопаты. Вернулся. Ружьё снял. К лесине его поставил. Стал дверь от снега освобождать.
Сидит дядя Вася на пне, спихнув с него снежную шапку. Командует.
– Да и трубу-то отгреби, а то как печку-то затопим?
Освободил я и трубу.
Изба – полуземлянка. Без всяких сенцев.
Вошли, согнувшись.
Дядя Вася сначала. Нащупал в потёмках лампу. Зажёг.
Столик. По краям два топчана. На них трава старая – резунец.
Буржуйка. В углу дрова еловые.
Сел дядя Вася на топчан.
– Ох, и устал же я, однако. Это вон сколько… думал, не дойду.
– Я тоже чё-то притомился.
– Да ты-то чё?! Я в твои годы…
– Ты, – говорю, – дядя Вася, почему зубы себе не вставишь?.. А то… как этот… без зубов-то.
Уж не сказал: «Как Дедушка Ау». Не знаю, как он отнесётся.
– Ох, милый, – говорит дядя Вася. – Чтобы вернуть мне красоту двухрядную былую… надо двести лет пенсию получать и деньги больше ни на чё не тратить, тока копить их… на врача-то… на зубодёра. А без зубов, оно и лучше. И не болят, и чистить их не надо. Чаёк хлебнул, во рту пополоскал, оно и ладно – без забот.
– Ну и смешной ты, дядя Вася.
– Да уж тебя-то не смешне. В тайгу вон сунулся на сломанном «Буране»…
– Да я-то…
– Ладно… Чё теперь.
Буржуйку растопили. Жарко стало. Разделись. До рубах.
Снег натаяли. Чаю с конфетками попили.
Суп с тушёнкой сварили.
Поужинали.
Помыл я посуду.
Лежим на топчанах. Сытые.
Мышцы сладко ноют – расслабились. Хоть взлетай.
На душе не горько, пусть и неудача нас постигла. Всякое бывает. На то она и охота.
«Как картошная игра».
Сеноставка шуршит. Не досаждает. Сена у неё по всем углам наставлено. Стогами. Упадёт какой, перемётывает. Мышей в избушку не пускает. Без них спокойно – те надоедают. Ночью и ползать по тебе начнут. Так неприятно. А эта – ладно. С ней жить можно.
– Землянка у меня была. Пошли мы с Шавским как-то на охоту, – говорит дядя Вася, по животу себя ладонью гладя. – Это с Порфирьичем. С Олегом. Так же вот чё-то запозднились. Пришли к избушке. К моёй опять же. Да там избушка-то… Вход – как в нору барсучью. Точно. Печку вот так же развели. Штаны над ней на жёрдочку развесили – чтобы к утру сухими уже были. Сыры-то, худо надевать их. А у Шавского из карманов штанов патрончики – и мода же их россыпью таскать в карманах – тозовочные на печку высыпались. Мы-то – засуетились чё-то – и не знам. И я, тем более, ни сном ни духом. Как оне начали стрелять. Тут кто куда. И оба в лаз. Застряли. Пульки по жопам нам чпок-чпок. Такое, парень, было дело. Ладно, что слабенько – не прохудили, а то бы стало… оно, с дырявой-то, ходить… как-то нешибко…
– Да, – говорю.
– Но, – говорит дядя Вася.
– Много чё у тебя за жизнь случалось.
– Ну дык.
Лежим. Лампу задули – керосин экономим. Карасин, как называет его дядя Вася. Им, карасином, дескать, всяку болячку можно излечить… и рак, поди, – тот даже можно. Мол, у меня, ангина тока начинатса, я карасином глотку окроплю, и всё – здоровенький, хошь заорись. И ешь… морожено-то, дескать… можно.
– Счас в Ялани кино смотрят, – говорю.
– Клуба-то нет – какое там кино? – не понимает дядя Вася.
– По телевизору. «Ирония судьбы». Смотрел? – спрашиваю.
– А это-то… Где чё?
– А мужики-то в баню тридцать первого идут и напиваются где…
– Это… Да, помню, как-то поглядел.
– Смешно.
Хлопнуло где-то что-то. С пихты снег, наверное, свалился.
– Я не люблю нерусское, – говорит дядя Вася. – Я же идь русский. Там чё к чему, не понимаю.
– Какое же нерусское? – говорю. – Самое чё ни на есть русское.
– А разве русское?
– Конечно.
– Да как же русское… На Новый год – и люди напиваются?
– И чё?
– Да пост же идь. На Рождество уж…
– А чё, у нас на Новый год не напиваются?
– У вас – не знаю… А у нас не напивались. Это уж после-то… на Старый. Да и какое оно русское?.. Это мужик сорокалетний… Идёт в уборную… или куда там… штаны у него, никакого, на колени слезают, а сам он падат и кричит: «Ой, мама, мама…»
– Так и чё?
– Да как же чё? Да наш-то, русский-то, мужик так разве скажет?.. Ну-мать твою… уж худо-бедно… То как-то странно… Да и та, баба… Там у него, как у медведя после спячки, изо рта-то… после такой-то еслив пьянки – дак там куда?.. А та его цалует в губы – ну, как-то срамно… В жизне быват, конешно, всяко. Иной раз лезешь цаловатса… Но не в кине идь… Кино – пример… И год невесту обнадёживат, морочит голову, а после ей: пошла, мол, на хрен, не нужна… Тут тоже – как-то… я не знаю… И мать ему на то ни слова… Да нет, какое ж оно русское… И телевизор у меня сломался, слава Богу. Теперь спокойно, можно отдыхать. То всё и пялишься – устанешь.
– Хорошо тут, дядя Вася, – говорю.
– А? – спрашивает.
– Да вот… тепло и хорошо как.
– Хорошо, – говорит дядя Вася. – Но у Татьяны Егоровны под боком было б лучше. Я бы «Чапаева» вот посмотрел… Да его чё-то не показывают. А это… прямо… раньше-то… «Величаем Тя, Живодавче Христе…» Вместо теперь на каждое-то Рождество… срамота эта. Как очумели.
– Если не русское, не интересно тебе, значит?
– Не интересно-то пошто. Чё там смешного, я не вижу. Стыдно…
– Ну, я не знаю.
– Дык не знай.
Подложил я дров в буржуйку. Загудела та.
Лёг на топчан.
Мир вокруг избушки тёмный, суровый. Выйдешь в него – сгинешь.
Слышу:
Начинает похрапывать дядя Вася. Ему хоть где – везде он дома. Ну, не везде, конечно, а в лесу. В любое время. В город не любит он наведываться. «Тока когда нужда заставит, а так бы век его не видел».
Лежу. Думаю:
«А нам с Натахой оно нравится… Каждый Новый год его смотрим. Это кино-то. Сколько уж лет. Чуть ли не с детства. Может быть, мы уже не русские?..»
Вот и меня сон стал одолевать. Уж засыпаю.
Провалился.
14 января, 2009
Петербург
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.