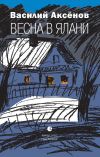Текст книги "Малая Пречистая"

Автор книги: Себастьян Жапризо
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Вспомнилось это, и передёрнулся всем телом Михаил Трофимович.
Кто-то из мужиков дотянулся шестом и спихнул с его головы кепку. Кепка плюхнулась в воду, покружилась, как пчела в танце, и стала медленно отплывать.
Светом ослеплённый, щуря глаза и ничего не видя, Михаил Трофимович повернул голову к мосту лицом и крикнул:
– Витька, сбегай до кривуна, поймай её! – а тихо уже так добавил: – Ею где и водички зачерпнуть, чтобы попить, дак и удобно – кружки с собой таскать не надо – плотная, – и совсем уж шёпотом: – И память вроде как она мне… Колькина… здесь у кого-то он её и приобрёл.
Обвыкнув глазами, Михаил Трофимович поглядывал на народ и рассеянно слушал разговоры. Женщины ругались на мужиков, заставляя их что-нибудь придумать – не стоять же так, катая шарики в карманах, и не пялиться, как на диковинку, не сидеть же тут Нордету до ночи. Мужики негромко отвечали им, что, дескать, нужен бульдозер, а бульдозер, как на грех, на ремонте, простых тракторов потребуется не менее трёх, это уж точно, мол. Можно, конечно, говорили мужики, нырнуть, шкворень вытащить и отцепить грейдер от трактора, а потом верёвкой, но не вытащишь такую ведь махину, да, к тому же, и колёса, мол, песком замыло, да и шкворень там могло перекосить. Ну и мужики пошли, отчитывали женщины их, вы что, мол, уже и плавать-то у нас разучились или холодной воды испугались? – дескать, попробовать-то хоть да можно. Вот и попробуйте, плывите сами, перепирались мужики, два дурака, мол, будут каждый день в речку брыкаться, а мы оттуда вызволяй их. Ну, а, мол, с лодки-то? – ведь лодки-то ещё, мол, есть, не все, поди, погнили. Лодки-то, конечно, есть, ну а с лодки-то чё? – руками с лодки не дотянешься – вон, дескать, голова же только у него наруже.
Нордетиха, сидящая в окружении Нордетят и сочувствующих ей женщин, ни на кого уже с надеждой не смотрела, тихо плакала и без конца повторяла, обращаясь к стриженому затылку мужа: «Скворешник, пьяница несчастный… я же всегда тебе твердила: оберегайся сглазу и воды… Скворушка, Скворушка окаянный».
И мало кто видел, как юноша передавал девушке в красной мохеровой кофточке часы, рубашку и брюки, а когда он спустился с моста в реку и поплыл в сторону заключённого в ней Нордета, по берегам Пески пронёсся мощный народный возглас: «О-о-о-ох!!» – так, что загудел козьепуповский чистейший воздух.
– Нет, рыжий, – говорил вертевшемуся возле него юноше Михаил Трофимович спокойно, но еле владея посиневшими губами. – Тут, хлопец, водолаз нужён. Без водолаза здесь ты ни шиша не сделаешь. Или кусачки, парень, охрененные. Там в шесть же жил… и за станину… на совесть, если как всегда.
И немного позже, выбравшись на мост, стуча от холода зубами и объясняя народу, как там и что, юноша брал из рук девушки одежду и спешно, путаясь в ней, в одежде, мокрым, липким телом, натягивал её на себя.
Суки, поглазеть собрались. Глазейте, денег не беру. Вас бы сюда – я посмотрел бы. Тракторов найти не могут. Гады. Гады. Вороны. Чмо поганое. Разгалделись, как над падалью. Сами бы скопом вытащили уж давно… одними языками… Трактор, трактор, я – грейдер… Коля, мальчишка ты недоношенный. Вмерзал бы он, этот лес, к такой-то маме. Мало его на дне-то тут потоплено да там, в лесу-то, посгноёно.
А на мосту уже негде было и камню упасть. Люди толпились и по берегам. Из Правощёкино, как предположил Михаил Трофимович, здесь были почти все, кто ещё мог самостоятельно перемещаться, а тех, кто не мог, привезли на мотоциклах внуки или правнуки. Был здесь и Левощёкин Евсевий Гордеич, был тут и тёзка его из Правощёкино. Маячил тут и левощёкинский Вася-дурачок. Подошла сюда и Катька-дурочка из Правощёкино, чей домишко маленький стоит недалеко от доротдела, домишко, в который иногда, захватив полученных в магазине на сдачу конфет, тёмным вечером забредал и Михаил Трофимович, чтобы допеть там грустный вариант своей песни. Вася никому не мешал – сидел, словно рыбак, на самом яру, болтал ногами и, пуская с подбородка длинную слюню, жевал с хлебом кем-то подаренный милосердно ему солёный огурец. А Катька – та подступала тихо к каждому, дёргала за рукав, пристально вглядывалась в глаза и, указывая на Васю, говорила: «Сел на пенёк, съел пирожок – и Васька не чешись, так или нет?» Люди не обращали на неё внимания – привыкли.
С яра, запыхавшись, сбежала Левощёкина Александра Ефимовна. Сначала, растолкав столпившихся на берегу и взглянув на неподвижную голову Михаила Трофимовича, она шёпотом спросила у стоявшей ближе всех к ней женщины, живой, мол, нет ли, и, узнав, что живой, дала себе волю:
– А у нас-то чё, в Левощёкино, девки! В Щучку же с моста машина брякнулась. Чё же это за такое-то?! Чё ж за бряканье на нашу голову свалилось? Будто накликал кто. Да чё, ведь пьют же не стихают. Мастер ихий, доротделовский, Октябрин-то, или ка его там… шофёр – молоденький совсем мальчишка, ну и тутошний – Тарас-то Правощёкин, Анкудиныч, а не Палыч. Кто из его родных-то есть тут или нет ли? Сказать бы надо. Только колёса-то и видно. Все, слава тебе Господи, живы, только поросёнок утоп, не выплыл. Тарас поросёнка в городе купил, а эти на машине по дороге где-то с поросёнком-то его и подобрали. Знал бы, говорит, дак и не сел. Но по пословице-то: где упадёшь-то, бы знатьё, там и соломки подложил бы. Ну и… ага, они без этого-то дела где же… как же они, куда без водочки-то, нет, они без водки и до ветру-то не выскочут. Мой тоже еле тёпленький в тайгу уплёлся – послала мох надрать для окон… А тут, болтают, нет ли, медведь ещё бродит. Ну и… перед мостом-то там колдобина. Они в колдобину-то ать. А поросёнок – тот на руль. И – в реку. Перил там, на мосту, и отродясь как будто не бывало, дак чё, махина-то такая…
– Поросёнок, девка, в реку?
– Да пошто поросёнок-то!.. Тот – на руль, машина – в реку.
– Да ты чё!
– Да я ничё. Оттуда только что. Генка на мотоциклишке отторкал. Туда спалкали и сюда успели вот.
– Всё хоть, Лександра, слава Богу? Живы?
– Да ты глуха, девка, ли чё ли?! Живы, живы, сколь тростить-то… Поросёнок только, говорю, утоп. А Тарас и плавать не умет, дак до сих пор на колесе так и сидит там.
– А чё сидит-то?
– Да ты пошто така-то, а! Плавать же, говорят ей, не умет, дак и сидит вот.
– Ну хоть беги, девки, туда…
– Час-то уж… погоди, ещё и тут вот…
– Дак не пойму я, а, Лександра, кто за рулём-то ехал – человек иль поросёнок?
– Ну и беда, девка, с тобой…
Земля, Земля, я-Космос… Коля, беги. Прыгай, салага. Ещё малость. Давай, давай, хлопец! Давай! И бежит Коля. В одной руке его топор, другая – в сторону. И тесёмочки шапки-ушанки вверх-вниз, вверх-вниз. И под ногами Михаила Трофимовича хрустит подмороженная трава, грудь Михаила Трофимовича распирает студёный воздух, и скользят его кирзовые сапоги по глине… Ну, ещё, ещё немного, ну, чуть-чуть, ну, трошки, вот, вот… вот… ах, мать твою!.. Ну, снова начни, хлопец, снова. И бревно, другое, третье… помни, где как. Не оглядывайся на меня и не скалься. И бежит снова Коля, оглядываясь и улыбаясь Нордету: привет соседу, мол. Не скалься, щенок, ты же не на лагерной сцене, а жизнь не частушка – заново не пропоёшь. Третье бревно, четвёртое… Ну, не будь же горшком… Пятое, шестое… Седьмое… Ох, дур-р-рак-к!
И заплакал Михаил Трофимович.
И зашумел народ, запричитали бабы. И кто-то, кто жил поблизости, бросился домой за верёвками, кого-то отправили за лодкой. Засуетились, задвигались мужики. А Катька-дурочка пристала к Васе-дурачку, тянет его за воротник вельветовой куртки, крутит пальцем у виска и маячит о чем-то, кивая на голову Михаила Трофимовича. Ёжился Вася, ёжился, но всё же отложил хлеб и остатки огурца, накрыл их сорванным с растущего рядом лопуха и, взглянув подозрительно на Катьку, а затем – на захороненные им только что продукты, съехал на заднице с яра. Протиснулся Вася в раззуженной толпе, зашёл выше моста, скатил с берега в реку завалявшееся там бревно, забрёл в воду, оплетя ногами в разноцветных ботинках, оседлал бревно, оттолкнулся и поплыл, отгребаясь, как вёслами, ладошками. Не знает, куда смотреть, народ, что делать, не знает. Быстро затянуло Васю с его судёнышком под мост. Вынесло с другой стороны – а Васи нет. Только крест-накрест вверх подошвами его ботинки и виднеются. Успели, зацепили шестом бревно, подтянули к берегу, перевернули: сидит Вася с зажмуренными глазами и плотно запечатанными ноздрями – в них упрятал пальцы указательные. А с яра со свистом несутся мальчишки и кричат, что идут, мол, трактора, и не три, а целых семь. И мужики на лодках подплывают. И верёвки принесли…
Но ничего не слышит Михаил Трофимович. В ушах его хруст пожухлой травы – все остальные звуки заглушил, ступни его остывающих ног скользят по глине, в глазах его маленькими светящимися точками снег посыпал, повалил спустя чуть хлопьями.
Человек, человек, я – … Коля, брось топор, мать бы его, железяку чёртову, отчитаемся, у меня в бору один заначен. Беги к берегу. Давай. И бежит Коля, не бросив топора, но опять проворачиваются брёвна. И не удержать их Михаилу Трофимовичу, не справиться с ними. Застилает глаза снег… Снова, Коля, снова… Но никого, только шапка-ушанка, как на прилавке, на будущей шпале вниз по Щучкопеске… Коля, Колька-а! Харченко! Нет, не беги, придурок, не беги в такой вон снегопад-то. Ухватись за стояк. Я тебя сниму, я тебя вытащу. И брось топор. Ухватись, вцепись обеими руками, ногтями впейся, зубами вгрызись… Проворачиваются большие, большие, огромные хлысты. И только простенький гроб, и только простенький крест, и… налетает из прошлого, бьёт по глазам… Окунает Михаил Трофимович свою седую голову в воду… Ползи, дурак, ползи, недоносок. Ползко-о-ом! – я хоть и младший, но сержант… А что это за гром, что это за звук такой?.. И снова снег маленькими светящимися точками, спустя чуть – хлопьями… Да то не снег, то пух вороний. Вон же они, страмовки, голенькие, в небе болтаются, толкутся. Кто ж это догадался, кто ж их ощипал? Ах, это Он. Да, вон Он, в телогреечке с номерком, в шапке-ушанке, свесил с облачка ноги в кирзовых сапогах. А что это Он так, что это Он ногу на ногу закинул и отклонился в сторону так, а? И что Он это: тах, тах, тах… Да это не Он, это сердце: тах, тах, тах… тах, тах… тах…
– …………ля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ать!
Да протяни Ты руку! Да сними Ты его с брёвен!
Засуетились вовсе люди – как муравьи у муравейника. Вступили в воду, словно при крещении.
Рванулся Михаил Трофимович, будто там, за спиной у себя, что вдруг страшное увидел, откинулась его белая голова назад, и уставились его маленькие бурые глазки в синеву козьепуповского неба. И сбылась вынесенная из детства мечта: под самое облачко взмыл он на фанерном аэроплане с грейдерским «штурвалом» и «троном» грейдерским, подле кирзовых сапог Его мёртвую петлю выкинул и на Лик взглянул дерзко. И ещё повторил бы. И ещё… Но не выдержал нагрузки, отказал износившийся мотор старой стиральной машины. Спокойно, от всего отрекшись, едва-едва – то ли поднимаясь, то ли опускаясь – планирует над островом в струе прозрачного воздуха деревянная птица. Несёт она пассажира своего сквозь застилающий путь вороний пух, и медленно-медленно сентябрьский день перестаёт быть светлым, вода – холодной, а небо…
Ага, далеко, страмовки, на Черниговщину: мамка портфель купила мне, обмыть бы его надо.
И уж бегут там, внизу, задрав головы и взбивая босыми пятками дорожную пыль, ребятишки, и кричат ребятишки щербатыми ртами:
Эраплан, эраплан, посади меня в карман!
А в кармане пусто – выросла капуста!
А когда аэроплан пробежал коротко по траве и замер, когда пилот, спрыгнув на землю, снял краги, очки и кепку-восьмиклинку и бросил их в кабину, вокруг него уже собрались все жители села Цыбулихи. И первым признал пилота старый Остап Цыбуля.
– Так то ж, хлопцы, – сказал Цыбуля, – сынок товарища моего, Трохыма. В большие люди, видать, выбился. Глянь-ка, Анисья, парень твой с неба с валился, – сказал так Остап Цыбуля и отёр с лица выкатившиеся из белёсых глаз слёзы.
И выходит из хаты с чёрным, блестящим портфелем мать.
– Да буде, буде, мамка, – говорит ей Михаил Трофимович, – буде пыльного-то целовать. Давайте лучше праздник праздновать, встретины справлять, а то ведь столько лет не виделись.
И потянулся славный праздник. Гуляют люди по саду, бражничают. И к Михаилу Трофимовичу все норовят почтительно приблизиться с вопросами. А над садом луна большая, полная зависла.
– Ты, Михась… уж я тебя по-свойски, – говорит захмелевший Остап Цыбуля, – будто лампочка – в тень заходишь, а от тебя свет падает.
– А он у нас такой, – отвечает Цыбуле подружившийся с ним Левощёкин Евсевий, – щанок, одним-то если словом.
А Правощёкина Таисья Егоровна отошла поодаль, села на белую, фигурную скамеечку и, томясь в лунном свете, заиграла на серебряной трубе тоскливое.
А там, когда солнце, проскользнув между доротделовскими конторой и гаражом, готово было скрыться за маковкой Козьего Пупа, то с моста и с берегов Пески уже некому было бросить на него последний взгляд. На прибрежном песке стояли обтекающий трактор и грейдер. И всё кругом – и на мосту, и по правому, и по левому берегам реки – было усеяно конфетными бумажками, шелухой кедровых орехов и, конечно же, окурками.
А там? А там – это я машу вам рукой, я, с жавшимся от тоски сердцем, говорю вам: до свидания. Я говорю вам: до встречи. И ухожу, молясь: Помилуй, Господи, нас.
1982
Как Фоминых Егор, ещё никто так
Вы можете, конечно, представить Ялань, в Ялани – небольшой, елового бревна, скособоченный в сторону улицы, по простой причине будто – близорукости, под низкой, пологой, двухскатной, из пихтового, трухлявого уже от времени желобника крышей дом в три оконца на дорогу, одно из которых забито наглухо листом фанеры. На фанере трафаретная надпись: «Не кантовать!» – попробуй ослушаться. На фанере же: рюмка, зонтик и ливень косой – всё это, конечно, символически, не натурально. Не как предписано, фанера приколочена – наоборот. Перед оконцами – заросший крапивой и одичавшим, выродившимся малинником палисадник с раскуроченной свиньями изгородью. Там же, в палисаднике, засохшая несколько лет назад берёза с обглоданным овцами комлем. На мёртвой ветви берёзы висит закинутая туда когда-то мальчишками велосипедная покрышка, скрутившаяся от дождей и солнца в правильную «восьмёрку» – не всякий выпишет и от руки такую. На мшистом желобнике крыши лежат давнишние, истлевшие до прожилок берёзовые листья, неведомо как попавшее туда цинковое ведро без дна и без дужки и кривые, с размочаленной на них корон черемуховые удилища, которых три.
Вы можете, конечно, без особого труда представить, как дом выглядит и изнутри: стол без клеёнки и без скатерти, заляпанная пятнами томатного соуса из рыбных консервов и усыпанная зачерствевшими хлебными и табачными крошками столешница; две-три неокрашенные табуретки; диванчик деревянный, или лавка; железная кровать, застеленная серым суконным одеялом, солдатского образца, со старческой бахромой по краям; на стенах с облупившейся местами побелкой в простеньких, чёрных рамках несколько фотографий с виньеткой елисейского фотоателье «Полярный фотофокус»; по верхним углам избы жирная копоть и лохмотья паутины; в закутке умывальник, под ним таз на лиственничной чурке, возле которого петляют кучно мухи, тянет сыростью оттуда; на печи тараканий табор. И покатый к окошкам, что на улицу глядят, пол. И естественно: свисает с потолка электрический провод, а на конце его болтается патрон – и в патроне, как мыльный, мутный пузырёк, засиженная мухами лампочка ватт на сорок. И патрон, и провод – в толстом коконе из слоёной извёстки. Ну и ещё: запах ветхого, источенного жуками дерева и не стиранного давно белья. А про умывальник вот что следовало бы ещё сказать: он протекает – и поэтому там, в закутке, слышится беспрерывное: шлёп-шлёп-шляп. Ну и про таз под умывальником: подобный встретить можно в бане – казённый таз в казённой бане.
Всё это так. Всё это вы вообразите запросто. Но стоит вас спросить: кто в этом тереме живёт? – и вы стушуетесь, вы попадёте пальцем в небо. Не стану вас дразнить, открою: дом этот Егора Фоминых. Егор в нём родился, вырос, осиротел, женился, овдовел – и вот уже лет двадцать как живёт он в этом доме бобылём.
И вот что ещё можно сказать про Егора:
Многое позабыл Егор напрочь, от многого отказалась его семидесятилетняя, уставшая сама от себя память, но то, что нынче, в эту жаркую пору июньскую, когда запах хвои и черёмухового цвета душит разомлевшую Ялань, его день рождения, Егор помнит. И подумывать о своём дне рождения Егор начал сразу после того, как в огороде Мецлера Ивана Карловича сошёл просыпанный золою снег и Иван Карлович со своей старухой Эльзой выставили на весёлую проталину пчёл. Одна пчела, ошалевшая, наверное, после долгой зимней спячки, так ли что на неё накатило, залетела в ограду к Егору и ужалила в склизкий нос вечно сонного кобеля Марса. Проснувшись и от боли обезумев, Марс двумя лапами сгрёб с носа занозившуюся жалом и обречённую на смерть виновницу его пробуждения, вмял её в землю, с места взвился и, перемежая жалобный визг редким, отчаянным брёхом, пустился кружить по ограде и совать раненый нос во все щели, то и дело ударяя по нему лапой. Тогда-то, заслышав плач Марса, выйдя на крыльцо и взглянув из-под ладошки поверх худых ворот в мецлеровский огород, Егор и подумал впервые после пережитой зимы: «Скоро же и день рожденья, ёжки-палки», – подумал так, обратился взглядом к Марсу и сказал: «Дикуешь-то пошто, гад!» – сплюнул, развернулся – и скрылся в тёмных и сырых из-за прогнившей кровли сенцах.
В утро своего юбилея Егор проснулся, проснувшись – поднялся, долго в постели не валяется: кости этого не терпят, – попил жиденького чайку, размачивая в нём окаменевшие «тульские» пряники, без интересу и бездумно поглазёрствовал в окно на воробьёв, облепивших сухую берёзу, затем вышел из избы и, застыв посреди двора, начал прикидывать: кого же зарубить ему на юбилейный ужин – петуха или курицу? Выбор нелёгкий: кобель, петух, курица да мыши в подполье – всё и богатство, а поторопишься – не пожалеть бы как после. «Тебя бы порешить вот, шалопутного, – сказал Егор, зло глядя на млеющего в тенёчке кобеля, лишь чуть-чуть разомкнувшего слипшееся веко. – Дак не китайцы ведь – собачину не жрём, – и добавил, отвернувшись от Марса: – Тебя, дурня чумоломного, и дохлого-то не то что китаец оголодавший, а ворона – и та, наверное, не клюнет, за версту – клюв стиснет – и облетит, побрезгует потому что – и понятно». Хвост Марса в знак полного согласия едва заметно шевельнулся, веко его опять сомкнулось: чё правда, то правда, мол, хозяин, но мне, дескать, один хрен как до тебя, так и до вороны, а уж про китайца – про того и толковать тут нечего – он же китаец.
– Пустобрёшина, – сказал Егор. И так ещё сказал он: – Хвост-то оттяпаю, дак поваляться мне здесь… но.
Белый, голенастый петух молча, но яростно разгребал возле козел слежавшиеся опилки – скрёб, скрёб, а после пятился и одним глазом, свесив на бок рыхлый, фиолетовый гребень, внимательно пялился, что там выскреблось; по виду-то – не густо.
А пёстрая, плешивая на шее и гузке курица, уткнув клюв в перья на груди, угрюмо дремала, зябко покачиваясь на одной обшелушившейся лапе.
– Чёрт-те знат её, такую инвалидку, – пробормотал Егор, – зернишком-то тебя как следует если попичкать, дак, может, ещё и нестись, засранка, будешь. Яичко бы, натужилась, к Пасхе-то где одно хошь обронила бы – дак и то много, больше-то жирно будет уж с тебя, такая ты болезная… вон – как поганка… А как опять – вдруг если околешь? До Пасхи-то ещё почти что год… И где его, зернишко-то, достанешь? – пробормотал Егор и махнул рукой на курицу.
Утреннее, но уже палящее нещадно солнце легко пробивалось сквозь голые, редкие жерди, которыми покрыт двор, косо укладывалось на землю, на щепы, широкими пыльными полосами пятнало спину Егора и – будто специально – как главное действующее в трагедии лицо – высвечивало петуха. Щурясь, Егор разглядывал его обмороженный в одну из зим, мясистый гребень, напоминающий старую пилу с обломанными зубьями, отдувал машинально назойливую муху, атакующую ноздри, и про себя решал. Долго решал. Но всё-таки решил. А что решил Егор, петуху и в голову не приходило, видно: не обеспокоился, не побежал тут же и не схоронился в лопухах, где его и за сутки было бы не отыскать, заквохтал только, простодырый, червячишку откопав, да так: тихонечко – чтобы курицу-иждивенку, вероятно, не разбудить, а то ещё и с ней делиться надо будет. И вот же как: божок куриный не забил тревоги – забылся, вероятно, там, на насесте в небесах куриных.
Постоял ещё Егор, рассеяв взгляд на петухе и что-то обдумывая трудно, затем подался к поленнице, разглядев там среди хлама, поднял с земли оржавевший в сырости топор, ощупал пальцами зазубренное острие и, матюкнувшись на что-то, на кого-то ли, отнёс топор к чурке, на которой колол дрова обычно. Сам сел на чурку, закурил. И дым от него густой, тягучий потянулся в щели промеж жердей.
Докурил до горечи папиросу, до самой гильзы, затоптал её, гильзу, с чурки поднялся, поплевал в ладони и стал подкрадываться к петуху.
А с тем, с петухом, такое дело вот: и не чает будто, ворошит себе лапами – то той, то другой по очереди, словно заведённый, – опилки, трясёт студенистым гребнем да восхищается жирными находками простодушно – ну и на беду свою.
Изловчился Егор, ухватил петуха за вскинутые в последний момент крылья, зажал, поймав, его под мышкой и направился с ним к месту казни.
Петух вскудахтнул сипло и умолк, соображая, вероятно, что к чему, или того проще: голоса лишился с перепугу.
Марс вздрогнул и оторвал от земли заспанную морду. Вид бестолковый у него – такой: «Пугало, мать твою…» – определил его Егор так.
Курица дёрнулась, выпустила, едва не завалившись на бок, вторую лапу, но глаз не открыла. «Спящая краля, язви бы яё», – буркнул Егор.
Покосился Егор на присмиревшего петуха – и померещилось ему, будто слеза из глаза выкатилась у того. То ли слеза действительно, то ли солнце так в зрачке расширенном сыграло? «Вот, падла», – выругался Егор. Сорвал на ходу сушившуюся на верёвке портянку и обмотал ею птице голову. Колотится куриное сердце, добавь ему чуть мочи – вырвется. Крепче стискивает жертву Егор.
Сел на чурку, петуха на колени переложил и обдумал всё ещё на раз. «А тут хошь думай, хошь задумайся», – сказал так, встал резко и, пристроив петуха, тюкнул топориком. Портянка свалилась. Петух – с надломленной, как стебель, шеей, с головой, поникшей, как цветок после заморозка, – сорвался с чурки и понёсся по ограде, размахивая крыльями и разбрасывая пух.
Марс привстал на все четыре лапы, облизнулся, но помогать хозяину не рискнул.
Курица оставила свой пост и подалась, кандыбая, в дикий бурьян, затянувший завозню.
Измаявшись, запыхавшись, но изловив-таки петуха, распалившийся Егор положил его снова на чурку – и махнул топором изо всех теперь сил: оп-пля!
Голова птицы осталась на чурке, а туловище её взлетело и – случаю, привычке, чуду ли благодаря – уселось на слегу. Из горла полилась на землю струйка крови.
Тут уж и Марс, возбуждённый её запахом, не выдержал, подскочил и стал лаять, задрав морду, прыгая, давясь слюной и кромсая зубами столб, что опорой под слегою. «Облай, облай, дурья твоя башка, – сказал Егор.-A-то в тайгу-то умахнёт. Ума-то нет, дак тут вот хошь, в ограде, на готовое позарься».
Сказал Егор так, наговорил ещё много худого и про самого Марса и про всю его родню, пошёл после к амбару.
Вернулся оттуда Егор со щербатыми граблями и сдёрнул петуха со слеги, или то, что от него осталось.
Марс, ощерившись и вздыбив загривок, кинулся было, но получил в бок сапогом вовремя, охнул, заскулил и, втиснув хвост под брюхо между лапами, убрался под крыльцо, откуда заискрились дьявольски его растравленные зенки.
«Вот и сиди там, гамнюк, и не высовывайся лучше, если вон топором по рёбрам схлопотать не шибко хочешь… по добру-то по-хорошему», – сказал Егор, подобрал убоину и пошёл с ней в дом.
Ощипав в избе над лукошком и содрав, чтобы не палить, с петуха кожу, Егор сунул его, выпотрошив, в чугунок, налил воды, бросил соли и поставил чугунок в русскую печь, но растоплять пока её не стал. Подумал: «Потом уж, вечером… недолго». Помыв руки, Егор вытер их об штаны и подошёл к столу.
Сел Егор за стол и снова задумался. А задуматься ему было над чем: там, под столом, за его ножкой, ночевала со вчерашнего бутылка винца «Южное», и винца в бутылке той было на треть, а на треть той трети была муть – осадок хлопьями. Поставил Егор бутылку на стол перед собой, рассеял на ней взгляд и принялся размышлять. Размышлял Егор вслух и таким вот образом:
– Пензия позавчерась, значит, была, от пензии десять рублёв уже осталось, а два рубля потрачено на это. Еслив я это выпью – ни там и ни сям. Еслив не пить – скиснет совсем % и вовсе выльешь. А за неё ведь деньги плочены. Да и не малые. Хочешь не хочешь, а пить надо. А еслив я это выпью, то ни там и ни сям, а не пить еслив, то скиснет, а уж киснет, дак только вылить, куда его – уксус не потре-блям – не китайцы, а зачем выливать, еслив за неё деньги такие уплочены, а деньги уплочены такие, значит, и пить надо, нечего пялиться на неё за так-то просто, а еслив я эту кислятину выпью, то… – и умолк Егор, уставши размышлять, а минуты через три-четыре остановил на этикетке винной взор – и снова начал:
– …то ни там и ни сям… Пойду-ка лучше я схожу к фашисту, плесну ему с полстаканчишка, проглотит фриц – и заусит его, ну а тогда, быть может, чё-нибудь да и получится? А не получится – а скажет, мол, что занят шибко, распивать ему, мол, некогда, дак и жалеть тут не о чём: один хрен, что самому эту кислятину выпить – ни там и ни сям, что с нацистом разделить.
Спустился Егор с горки, на другую взобрался и предстал перед аккуратненьким домиком Мецлера Ивана Карловича. Взялся Егор за покрашенные, гладко обструганные прежде штакетины палисадника, в окно слепое с улицы уставился и крикнул:
– Хозяин!
В черёмухе и на малине, что в палисаднике, пчёлы нудят, на тропинке возле дома в пыли куры справные вошкаются, в тени у забора две жирные свиньи вальтом расположились, друг дружку угощая сдобными ветрами, одни лишь уши и хвосты у них живые, туши бездвижные – сомлели свиньи. Где-то поблизости безумолку трещит сорока – на яйца мецлеровских кур зарится – не иначе. «И молодчина!» – похвалил сороку мысленно Егор.
Время идёт, Егор нервничает, а хозяина в окне так и не видно.
«Куда же запропастилась морда эта эсэсовская?» – думает Егор и кричит громче, чем в первый раз:
– Хозя-а-а-а-ин-н!!
В глубине глухого, сплошь тёсом крытого двора твёрдо хлопнула калитка, послышались гулкие шаги по деревянному настилу, лязгнула щеколда, ворота мягко распахнулись, и из полумрака добротных построек на вызолоченную солнцем улицу вышел красноликий, крупноносый, тугощёкий и седовласый Иван Карлович.
– О-о, – говорит Иван Карлович. – Егор! Ну, здравствуй, здравствуй.
– Здорово, Карлыч, – говорит Егор. – Передохни малёхо – то в трудах всё. Посидим чуток, немного покалякам, а то давно чё-то не виделись… Нельзя же только всё работать, парень… В лес-то не убежит, а убежит, дак и… и шут бы с ей… С неё и кони-то – те дохнут.
– Давай посидим, – соглашается Иван Карлович. – Оно и правда, что давно уже не виделись, чуть ли не с майских самых… так, пожалуй?
– Да и, поди, что так оно и есть, – говорит Егор.
– А кони-то и так, и без работы, Егор, дохнут, – говорит Иван Карлович. – В Чалбышевой вон десять штук в один день, как сговорились будто, сдохли.
– Все дохнут, – говорит Егор. – Тут хошь сговаривайся, хошь нет… Камень разве – тот – и не родится, дак и не дохнет… Но он и – камень.
– Умно, – говорит Иван Карлович.
Прошли они – Иван Карлович впереди, Егор следом – в палисадник и сели под черёмухой на белую скамеечку, густо усыпанную черёмуховым цветом, словно скатёркою застеленную.
– Хорошо у тебя здесь, – говорит Егор, – не жарко. Как в Крыму, – говорит Егор. И думает: «А хрен бы знал, как там, в Крыму-то в этом, я ведь там сроду не бывал… Но чем лучше скажу, – думает Егор, – тем и верней, может, получится?»
– Ну, в Крыму, конечно, не в Крыму. Крым есть Крым – место, Егор, правительственное. Но всё равно неплохо, это точно, – говорит польщённый Иван Карлович. – Тут на днях с края приезжали, кино для телевизора у меня в палисаднике снимали. Многосерийная картина будет. Скоро, обещали, что покажут. Как пойдёт, я позову тебя. Переживательное вроде очень. Правда, теперь не знаю, какую программу включать. Ванька же в отпуск приезжал, весь отпуск с телевизором провозился, сделал восенадцать программ. Куда нам столько, говорю. Смотри, отец, теперь, что душа, мол, пожелает. И Новосибирск берёт, и Кемерово, и Барнаул, и Иркутск, и Омск, и Исленьск, и Берлин, и смутно-смутно так, как сквозь разбавленное сильно молоко, китайское что-то. Китайцев-то я по наружности да по мундирам узнаю, а другие передачи – там всё не на русском и не на немецком – так только, глаза пота-ращишь, но чудно-о-о… чудно, конечно… такое безобразие покажут иногда – Эльза плюётся и уходит.
– Да-а, – говорит Егор заискивающе. И думает: «Брешет или нет, гестаповец?»
– А ты разве не видел? – спрашивает Иван Карлович.
– Ивана-то?
– Да нет.
– A-а, телевизор-то?!
– Да не-ет. Кино-то как снимали, – говорит Иван Карлович. – Тут, в палисаднике-то у меня.
– Нет, – чистосердечно признаётся Егор, – не видел, – и виноватым вроде себя чувствует. И говорит: – Да я чё-то, Карлыч, последнее-то время никуда и не хожу, вот только сёдня…
– И не слышал?! – удивляется Иван Карлович.
– He-а, не слыхал, – говорит Егор совсем обескураженно. – Да я чё-то, Карлыч, последнее время, кроме кобеля своего, никого и не слышу, а в мой-то край никто шибко и не заглядыват, кроме овечек. Да это… сам я виноват, конечно… Знашь чё, Карлыч, – поспешно, чтобы совсем-то всё уж не испортить, чтобы задуманное-то не загубить, говорит Егор, – у меня тут, – по карману хлопнул, – есть маленько, совсем, правда, кот наплакал… Со мной не выпьешь? Эльза-то ругаться не станет? – не скажи Егор про Эльзу, отказался бы, возможно, Иван Карлович, но вот – взыграла гордость в нём тевтонская:
– Эльза? Э-эльза?! А что мне Эльза?! – говорит, чуть привскочив при этом на скамеечке. – Эльза как Эльза. Ты не смотри, что она родня кайзеру Вильгельму, прабабки у них в разное время за одним мужиком замужем были. Мы тут с Эльзой на днях посидели… чё-то тоскливо стало – Ваньку-то как проводили. Выпили с ней двенадцать бутылок водки. Не залпом, конечно. А то подумаешь… За вечер. И ночи ещё немного прихватили, пока кино японское смотрели. Хоть бы на стопочку отстала: я хлопну, и она следом. Ну, под хорошую закуску – под поросёночка… тут закоптил. А что, мне говорит, я, мол, тоскую твоего не меньше.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.