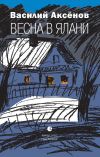Текст книги "Малая Пречистая"

Автор книги: Себастьян Жапризо
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
У Чеславлевых ругаются. Марью не слышно. Только Мишу. Кобель у них в ограде лает.
Дядя Саша, сложив руки на верхнюю жердь, на руки устроив подбородок, стоит у изгороди в своём огороднике. Слушает. Наблюдает.
Тётя Луша, громоздкая, как называл её отец мой, толстопятая, смотрю, взбирается на изгородь. Жерди под ней трещат. Как дядя Саша бы сказал: нешшадно.
– Сломашь, – говорит дядя Саша.
– Не сломаю, – говорит, запыхавшись, тётя Луша.
– Городить сама будешь… А ты куда?.. Не в космос собралась?
– Пойду, уйму их.
– Дак а тебе-то чё за дело? – спрашивает дядя Саша.
– Не порешили бы друг дружку… Кричит-то так, как заполошный, – отвечает, переводя дух, тётя Луша. – Греха какого бы не утворил… Десантик.
– Не первый раз, – говорит дядя Саша. – Еслив молчал бы… А раз кричит, значит, нормально. И не Десантик, а Десантник… сколько уж, глупой, повторяю.
Только взобралась на изгородь тётя Луша, одну ногу через верхнюю жердь перевалила, тут же и выстрел прозвучал. Набрал я в беремя дрова – так чуть не выронил – так неожиданно. Тут же, следом, и второй выстрел прогремел.
Грохнулась тётя Луша с изгороди на парник. Лежит, не шевелится.
Говорит дядя Саша, не меняя ни позы, ни выражения лица:
– Одну добыл, парень.
Выходит из ограды Миша. В руках ружьё держит.
– Довела! – говорит. Ружьё разомкнул, гильзы из него вынул, положил их в карман куртки. – Писклявое гестапо!
– Убил, чё ли? – спрашивает дядя Саша.
– А чё ещё мне оставалось? – говорит Миша. – Убил, конечно.
Тётя Луша подниматься было начала, но, услышав, наверное, то, что сказал Миша, опять, вижу, обмякла.
– Теперь посадят, – говорит дядя Саша. – Дострелялся.
– За чё? – удивляется Миша. – За кобеля?
– Дак ты не Марью застрелил, и не мою, а кобеля?
– Да кобеля! Какую Марью! Она меня, Пикулька, уж заела… Хлеб, дескать, здря кобель твой жрёт. С утра до вечера пишшит мне в ухо… Ведь на охоту, дескать, не хожу, всё и талдычит. Рука болит, кака охота!.. Перетрудилась – раз в сутки есть наладила собаке!
– Ну, мать честная, и придурки, – говорит дядя Саша. – Тьфу ты, зараза, напугал.
Поднялась тётя Луша с парника, ухватилась одной рукой за поясницу, другой – за голову. И говорит:
– Сразу давление подскочило. В избу пойду, лекарсва выпью… И валидолу… под язык-то… То аж в глазах вон потемнело.
– Лучше уж водки, – говорит дядя Саша. – Дома-то нет?
– Какая тебе водка!
– Не мне. Тебе. А мне-то чё… в парник не падал.
Ушла из огородника – не вижу тётю Лушу. В избе дверью, слышу, хлопнула.
Гриша Мунгалов. Остяк. Из вагончика своего выпал. Плашмя. Встал. Сначала – на четвереньки. Потом – на ноги. Высмотрел нас из-под ладони. Идёт в нашу сторону. На ногах-как на ободе. Кривые. Без спиц только.
Дом у него был, сгорел. Балок поставил рядом с пепелищем. В ём теперь проживат, как на заимке. Так сказал бы дядя Саша. Так иной раз и говорит: там, у яво, у Гришки, в зимовье, мол.
Пьяный Гриша. Месяц назад приобрёл в городе курточку. За десять рублей. По дешёвке. На радостях стал обмывать. Ну дык – удача-то такая. Вторую пенсию уже, до копейки, снёс Колотую. Тот, Колотуй-то, спиртом приторговывает. Не спирт – отрава. Деваться некуда, и пьют.
– Сё, – спрашивает Гриша, – за пальба? Или по-слысалось, приснилось? Во сне охотился как будто. На медведя.
– Но, – говорит дядя Саша. – На медведя… В штаны от страха-то не наложил?.. Медведь – шайтан, стрелять в яво нельзя… Хошь бы на белку. А то охотился он на медведя.
Глядит Гриша на Арынина – будто не узнаёт.
Миша уже в ограде скрылся.
– Десантник кобеля застрелил, – поясняет дядя Саша. – Оно и надо бы… кобель-то тот ещё – за курицами тока.
– Своёва? – спрашивает Гриша.
– А чьёва же? Ну не моёва ж.
– Еслив своёва-то, дык правильно. Давно следовало. Сыбко дряной был кобелиско, – говорит Гриша. – Пустокорм. Пустолай. Вот сапка выйдет из него путёвая. Как из ондатры.
– Ага. Из соболя, – говорит дядя Саша.
– Сносу не будет ей… и мастью модна. Секлетари, насяльство, носят.
Смотрит Гриша на дядю Сашу, признал его будто, и спрашивает:
– Арынин, как твоя фамилия?
– Арынин, – отвечает дядя Саша.
– А фамилия?
– Арынин, говорю тебе.
– Ну а фамилия?
– Да пошёл ты… привязался.
– Арынин, а Арынин, ты в Англии был?
– А кто меня там ждёт? Чё мне там делать? И я кого там не видал?
– Там наводнение. Людям помог бы… аглисянам.
– Да отвяжись ты… Прицепился. Вот уж заноза-то дак уж заноза.
– А выпить хос? – интересуется Гриша.
– Ачё, есь?
– А ты как думал! – говорит Гриша. – Я зэ куртоську купил тут выгодно, дык обмываю.
– Всем уж известно… во Вселенной.
– Серая. Савьётовая. Запасся на обмыв.
– Да ты яё уж месяц обмывать, она у тебя новее новой должна стать, – говорит дядя Саша.
– Не месяц. Два. Прозег её тут – гладить насял. Гладить-то взялся и уснул…
– Не мудрено… так дёшево досталась.
– Обслаг… Заплату уз поставил.
– А чё не в куртке-то? – спрашивает дядя Саша.
– Сохнет, – отвечает Гриша. – Постирал. Сол в ей, упал. От Колотуя.
– Упасть недолго… В такую сырось, уж и вовсе.
– Пойдём ко мне, – приглашает Гриша дядю Сашу. На меня после перевёл взгляд и говорит: – А ты, Серёга? Ты зэ ессо не обмывал.
– Нет, – говорю. – Работать надо.
– От работы кони дохнут, – говорит Гриша. Смеётся. Чайник так электрический вскипает: пых-пых. Зубов-то нет – кобыла выпердела. – Медведь пусть работает. У него сетыре лапы, а у нас две, и без когтёв. В одной руке долзна быть лозка, в другой – крузка. А по-другому – нет в зызни радости, тока – охота. Когда охотисся, и пить не надо. Я зэ остяк.
– Все это знают.
Отпрянул дядя Саша от изгороди. Вышел вскоре из ограды на улицу.
Выступает за ворота и тётя Луша. Руки в боки уткнула и говорит:
– Пчёл надо составлять, а он направился куда-то! Тока ещё не расфрантился.
– Ты погляди, погода-то, прынцэсса… Я ненадолго.
– И чё погода?.. Как погода. Ещё ревизию не делал… Скоро прояснит. Ветер вон – чуишь? А пчёл положено составить. Осенины, – говорит тётя Луша. – Старое бабье лето закончилось – пора.
– Обдует, обыгат – завтре и составлю. А сёдни злые есчё будут. Осердятся – покусают.
Пошли Гриша с дядей Сашей. Чуть не под ручку. Скрылись в Гришином балке. Дверь в нём была открыта – затянули.
– Холера, – говорит тётя Луша. – Покусают… Тебя, пьяницу, загрызть мало. Скормить мядведю… Может, тошшой-то што, дак есть такого не станет – побрезгат… Ну, тока пусь он мне заявится… Космы-то выдеру седые… Гуран несчастный.
Смотрит на меня тётя Луша, смеётся.
– А ты-то с ними не пошёл чё? – спрашивает.
– Да вот, дрова надо стаскать… успеть до снега.
– А чё уж снега ждёшь?
– На всякий случай.
– Люди вон делом занимаются, а мой… Приди вот тока, лихорадка. – Потыкала палкой в воздух – сердито. Стоит. В одной руке палка. Как посох. Другую – в бок себе уткнула. Не смотрит в сторону балка. Куда-то. Думает о чём-то – похоже.
В Городском краю показалась «Нива». Та, не та ли? Белая. Свернула с асфальта. Направилась в сторону Межника. Та, значит. Вряд ли охотники или рыбаки – хоть и пятница – не вёдро. Та – с этим бампером-то – как у танка. И ждал сегодня. Не было уже неделю. Обычно в это время дня. Туда на чём ещё, на «Ниве» только. Сердце колотится – она.
После дрова дотаскаю. Перерыв надо сделать.
Пошёл в дом. Нагрел чаю. Пью. Дую. Обжигаюсь. Отец ругался на такой, любил чуть тёплый. А матери – той только кипяток. Чай они вместе и не пили. Порознь. Она – с конфетами, подушечками. Он – если стряпанное что-то есть – со стряпаниной, а если нет, тогда простой.
Постучались в дверь.
– Да, – говорю.
Входит.
Надежда. Младшая дочь Веры.
– Здрасте.
– Здрасте. Ты чё? – спрашиваю.
– Мамка послала, – говорит.
– Зачем?
– Полы помыть.
– Ну, удирает, утворяет… твоя мамка. И сам бы помыл. Мой, – говорю. – Вода нагретая в подсобке… скотине ставил. Да я и сам бы. Помыть-то – трудно ли.
Сходил в подсобку, принёс ведро горячей воды. Дал Надежде тряпку.
– Можно, дядя Серёжа, пока полы мою, телевизор включить? – спрашивает. – Чтобы не скучно.
– Тебе чё, скучно?
– Нет.
– Включай.
Включила Надежда телевизор. Новости передают. Сообщают про Калоева. Помню, убил кого-то за границей – про этого. Будет отпущен.
Пошёл я на улицу. Чтобы Надежде не мешать.
Дрова таскаю.
Вышла из дому Надежда, вылила из ведра в лог грязную воду.
– Всё, я помыла, – говорит.
– Во всех избах?! И в спальне?
– В спальне чисто, там не стала.
– Спасибо, – говорю. – А мать придёт, я отругаю.
– Сёдня не придёт. Завтра.
– Знаю.
Ушла Надежда. Забавная. И на Степана вроде походит, в ихродову, в стародубцевскую, но работящая. Бывает. Всех дочерей к работе приучила Вера. Всегда за ней – как лоскутки. Степан – тот тоже неплохой, пить только начал. А с этим так, или уж пить, или работать. А кто и так, пока не выпьет стопочку, и за работу не возьмётся. Да хоть Арынин вон, к примеру. Тому стакана будет мало.
Дрова унёс под навес. Вернулся.
Вываливают из балка Гриша и дядя Саша. Не один за другим – разом. Как братья сиамские. Будто срослись, пока выпивали. На этот… как его там… брудершафт. Не расцепляются. Поют на два голоса. Двадцать второго июня. Ровно в четыре часа. Один в лес, другой по дрова. Зато громко – в ельнике, пожалуй, их слышно.
Тётя Луша, с палкой в руке, стоит возле ворот. Внимательно, из-под ладони, присматривается к поющим. Как будто слышит их, а разглядеть ещё не может.
Подошли певцы ближе. Умолкли.
Тётя Луша замахнулась на них палкой.
– Ух, – говорит, – взяла бы вот обоих отходила бы. Волки и волки ненасытные. Зачем вот пили?
– За столом, – говорит дядя Саша.
– Какой там стол! – говорит тётя Луша. – Поди, за чуркой.
– На сюрках, но за столом, – подтверждает Гриша.
– Пойду, – говорю, – зароды проверю. Пролило, нет ли. Гриша, дай ружьё. Рябчики, может, попадутся.
– Нет у меня рузья, – говорит Гриша.
– Куда делось?
– Пропил.
– Кому?
– Грисе Фоминых.
– Да у того своих… как у дурака фантиков.
– А вот позарился… Хоросая была двустволось-ка. Тульская. Век отслузыла. Бой был – не надо было салиться…
– По воронам, – говорит дядя Саша.
– Я из неё столько соболей нассолкал, сколько… – не договорил. Икать начал.
– Возьми моё, – говорит дядя Саша. – Тока патронов к яму нет… не отыскал их. А вон у Миши-то… Десантника.
– Ладно, – говорю. – Без рябчиков обойдусь. Рыбы наемся.
– Ну, чё, Гуран, по-моему, дождёшься, – говорит тётя Луша.
– Да уж дождался, мила ты моя, – говорит дядя Саша.
– Вы уз при мне не подеритесь, – говорит Гриша. – А то я сыбко не люблю, когда воюют… музсы-на с зэнсыной… а муз с заной когда – особенно. Хос и быват, что и смесно. Сясто и мне, как третьему, перепадало…
– А ты не суйся, – говорит тётя Луша, – не будет и перепадать… Драться-то не стану, а вот ослопом садану – не поздоровится.
– Как пыль из ковра выбьет.
– Поговори мне!
– Ух, Кержа-ачка. Мало цари вас колотили… и мне некогда.
– Парень, приди только домой…
У Чеславлевых опять кричат.
Вышел за ворота Миша. Говорит:
– Ну вот ничё ей не скажи! Сразу и в слёзы.
Спустился я под угор. Пошёл в сторону Култыка, где стоит мой зарод. Один из трёх. Самый маленький. На осень.
Тучи поредели. Прорвались. Как прохудились. Миша и впрямь, глазами-то, их будто процарапал.
Ветер не поменялся. Оттуда же – с севера. Какой и был – не настойчивый. Набегами. Как лазутчик. Стало в разрывах видно голубое небо.
3. Вечер
За те два большие зарода, на дальней, Нестеровской, полине, – ничуть. Сели за вёдро, уплотнились. А за этот, маленький, на ближнем, ещё отцом в горельнике разделанном, покосе, волновался. Думал, насквозь его пробило. Залез в остожье, тут же и проверил. Со лбов – сухой. С боков – тоже. Мокрое сверху только – на ладонь. Обыкновенно. На пустом месте стоит – не под навесом. Обдует ветром – за день, за два ли. Если до снега будет передышка, лить если перестанет. Когда метал его, этот зародчик, дождь начинался. Завершивал второпях. И растянул его ещё, не рассчитал. Занизил. Не крутобокий получился. И на вершине – седловина. Постоял – образовалась. Но ничего вот, обошлось. Сено – не лист, пырей, не мелкое – поэтому. Заботой меньше. Сразу от сердца отлегло. Не надо будет перекладывать. Мороки много. Остожье разбирать да заново его загораживать. И сено высуши теперь попробуй – не июль, даже не август. Ночи холодные, уже не загорит, можно не беспокоиться. По первоснежью привезу. До декабря хватит. Если не баловать, как я, и на подстилку не валить излишне. Раза четыре съезжу на коне-десять копёшок в нём, в зароде-то, – и вывезу. Хоть и сметал его на берёзу – под трактор. Это ж ходить к ним, к трактористам, кланяться. И денег выложи… немало. А тут делов – и часу не потратишь. Ялань вон видно через ельник. Больше уйдёт на развороты, чем на езду. Из-за солярки – дорогая. Да на коне – куда уж лучше. Сам по себе, никто не подгоняет. Можно не весь. По возу в день. И в огороде же стожок – как загоню во двор, на первое-то время. Дурнина, правда. Лебеда. Есть будет нечего – смолотят.
И деньги… тоже не рисую. Станок печатный не завёл. Может, и следует. Подыщется в подполье место. На рыбе только – не надёжно. Сачком её бы в речке черпал. Ловится, хорошо. А не клюёт когда, тогда что делать?.. Грибы да ягода? Да черемша? Здесь не продашь, на рынок в город ехать надо. Сидеть на рынке не умеем, никто из нас не торговал. Ни из Черкашиных, ни Патюковых… И на кого скота оставишь?.. Какой тут, кроме-то, в Ялани, заработок?.. Раньше пошёл бы лесником. Сейчас – инфаркт заполучить. Да и лесник – Десантник уже занял. С горя не пьёт – инфаркт ему не угрожает… Ну, летом-ладно, а зимой?.. Да иногда сестра немного вышлет… Той и самой там нелегко. Дескать, хватает и с лихвой – по инвалидности ей платят…
Чуть ли не тысячу за них отдай – за два зарода… Этот, возьму коня, и вывезу, решил уж. А с дядей Сашей щукой расквитаюсь. Любит солёную. Под медовуху. Её поджарь – так тоже вкусно – свежую. Наша, кемская. А вот кетская, говорят, та – как полено. Обской бассейн.
Опоры из-под зарода вытащил – больше не сядет, набок не пойдёт. Чтобы потом под снегом не искать их. Сложил возле изгороди, в угол. На следующий год понадобятся. Может. Может, и нет, но всё равно – среди покоса их не бросишь, – буду косить ещё, не буду ли. Будет другой кто – помешают.
Встал на колени, склонился. Залез рукой под зарод, с той стороны, где комель у берёзы. Вытянул ружьё и пакет полиэтиленовый с двумя патронами. Пуля и дробь третьего номера. Чуть оржавело – волгло от земли. И отпотело. Обтёр тряпицей, в которое оно, ружьё, было завёрнуто. Тряпицу сунул под зарод. Внутри-то – смазывал – не беспокоюсь. Но разомкнул и заглянул в стволы – сверкают.
Той хоть обратно отправляй, сестре-то… Стыдно. Мужик – от женщины-то получать. Ну, как ты? – спрашивает – там?.. Как… отвечаю ей… Нормально.
Вылез из остожья. Отнёс опоры на опушину покоса, оставил их возле валёжины, на которой в сенокос перекуриваю и чаёвничаю. Вдруг пригодятся. Таловые – не берёзовые и не осиновые – за зиму не сгниют. Пять-то лет ещё потерпят.
Пошёл в осинник. Близко тот, шагах в пятидесяти. Чтобы тут, на пустоплесье, не маячить. Мало ли. Хотя и вряд ли кто сейчас в лес направится, – пока мокро-то. Обрызнет с каждого сучка. И по траве брести – только в болотниках. Ни грибов уже, ни ягоды. Рябина. И ту брать будут после заморозков. Сколько её вон – ветви ломятся. Кругом рыжеет – веселит. Дрозды пока не обклевали. Им и черёмухи с избытком. Та должна быть сладкой, спелой – во рту от неё уже не вяжет. Есть здесь одна, возле покоса, можно попробовать. Но не сегодня. Как-нибудь. Она додержится до снега. Отец на нем, этом кусте, и набирался. Любил он молотую, в пироге. А мне её и даром вот не надо. Ни в пироге, ни к чаю с сахаром со сливками. С куста сорвать – люблю такую.
Осинником прошёл.
Редколесьем.
Спустился в распадок. Густым пихтачом направился к Межнику.
Промок сразу до нитки. Но не беда: иду – разгорячился. Сапоги не распустил, и в них вода со штанов набежала – отмечаю это – хлюпает.
Охотился здесь раньше. За мелким зверем – белкой, колонком, за горностаем – веверицей, как говорит Арынин. Рысь как-то видел. Не добыл. Выдру выслеживал, да тоже неудачно. Стрелить в неё стрелил, но не попал. В ручей нырнула – и с концами. Хоть и вода прозрачная, но не нашёл. Живёт она здесь, знает, как укрыться. И был в тот раз я без собаки. Может, и попал. Недошеверёдно, как говорил отец. Так и Арынин говорит. Такое слово. Без вреда – значит – без раны. Так, по смыслу-то.
Сопки в папоротнике – коричневые. Не сник папоротник от дождей – топорщится. Как молью валенок, источены сопки барсучьими норами. Полно их здесь. Никто не добывает.
Иду, вспоминаю, как охотился когда-то за ними, за барсуками, дымом выкурить из нор пытался, а на уме мать.
Та так всегда меня учила:
Прежде чем что-то начинать, сын, взяться за какое-нибудь пусть самое маломальское дело, обратись, мол, за благословением к Господу. Или к Богородице – чутка и Та, дескать, до нас. Не принимайся без молитвы ни за что.
А чё молиться, если я в Него не верю? В Бога. И уж подавно – в Богородицу. Вовсе уж непонятно. На всякий случай? Не умею. Лучше уж так – сосредоточиться и взяться. Сам не можешь, Бог тебе не помощник, если и есть – ты кто Ему? Сын или брат? Или знакомый? Как муравьёв нас, миллиарды. Сто-питсот, как говорил сынок. Вовка. Кто как, кто – Володька. Благослови-ка каждого. Немыслимо. Прав был отец: всё бабьи сказки. Никнет ум у старых – поэтому.
Да и начал уже давно, с самого начала. Думать. Плановать.
Перед глазами. Будто кино единственное – повторяют. Другого нет как будто – нечего смотреть.
Рано утром. Двадцать первого марта. Выгребаю из ограды снег. Много за ночь тогда выпало. Устал. Стою с пехтом среди ограды – отдыхаю. Воздух благостный – дышу. Синева тёмная – вглядываюсь. Тася выходит из двора. Говорит: у нас бычок, мол, народился. Мартом его и назовём. Март, Март… Как-то неловко выговаривать?.. Пусть будет Март, раз назвала.
День уже не короткий. Пополам с ночью в сутках. Но и он к концу подходит.
Я в стайке. Закуток для телёнка делаю. Бодать его корова сразу начала. Нельзя их вместе оставлять – забодёт до смерти. Сосать давала бы, забочусь. Тёлку-то выкормили сами – три раза в день ходили к ней с бутылочкой.
Тася заглядывает в стайку и говорит:
Я достирала, мол. Поедем с Вовкой полоскать.
Куда, на Кемь, мол?
На Бобровку. К Кеми от нас дорогу завалило.
Ну, дескать, ладно.
Санки достань нам из-под стрехи.
Утром ещё убрал я их туда – снег мне мешали выгребать.
Достал я им санки. Помог ванну с бельём из бани вынести да на санки её устроить.
Володенька. Стоит, в бурой шубке, с поднятым воротником, шарфом красным обмотанный. Хоть и мороз сбавил. Снег густой валит. Горло застудил он, шарфом поэтому и утеплился. Пошёл бы так, да мать не разрешила. Проболел неделю, дома сидел, по улице соскучился. Глазёнки блестят – улыбается, значит. Папа – говорит мне. Вовка – отвечаю.
Вышли они за ворота. А я – опять в стайку.
Уж и загородку сделал, бычка туда запустил, а их нет.
Дров в избу натаскал. Воды накачал из колонки – в дом, для питья, и для управы – в подсобку.
Беспокойно. Душа не на месте.
Оделся. Вышел за ворота.
Вижу: идёт к нам кто-то. Гриша Мунгалов. Торопится.
Он и привёл меня на место. Под горой сразу, не доходя с полкилометра до Бобровки.
Санки сломанные. Ванна опрокинута. Бельё мёрзлое вывалилось из неё – грудой.
И они лежат друг возле дружки. Снегом уже припорошены. Неестественно.
И шарф… как этот… знак-то восклицательный.
И показалось мне, что закричал я. Закричал, наверное. В сердце. Об этом после уж подумал. Может, и вслух… Да в этом разве дело. Криком, поди, и поперхнулся. Снег-то валил – и снегом, может. Кричал – раз Гриша в руку мне вцепился.
Увидел Гриша из балка. Свет у него не горит. В окно в потёмки пригляделся. Пошёл проверить, убедиться.
Видели и ребятишки – с угора на лыжах катались. Но и им веры не стало: мол, мало лет им – не свидетели.
А он на джипе тут раскатывал. Подальше от Елисейска, от своего дома. От жены. Блядей возил. То ли сам, пьяный, за рулём сидел, то ли одна из девок управляла. После бутылки находили. Из-под шампанского. И коньяка. Наши никто не пьют такого тут. Спирт. Или водку. Ну, редко кто когда – одеколон.
Той же ночью, под утро ли уже, отправил он в Исленьск на своём джипе мужика какого-то, помощника: да, дескать, не было её, его машины, здесь тем вечером. Не было – не было. И докажи-ка, что была. Да кто доказывать-то станет? Суд-то на небе только неумытный. Мать так говорила. Что такое неумытный, не знаю. Скорей всего, что справедливый. Наверное. Так это на небе. Значит – не бывает. Не подкупный.
Потом и Гришу вызывали. А он напился пива в городе, добавил к пиву ещё водки, и его, вместо допроса, определили, тёпленького, в вытрезвитель. Ну и тогда он пьяный, дескать, был, и ничего не мог, мол, видеть. А что и видел – спьяну, мол, приснилось. Пьяница? Пьяница. И веры ему нет. Ну, это мы тут Гришу знаем.
И заключили: лесовоз, дескать. Много их тут ходит. Прицепом зацепил, и сам не заметил, а потому и уехал, не задержавшись.
Но не было в тот промежуток лесовозов. Позже пошли. И сам я видел.
А потом.
Поехал я в город за продуктами – на сороковины. И он, вижу, гуляет с собакой. Там не собака, а телёнок. Большой, гладкий.
Я к нему. Не знаю зачем. В порыве непонятном. Ну, хоть узнать, как это получилось. В глаза ему ли заглянуть. Совсем без злости. Поговорить. Как человеку с человеком.
А он в лохматой лисьей шапке, из-под неё и глаз не разглядеть – как будто спрятал. Но я узнал его – в суде же видел. И он собаку на меня. Приотпускает поводок. Та разорвёт – рычит и скалится. Мне всё равно. То ли дружки его, то ли охрана. Подхватили меня под руки и бросили за сугроб. Пока оттуда выбирался…
А выбрался – меня как будто подменили. Пошёл – не я, не узнаю.
Домой приехал. Трясусь, словно от ознобу. Как во мне кто-то – будто стучится из меня.
Вечером уже. После управы. Ружьё достал. Смазываю. Патроны заряжаю.
Лежит мать на кровати. Больная. Старая. Смотрит на меня долго. Молчит. Потом и говорит:
Не делай этого, Серёжа.
А я: да я за глухарями.
Она:
Богом прошу, не делай этого.
Папка бы, говорю, так это не оставил.
А мать:
И папка бы не сделал, дескать. Он только так ведь, языком болтал, в душе-то верил. Она, наверное, про Бога.
Ружьё убрал, патроны спрятал.
Лёг. Лежу.
Не буду, говорю.
Всего колотит. Сцена, которая произошла между мной и этим в городе, из головы не выходит. Всё повторяется. Один в один, как было. Лечу в сугроб и выбираюсь… И так хочу её, сцену эту, переиначить, и так-не получается. Только убить-чтобы исправить. Убить себя или того. Так не оставить, понимаю.
Мать через какое-то время – слышит, что я не сплю, ворочаюсь, – и говорит:
Не делай этого, Серёженька. Пообещай. Дай мне спокойно умереть… Оставь Тому, Кто всё управит.
Ладно, не буду, говорю…
Сам не управишь – не управит, – это не ей уже, а про себя я.
И умерла она через неделю.
И снег лежит пока, не стал я это делать. Не почему-то – не обдумывал. Причины не было особенной, чтобы сказал я: вот поэтому. Не знаю. Следы остались бы, и пусть. Это меня не волновало. Не до чего – лишь бы исполнить. Ходил, как во сне, как одержимый ли, твердил: снег вот сойдёт когда-тогда… Себя как будто успокаивал – что не сейчас, не в это вот мгновение, – сердце-то требовало, ждало. Так иногда бывает – неотвязно. Ничто бы меня не остановило, снег уж и вовсе. Когда я такой, удержать меня трудно. Черкашинский. Мать это знала. И человека застрелить так просто – нет, но тут-то… надо. А снег мешал сойтись безлюдно; по снегу встречи ограничены. Может, поэтому. Ещё поминки… Сначала девять, после сорок дней. И получилось так – не совместить. Только что – эти, после – матери. Но в голове и в сердце уже начал – в них совместилось. Начал тогда. Проделывал до мелочи. И как иду, и как прицеливаюсь. Всё это видел-перевидел. Как мушка зудит по лицу, в лоб ненавистный утыкается. Пальцем собачку ощущаю – и та податлива. И всякий раз, когда ни надавил бы, – не изменяет. Но представляю лишь – душе не легче. Будто спеленали её против воли туго-натуго – освободиться хочет, рвётся. Всё из сугроба выбираюсь… Туда-пустой, оттуда – с ненавистью. Не взять за шиворот себя – не вытряхнуть. Вот и сейчас – как переполнен. А с этим быть… Залей уши свинцом, глаза залепи себе чем-нибудь, ну и ходи всегда и всюду… так же, наверное, невыносимо. Ну, я не знаю.
Вот и молиться мне зачем? Давно уж начал… Да и не верю-то я если. В человека – конечно. В Бога – смешно. Сосредоточился. И натянулся – как струна. Задень сейчас меня – порвусь. Рядом кто – всех пересеку. И не ослаб за это время.
Но было как-то со мной странное. Случилось.
Отслужил в погранвойсках. Дембельнулся. Стал с Тасей дружить. Понравилась. Уходил в армию, она была ещё, как мне казалось, маленькой. Вернулся – вижу. В школе тогда ещё училась, в десятом классе. Красивая. Брови у неё такие – чёткие. Ни у одной подобных не видел. И ресницы – упругие – веками помню – касалась. И сейчас… И взгляд – особенно когда… с такой беспомощностью, хочется прижать. Хоть плачь. Не плачу – утомился. Подарок, думаю, ей к свадьбе сделаю – добуду соболей на шапку. Свадьбу решили через год сыграть – школу-то надо было ей закончить. Пошёл в тайгу. В январе. Шестого. В мой день рождения. Мать говорила всё: в Сочельник. Ты у меня родился, мол, в Рождественский Сочельник. Ну и запомнил. Далеко забрёл. Метель началась. С сопки покатился – сломал обе лыжи об валёжину – споткнулся. Не бросил лыжи – из-за камуса. Думаю, на другие после натяну. Несу по лыжине под мышкой. Устал так, что в глазах темнеть стало. Потемнело. Ещё – голодный – подвело живот. Повалился прямо в снег. Набрал в рот снегу. Во рту его таю. Лежу. И видится мне вроде, вроде и глаз не закрывал. Как наяву. Дом изнутри. Чей-то. Стена горит. Огонь подбирается к божнице. А на божнице одна-единственная икона. Богородица с Ребёнком. И смотрят Оба на меня – как будто с просьбой. Пламя уже лизать икону принимается. А я стою, смотрю, но ничего не делаю. Как столб. И тут вдруг кто-то… и не с иконы, а со стороны, над моей головой будто… громко мне говорит… голос отца, тогда уже покойного, мне было трудно не узнать: «И ты потерпишь?» Кинулся я снимать икону с божницы и опалился об огонь… Тут и проснулся. Снял рукавицы. Смотрю: ожоги будто на руках – чуть обморозил, и пальцы светятся – как свечки. А если бы не проснулся, не было бы меня уже в живых – и не заметил, как замёрз бы. Оно и к лучшему бы, может… А то иду вот.
Но я поклялся. Тасе. Не кому-то. Пообещал. Тот, мол, за вашу смерть ответит. Но не тогда, возле Бобровки. Не на поминках. После того, как из сугроба выбрался впервые. Потом уж только повторял. Ну и сейчас вот.
Иду распадком. Рябчики с земли шумно вспархивают – костянкой кормятся. Одни взлетают, другие убегают по траве. Как серенькие курицы. На них не отвлекаюсь.
Я смотрю в темноту. Я вижу огни…
Песня поётся. Вполголоса. У Миши и Марьи Чеславлевых сын есть. Андрюха. Служит сейчас. На флоте. Когда в школе ещё учился, выставлял он летом в открытое окно магнитофон и включал его на полную обычно громкость. Песню эту там и слышал я. Нравится. Как про меня. Сейчас всплыла вдруг. Со словами.
В сопку поднялся. Прошёл ещё немного. Остановился.
Тут и поедет он. Другого пути нет.
Выскорь. Под ней сухо. И до дороги близко – метров десять.
Нигде ни звука. Замерло.
Лёг под выскорь.
Как пойдёт машина, услышу. Не беспокоюсь. Ну, по другому разве поводу. Не вдумываюсь. Будто не я. Кто-то.
Выяснило. Ни тучи. Ни облака.
И ветра нет – деревья не качаются.
Вспоминается разное. Мать почему-то больше. И отец. Всё с разговорами. Как пчёлы в улье – в голове-то.
Говорит, помню, она, мать, ему, отцу, как-то:
Ноги – вера; тулово – надежда; голова – любовь. Первые двое без третьей не живут. Хоть все богатства на земле собери, а любви иметь не будешь, толку тебе никакого? И врага надо любить.
А он ей:
Да уж конечно! Ачё ж мы немцев колошматили?! Враги ведь тоже. Ещё какие. Вроде и ты была согласна. Надо уж было бы им и Москву тогда отдать. Столицу нашу. Дескать, живите, наслаждайтесь. Ещё в Сибирь бы их пусти. Мы вас, мол, шибко обожам. Счас и в Ялани бы они хозяйничали. А ты бы кашу им варила. Чё они любят-то – сосиски? И их готовить приловчилась бы. А откажись, дак расстреляли бы. Те церемониться не стали бы – не мы – миндальничаем.
Она, мать, в ответ:
Ну, тут другое.
Отец:
Да всё оно одно. Тебя по морде кто-то лупит, а ты: большое, мол, спасибо, дайте ещё, мне, дескать, мало. Уж и наскажешь. Чудно как-то, если по-твоему-то. Нас бы уже не было, с твоими сказками. Или батрачили бы на кого-то… с таким подходом ко всему. Нельзя так, баба. Тут не любовь уже, а блажь.
А мать ему:
Тебе и блажь – ты Бога-то не любишь.
А ей отец:
Ага! А как Его буду любить? Я никогда Его не видел. И не увижу, если нет-то… Если не видел, как лю-бить-то?
А мать ему:
Увидишь, Паша. Ты нас-то видишь, да не любишь, если уж Бога, всех и вся создавшего, не любишь.
Отец:
Ну, ты уж дуру не гони. Говори, да не заговаривайся. А то язык-то без костей, дак и молотишь.
Глухарь прилетел. Сел рядом на молодую лиственницу, начал листву щипать. Ещё зелёная, не пожелтела.
Перестал я охотиться. Скрал однажды лосиху с тогушем. В мелком, густом осинничке – спасались от метели. Тогуша наповал. Подошёл к ним. Лосиха лежит, голову приподняла, смотрит – не на меня, на телёнка – плачет. Слёзы – как капли с крыши – видел-то сегодня. После ружьё забросил на полати. Куриц – и тех уж мать рубила. Рыбу ловлю ещё. Но тоже жалко. Было бы заработать где, не стал бы. Наверное. Хотя и нравится. Пока. Про многое на речке забываешь. Не замечаешь, как и день проходит. Ну и… собачку реже нажимал… не так отчаянно.
И глухарём любуюсь только – раньше бы тут же его снял. Даже инстинкт не просыпается.
И всё поётся:
Я вижу огни. Вижу пламя костров. Это значит, что здесь скрывается зверь…
Не вслух теперь, даже не шёпотом.
Никакие отвяжется. Не в голове. В голове – о другом – и тоже беспрестанно. На языке. Ни сплюнуть, ни спихнуть.
Слышу вой под собой. Вижу слёзы в глазах. Это значит, что зверь почувствовал страх…
Как оскомина.
Гудит машина. Надсадно. В Попов лог поднимается. Долго. Дорога грязная. Глинистая.
Ездит он раз в неделю туда, на деляну, рабочих своих проверяет и привозит им курева да продуктов – выведал. Рубят лес на Медовом. Большое Сосново и Малое Сосново уже вычистили. А он в Китай кругляк толкает. Но не поэтому, конечно… Мне из сугроба надо выбраться спокойным. Собой – не кем-то… Одному. И обещал-то… Вот и исполню.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.