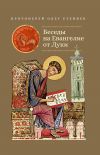Текст книги "Евангелие страданий"
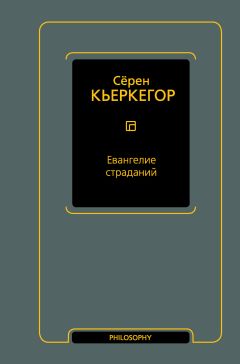
Автор книги: Серен Кьеркегор
Жанр: Словари, Справочники
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
Ведь найти отдохновение это и есть учиться ради обретения вечного. По существу есть лишь одно, в чем можно найти отдохновение: дать Богу царствовать во всем; все, что помимо этого может узнать человек, касается того, как Бог пожелал нечто управить. В мысли об искуплении есть отдохновение для смятенного человека, но он может не найти отдохновения в этой вечной мысли, если прежде не навыкнет мысли послушания: что Бог должен царить во всем, – ведь искупление это именно Божий совет о том, как спасти человека. В мысли о том, что Господь искупил нашу вину, есть отдохновение для кающегося, но он может не найти отдохновения в этой вечной мысли, если прежде не навыкнет мысли послушания: дать Богу царить во всем, ведь искупление вины это именно предвечный Божий совет. Бог желает даровать тебе милость, в которой есть отдохновение, но ты можешь не найти отдохновения в вечной мысли об этом, если ты не навык в мысли о том, что: Бог должен царить во всем. Ведь иначе Божия милость оказалась бы твоей заслугой, тогда как, напротив, именно Бог производит и хотение, и действие[327]327
Фил. 2, 13.
[Закрыть], дарует рост и дарует совершенство, дарует то, чего ты при всем своем старании не в силах сделать: ты не в силах увеличить свой рост ни на локоть, ни даже на дюйм; дарует то, чего ты не можешь сделать при всей своей заботе о себе: ты можешь только омрачить свой дух и задержать рост. Но вера и послушание веры в страдании помогает тебе духовно расти, потому что все делание веры состоит в том, чтобы убрать все свое, эгоистичное, чтобы Бог действительно мог прийти и чтобы, когда Он придет, дать Ему царствовать во всем. Чем больше ты терпишь страдание, учась при этом в страдании, тем более убирается все эгоистическое, оно искореняется, и на его место заступает послушание, как добрая земля, в которой может пустить корни вечное. Ты не можешь присвоить себе это вечное, ты можешь лишь посвятить себя ему, – ведь невозможно посвятить себя тому, чем ты владеешь, но только тому, что принадлежит кому-то другому, да и этому ты не можешь дозволенным образом посвятить себя, если ты не хочешь отдать себя этому; если же другой, напротив, захочет тебе это подарить, то твое посвящение себя станет установлением глубоких отношений с ним. Но в отношении к Богу и к вечному всякое посвящение себя есть послушание, а в послушании есть отдохновение. В вечном есть отдохновение, это вечная истина, но вечное может обретаться лишь в послушании, это вечная истина для тебя.
Так что, если ты впадаешь в беспокойство, то это оттого, что ты не хочешь слушаться; но слушаться поможет тебе страдание. И потому, когда ты страдаешь, но при этом послушен в страдании, тогда ты учишься для вечности; тогда в твоей душе нет никаких порывов нетерпения, нет никакого беспокойства – ни от грехов, ни от забот. Как у входа в рай стоял херувим с огненным мечом[328]328
Быт. 3, 24.
[Закрыть], препятствуя Адаму вернуться обратно: так страдание это ангел-хранитель, который желает воспрепятствовать тебе ускользнуть снова в мир; страдание это школа, которая к тому же желает удержать тебя в школе, чтобы ты смог действительно стать подготовленным к вечности. И так же, как по слову одного из древних пророков[329]329
Ис. 46, 1–7.
[Закрыть], идолопоклонники носят своих богов, но истинный Бог Сам носит верующих в Него, так и делание послушания: дать Богу царствовать во всем – это именно истинное ве́дение единого истинного Бога, но что еще кроме этого готовит к вечности! В то время как идолопоклонник, сколь бы ни было тяжело его божество, в непослушании, в своеволии надрывается, желая нести своего бога: того, кто научился послушанию, носит Тот, Кто его ведет, его легко носит Бог, легко, так легко, как будто один только он получает подготовку к вечности.
Школа страданий готовит к вечности. Обычно, когда мы беседуем о школьном обучении, мы говорим, что одна школа готовит к занятиям наукой, другая к занятиям искусством, третья к тому, чтобы человек мог занять определенное положение в обществе, и так далее; и вместе с тем мы говорим, что есть время школы, но затем приходит, опять же, время, когда то, чему человек научился в школе, должно принести ему пользу. И вот, когда школьные годы страданий затягиваются для страдающего, тогда он, быть может, вздыхает: ведь эдак эти школьные годы никогда не закончатся; и он полагает, вероятно, что в этом вздохе заключено тягчайшее страдание.
Но действительно ли это так? Ведь ученые полагают, что продолжительность времени развития стоит в прямом отношении к благородству твари. Животные низших видов рождаются в некий момент и в тот же момент умирают. Низшие животные развиваются очень быстро. Человек развивается дольше всех тварей, и из этого ученые напрямую выводят, что он – благороднейшее из всех творений. И точно так же мы говорим ведь об обучении в школе. Тот, кто определен лишь к тому, чтобы занять невысокое место в обществе, он ходит в школу недолго; но тому, кто определен к более высоким занятиям, приходится долго ходить в школу. Тем самым продолжительность обучения стоит в прямом отношении к тому, чем ты должен стать. Так что, если обучение в школе страданий длится целую жизнь, то ведь это как раз говорит о том, что эта школа, вероятно, готовит к чему-то самому высокому, говорит о том, что она – единственная школа, которая готовит к вечности, ведь обучение ни в какой другой школе не продолжается столь долго. Наверное, если мудрость века сего станет мнить, будто к ней в школу надлежит ходить целую жизнь, то учащийся по праву потеряет терпение и скажет: когда же я получу пользу от изученного в этой школе! Только вечность способна отвечать за саму себя и за учащегося в том, что она обращает всю его жизнь в школьные годы. Но если вечности надлежит содержать школу, то это может быть только самая благородная школа, но самая благородная школа как раз такова, что в ней обучение самое долгое. Так же как обычно учитель говорит учащемуся юноше, который прежде времени находит хождение в школу слишком долгим: «Не будь нетерпелив, ведь впереди тебя ждет долгая жизнь», – так и вечность говорит с еще большим правом и еще большей уверенностью страдающему: «Не будь нетерпелив, ведь времени достаточно, ведь дело идет о вечности». И когда говорит вечность, в ее устах нет никакой неправды, в отличие от хорошо знакомой нам речи учителя, ведь как может учитель поручиться за то время, что отпущено юноше. Но вечность может знать с уверенностью, что она есть, а раз она есть, значит, времени достаточно.
Самая долгая школа готовит к самому высокому; школа, которая длится всю человеческую жизнь, может готовить только к вечности; подготовка к чему-либо в жизни обнаруживает со временем свою полезность, но жизненная школа страданий готовит к вечности. Она готовит к вечности; это так же видно из того, что если обычно, посещая школу, становятся старше, и именно так надлежит сему быть, то в школе вечности становятся моложе, и именно так надлежит сему быть. Вечная жизнь есть обновление молодости. Разве при этом для учащегося не должно оказаться достаточно времени для того, чтобы получить пользу и радость от того, что он изучил? Ведь отчего возникает нетерпение, когда хождение в школу слишком затягивается, если не оттого, что человек с каждым годом становится старше и потому по праву боится, что школьные годы окажутся слишком уж долгими. Но что, если человек с каждым годом становится моложе! Может ли быть дана более успокоительная мысль; ведь ей по силам заставить самое долгое время учебы обернуться самым коротким. Ведь когда самое короткое время учебы длится пусть даже всего лишь год, то все же учащийся за это время становится на год старше; но когда самое долгое время учебы длится семьдесят лет, и учащийся с каждым годом становится моложе: тогда такое время учебы, конечно, короче самого краткого.
Мысль о том, что вечная жизнь это обновление молодости, вероятно, весьма прекрасна, обворожительна и назидательна. Однако я не хочу развивать ее дальше, ведь то, что в ней столь прекрасно, именно это является едва ли не опасным и весьма легко может стать обманом как раз тогда, когда эта мысль предстает перед человеком во всей своей заманчивости и вместо того, чтобы придать ему ход и пробудить в нем искание, пленяет силу воображения и рисует в мечтах, будто бы молодость обновляется по мановению волшебной палочки, – как будто это омоложение не нуждается в другом смысле в долгом времени. Ведь в действительности человек должен уже весьма во многом поднатореть и весьма основательно поучиться в школе страданий, прежде чем он по праву сможет обращаться для своего назидания к такой возвышенной мысли. Так же как человек ползает, прежде чем он научится ходить, так и здесь человеку сперва приходится ходить, прежде чем он сможет начать летать, – а ведь эта мысль об обновлении молодости имеет высокий полет вечности. Поэтому лучше я буду всегда говорить о простейшем, о долгом и трудном хождении начинающего, ведь эта речь никого не сможет ввести в заблуждение; а, с другой стороны, тот, кто зашел так далеко, что способен поистине назидаться мыслью об обновлении молодости и получать от нее пользу и подкрепление, тот не нуждается ни в какой речи другого человека, и меньше всего в моей, напротив, это мне нужно было бы у него учиться.
Но если сам я теперь и не буду об этом говорить, то все же в конце этой беседы хочу, чтобы раскрыть ее тему: радость в том, что школа страданий готовит к вечности, – напомнить о том, что так прекрасно изобразил один из древнейших учителей Церкви, один из мужей апостольских[330]330
Ерм в первой части своей книги «Пастырь».
[Закрыть]. В своей книге, в первой ее части, которая называется «Видения», он рассказывает о трех видениях, которых сподобил его Бог. Помимо многозначительного содержания в этих видениях есть один странный момент: женщина, которая показывала и изъясняла ему эти видения, в первый раз предстала пред ним старухой, во второй раз она была уже моложе и имела более радостный вид; но на третий раз она была юной, радостной, однако серьезной, как серьезна юность, даруемая вечностью. Он дает этому точное разъяснение и говорит среди прочего: «Те, кто чистосердечно каются, становятся моложе». Здесь он оказывается так поставлен перед этой могущественной мыслью, что она уже никак не способна стать высокопарным миражом, который не только не делает учащегося моложе, но – что еще хуже, чем если бы он просто делал его старше, – обманывает его. И здесь то, о чем мы уже говорили, снова остается в силе: подготовку к вечности дает одна только школа страдания. И если какой-нибудь человек чего-то такого сподобится, то это сможет произойти с ним только в школе страдания.
Однако от этого ведь все равно рождается радость, она рождается под конец, как и здесь говорится об этом в конце беседы: радость от того, что никакая школа не длится столь долго, как школа страданий, и что поэтому никакая школа, кроме нее, не готовит к вечности, и что учащемуся в школе вечности возможно становиться моложе. То, что ни искусство, ни знание, ничто, кроме страдания, если человек научается им послушанию, не готовит к вечности, это столь же истинно, как то, что Тот, Кто был и есть Истина, Тот, Кто знал все, учился все же одному, и ничему другому – страданиями учился послушанию. Если бы для человека было возможно без страданий научиться быть послушным Богу, тогда Христос как человек не имел бы нужды учиться послушанию страданиями. Человеческое послушание было тем, чему Он научился, страдая; ведь вечное согласие Его воли с волей Отца не является послушанием. Его послушание связано с Его смирением, как сказано: смирил Себя, быв послушен[331]331
Фил. 2, 8.
[Закрыть], а это Его смирение состояло в том, что Он стал человеком, – так что человеку можно научиться быть послушным только через страдания: раз это имело силу для Чистого, то в сколь большей мере имеет силу для грешного человека! Только страдание готовит к вечности, ведь вечность обретается в вере, вера – в послушании, послушание – в страдании. Послушания нет без страдания, веры нет без послушания, вечности нет без веры. В страдании послушание есть послушание, в послушании вера есть вера, в вере вечность есть вечность.
Глава IV
Когда мы слышим чьи-то прекрасные, назидательные, трогающие, верные слова, у нас возникает желание узнать и о том, кто их сказал, по какому поводу, при каких обстоятельствах, – то есть у нас возникает желание узнать, насколько эти верные, эти истинные слова являются также истиной в сказавшем их, чего мы всей душой желаем ему и самим себе. Ведь если в пышных словах нет истины, то они – словно «дерево, вотще приносящее красивый плод»[332]332
В русском переводе «растения, не в свое время приносящие плоды». Мы следуем здесь датскому переводу Библии, которым пользовался С. Кьеркегор.
[Закрыть] (Прем. 10, 7); но и истинные слова, которые говорящий самим собой не являет как истину, все же неутешительны, ведь они – благословение, которое обращается для благословляющего в проклятие. А истинное слово, которое истинно в самом говорящем, это – в самом замечательном смысле – слово благое, которое обретается там, где ему подобает, – подобно золотому яблоку в серебряной чаше[333]333
Ср. Притч. 25, 11.
[Закрыть]. То есть именно слово как имеющее большее достоинство сравнивается поэтому с золотым яблоком, тогда как говорящий – лишь драгоценный сосуд из очищенного серебра, служащий обрамлением для истинного, которое благодаря ему оказывается оправлено в истину. Сказанное слово имеет, кроме прочего, большее достоинство еще и потому, что оно вступает в мир, и другие люди берутся следовать ему; не ими сказано это слово, они только исполняют его. Но всякий раз, когда сказанное слово с признательностью принимается, тогда вспоминают с благоговением и его первую благородную оправу. Так, когда царь[334]334
Соломон в книге Екклесиаста.
[Закрыть] говорит о земном богатстве и силе, и славе, что все это – суета сует, мы радуемся тому, что это говорит именно царь, ведь он опытно это изведал; он не тот, кто издали жадно смотрит на эти вещи и кому желание застит взор, он знает это вблизи, на деле. Так и когда тот, кто владел весьма многим и даже как будто всем, но притом как будто лишь для того, чтобы, все потеряв, в полной мере почувствовать это, – когда он говорит: да будет имя Господне благословенно![335]335
Иов 1, 21.
[Закрыть] – нас радует и утешает то, что он сказал это, сам быв испытан. Много сказанных слов хранит память людская, и многих людей, сказавших их, помнят, – но среди этих людей есть и разбойник. Это однако не может нам помешать, но напротив, мы нуждались бы в таковом, если бы его не было; ведь в мире истины нет никакого различия между царем и разбойником, здесь вопрос стоит лишь о том, истинно ли то, что он сказал, и было ли это истиной в нем.
Как повествует Евангелие, рядом с Господом Иисусом были распяты два разбойника. И слово разбойника сказано на кресте в мгновение близящейся смерти – поистине, одно только это служит надежным свидетельством того, что в нем самом его слово истинно; ведь есть ли более неподдельная речь, чем речь умирающего, который влагает всю душу свою в единое слово! Мудрое слово царя, утомленного суетой, не более достойно памятования, чем смиренное слово кающегося разбойника в мгновение близящейся смерти. Было два разбойника, но лишь один приходит на ум, один, кого вспоминает всякий, когда говорят: слово разбойника на кресте. Не говорится, что это был за разбойник, не сообщается ни его имени, ни чего-то еще о нем, ни того, висел ли он справа или слева от Господа. Ведь и это совершенно не важно, даже если и можно по-детски удовлетворить невинное любопытство, приняв, что этот разбойник был распят справа от Господа; ведь именно им, тем, кто по правую сторону, некогда будет сказано: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от Создания мира[336]336
Мф. 25, 34.
[Закрыть], – и этому разбойнику Тот, Кто скажет это слово, сказал: ныне же будешь со Мною в раю[337]337
Лк. 23, 43.
[Закрыть]. Другой разбойник до последнего глумился, ожесточаясь даже на кресте, – он в этом смысле был слева.
Евангелист Лука сохранил слово разбойника на кресте. Лк. 23, 41.
«Мы достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал».
Это слово мы хотим теперь рассмотреть, размышляя, какая
радость в том, что по отношению к Богу человек никогда не страдает без вины
Виновен? – Невиновен? Это серьезный вопрос в ходе судебного процесса; а для беспокойства о самом себе этот вопрос стоит еще серьезнее, ведь если представители власти проникают в самые потаенные углы дома, чтобы схватить виновного, то беспокойство о самом себе, выслеживая вину, проникает намного глубже всякого человеческого суда, проникает внутрь, в самые потаенные уголки сердца – туда, где только Бог судья.
До тех пор, пока дело идет о человеческом суде и об отношении между человеком и человеком, все мы согласны в том, что быть невиновным – это единственное, чего здесь можно желать; что невиновность – это неприступная крепость, которую никакая человеческая несправедливость или непризнание не могут сокрушить или сравнять с землей; что невиновность – это чистота, которую не может нарушить даже изнасилование, неуязвимость, которую даже смерть не может смертельно уязвить. И однако так обстоит не всегда, так обстоит только до тех пор, пока дело идет об отношении, которое по самому своему существу не является отношением между двумя; ведь как раз в самом глубоком и самом уязвимом отношении любви между человеком и человеком высочайшим желанием любви может быть желание быть неправым, даже – быть виновным. Мы говорим по-человечески о несчастливой любви, которая является тяжелейшим страданием, но несчастливая любовь, опять же, тяжелее всего, мучительнее всего, когда предмет любви таков, что его – вопреки глубочайшему, единственному желанию сердца того, кто любит, – по существу нельзя любить. Если, напротив, предмет любви по существу можно любить, но лишь в обладании им отказано, тогда несчастливая любовь менее несчастлива, менее мучительна; тогда хотя и отказано в обладании, но сам предмет не потерян, он, напротив, обладает всей сущностной полнотой, которая блаженно удовлетворяет требованию любви. Ведь здесь есть требование; во всякой любви – не эгоистичной, но глубокой и коренящейся в вечности – таится требование, которое и есть само бытие любви. Давайте вообразим себе девушку, любящую несчастливой любовью, вообразим и ее страдание. Разве не будет она говорить: «Права я или нет, не имеет значения, это не жизненно важно для меня, ведь если я не права, то он легко меня простит; но если он не прав, если он виновен, если он таков, что его нельзя любить, то для меня это смерть, тогда для меня все потеряно. Ведь у моей любви лишь один предмет – это он, только он во всем мире, ах, и вот он не может быть предметом любви; о, будь это внешнее препятствие, я бы просто хранила любовь к нему, и я была бы менее несчастлива; но здесь препятствие лежит во внутреннейшем его существе, здесь препятствие состоит в том, что ему существенно недостает сердечной глубины, и я – несчастнейшая». И вот она более чем желает сама быть неправой и даже виновной – лишь бы только любимый мог бы быть прав. Что это значит? Это значит, что эта девушка поистине любит; она не спорит – не спорит даже о правоте и неправоте, что разделяло бы ее с ним, – нет, она поистине пребывает в единстве с предметом своей любви, и потому она лишь тогда впервые чувствует себя потерявшей его, когда он оказывается сущностно потерян – когда он оказывается лишенным сути или же сущностно иным, но не тогда, когда он становится потерян для нее лишь по случаю, – сочетавшись с другой. Если бы только он был прав, если бы она была виновна, тогда она считала бы спасенной свою любовь; но если он неправ, тогда, в ее глазах, ее любовь несет самую страшную утрату. И это поистине так, ведь сущностно потерян не тот, кто совершенен, но соединен не со мной, а с кем-то другим, – его я могу продолжать любить столь же полной любовью; но сущностно потерян тот, кто потерял свою суть.
А теперь, если дело идет об отношении человека к Богу, и для человека стоит вопрос о том, прав он или не прав: разве же в самом деле кто-либо из людей когда-либо способен хотя бы просто допустить эту страшную мысль о том, будто в отношении к Богу может идти речь о несчастной любви, причина которой была бы в том, что Бога нельзя любить! Ведь разве то, что Бог 70 лет ведет человека по жизни, – даже если и более трудным путем, чем всех прочих людей, если все эти годы Его руководство для человека остается темной речью, в которой он ничего, ничего не в силах понять: разве это не значит, что Бог не потерян и не потерян для него. Но если бы нашелся хоть кто-то, кто мог бы с несомненностью уличить Бога в том, что Он не есть любовь, или хотя бы притворно изобразить собой человека, для которого это бесспорно было бы так: да, тогда все было бы потеряно, тогда Бог был бы потерян, ведь если Бог не есть любовь, и если Бог не есть любовь во всем, тогда нет никакого Бога. О, мой слушатель, если ты пережил тяжелейшее в человеческой жизни мгновение, когда для души твоей все стало так черно, словно бы и в небесах не обреталось любви, или словно бы Тот, Кто пребывает на небесах, не был на самом деле любовью, и когда ты стоял перед выбором, который ты должен был сделать, перед страшным выбором между тем, чтобы признать себя неправым и приобрести Бога, и тем, чтобы признать себя правым и потерять Бога, – разве не обрел ты небесное блаженство в том, что выбрал первое, или, вернее, в том, что это и вовсе не было выбором, но, напротив, было требованием вечности, требованием Неба, обращенным к тебе, к твоей душе, – что не должно быть никакого, ни малейшего сомнения в том, что Бог есть любовь! Ах, тогда как многие держатся неопределенного мнения о том, в самом ли деле Бог есть любовь, поистине, было бы лучше, если бы они выжгли в себе любовь при одной только мысли об этом ужасном – о том, будто Бог не был любовью; выжгли бы любовь, ведь если Бог есть любовь, тогда Он любовь во всем, любовь в том, что ты в силах понять, и любовь в том, что ты не в силах понять, любовь в темной речи, которая длится один день, и в темной речи, которая длится 70 лет. Ах, тогда как многие называют себя христианами и все же, возможно, живут, словно гадая о том, есть ли Бог любовь на самом-то деле, – поистине было бы лучше, если бы они выжгли в себе любовь при одной только мысли об этом языческом ужасе: будто Тот, Кто содержит в Своей руке судьбу всего мира и все пути твои, будто Он двусмыслен, будто Его любовь – не Отчие объятия, а западня, будто Его таинственная сущность – не вечная открытость, но скрытность, будто глубочайшая основа Его существа – не любовь, а хитрость, которую человек не в состоянии понять. Ведь если дело идет о совете Божией любви, тогда не требуется, чтобы человек был в состоянии его понять, но достаточно того, чтобы он был в состоянии верить и, веруя, понимать, что Бог есть любовь. Если Бог есть вечная любовь, тогда не страшно быть не в состоянии понять Божий совет о тебе; но если Он есть хитрость, то очень страшно, если ты не сможешь Его понять.
Если же, напротив, – из чего мы исходим в этой беседе, – человек по отношению к Богу на самом деле не просто всегда неправ, но всегда виновен, а значит, и когда он страдает, он страдает как виновный: тогда никакое сомнение в тебе (если ты сам не желаешь снова грешить) и никакие обстоятельства вокруг тебя (если ты сам не желаешь снова грешить, попуская себе досадовать) не смогут вытеснить радость.
Радость здесь в том, что ни теперь, ни в какое-либо иное мгновение, ни в какое-либо мгновение в будущем никогда не могло бы и не сможет произойти ничего, – пусть даже стал бы реальностью самый тяжкий кошмар самого больного воображения, – такого, что было бы способно пошатнуть веру в то, что Бог есть любовь; и в том еще радость, что если человек не желает понять это по-доброму, тогда его вина поможет ему это понять. Если по отношению к Богу человек никогда не страдает без вины, тогда ведь каждое мгновение, что бы ни случилось, несомненно то, что Бог есть любовь; или, точнее, каждое мгновение это обстоятельство не позволяет усомниться в том, что Он есть любовь, потому что внимание оказывается поглощено сознанием вины.
У большинства людей, наверное, есть представление, порой весьма живое, о том, что Бог есть любовь; в отдельные мгновения они даже внутренне чувствуют это; и, однако, многие, вероятно, живут так, что для них это, по сути, темно, живут так, что если бы на них нашло бы что-то для них ужасное, то, чего они особенно боятся, тогда они отказались бы, вероятно, исповедовать веру, поспешили бы отделаться от Бога, лишились бы Его. Однако есть ли большая безответственность, чем жить таким образом: делать из высочайшего страдания болото и сидеть в нем между сомнением и доверием Богу – так, чтобы никогда не встречаться лицом к лицу с коварным врагом, который, однако, прижившись во внутреннейшем твоего существа, сосет твою кровь; так, чтобы никогда тебе не случилось содрогнуться от такого твоего состояния, ведь ты будешь полагать, что ты не в отчаянии – потому что ты сонливо по уши в нем погряз! Ах, ведь Бог при этом не терпит никакого урона; но тот, кто сонливо сидит в болоте, тот, кто поистине грешит этой своей дремотой, он теряет все, теряет то, без чего жизнь и в самом деле есть сущее ничто. Ведь так же, как Писание говорит о тех, кто потерпел кораблекрушение в вере[338]338
1 Тим. 1, 19.
[Закрыть], так и о том, кто оставил веру в Божию любовь, можно сказать, что он потерпел кораблекрушение в вечной радости жизни. Для чего же тогда остается жить?! Когда бушует шторм, – но корабль цел еще, – это тяжко; когда наступает хорошая погода и дует попутный ветер, – это радостно; но если у корабля пробито дно, чем тогда поможет и чем повредит ему все остальное; если доски в нем разошлись по швам, чего остается ждать! Но у человека, который оставил Бога, полагая, что произошло или способно произойти что-то такое, что может разрушить веру в Божию любовь: у него ведь как раз поврежден и расселся глубочайший шов, какой есть в человеке. Не знаю, есть ли в корабле такой шип, о котором можно сказать, что на нем держится все строение корабля, но я знаю, что вера это глубочайший шов в человеке – шов, который, пока он цел, делает человека самым гордым парусником, но, когда он расходится, человек превращается в разбитое судно, а все содержание его жизни – в мишуру и жалкое тщеславие.
Если бы случилось, что какой-то человек смог бы, хотя бы притворяясь, показать с несомненностью, что он прав в своем отказе от веры в то, что Бог есть любовь, только тогда он мог бы быть безусловно чист, совершенно невиновен и прав, не просто, говоря по-человечески, в том или ином отношении, но совершенно невиновен и прав прямо перед Богом; ведь только при этом условии сомнение могло бы обрести твердую почву под ногами, без которой сомнение не просто лишено прочного основания и зиждется на песке, но опирается на бездну. И тогда могло бы произойти что-то такое, что невозможно было бы соединить с мыслью, что Бог есть любовь. Но этого ужаса неспособен вынести ни один человек; это вынес лишь некогда Он, Кто был свят, Он, Кто был невиновен пред Богом. И потому нам следовало бы всегда со страхом и трепетом, и лучше всего, преклоненно безмолвствуя, говорить о страдании Христа, – ведь человеческая мысль столь же мало, сколь и человеческий язык, способны изобразить или внятно уяснить глубину этого ужаса; следует со смиренной осторожностью говорить или же смиренно молчать о том, как страдал Христос, потому что негоже искушаться безбожной жаждой выведать тайны Божии – жаждой, для которой даже язычество определило наказанием вечно горящую жажду[339]339
В мифе о Тантале: Гомер. Одиссея. XI, 581ff.
[Закрыть]; этого искушения особенно следует остерегаться в наше время, когда люди столь многими способами желают представить страшной жизнь в вере, полагая, будто верить это то же, что постигать, и будто бы невозможно чистосердечно верить и обретать блаженство в вере, если не можешь дерзко постичь. Только Христос был перед Богом без вины, и именно поэтому Ему пришлось понести сверхчеловеческое страдание, пришлось быть на грани того, чтобы едва ли не по праву отчаиваться, уже не ведая, есть ли Бог любовь, когда Он возопил: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?[340]340
Мф. 27, 46.
[Закрыть] Но разбойник, о котором мы говорим, страдает иначе. Тогда как Спаситель мира вздыхает: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? – слово, о котором величайший проповедник нашей Церкви, равно как и самый правоверный ее человек, слово, о котором Лютер, именно в силу своей веры, едва осмеливался проповедовать, – то разбойник близ Спасителя проповедует, как верный проповедник, перво-наперво назидая самого себя благочестивой мыслью: я виновен и по заслугам страдаю. Тогда как глубина ужаса в страдании Христа не может быть предметом проповеди, тема разбойника, напротив, для проповеди поистине настоящая тема. Ведь часто случается под именем проповеди слышать много водянистых и безвкусных слов о Божией любви; однако это покаянное слово о грехе и вине – это единственные верные врата, которыми и приходит Божия любовь. Да, кающийся разбойник – проповедник; если царь[341]341
Соломон.
[Закрыть] зовется проповедником, то тем более следует назвать этим именем кающегося разбойника. Он – истинный проповедник покаяния; ведь хотя, пожалуй, одежда из верблюжьей шерсти[342]342
Одежда Иоанна Крестителя. Мф. 3, 4.
[Закрыть] тесна, но быть распятым – это гораздо большее утеснение; и хотя, пожалуй, жить в пустыне значит жить как человек, ничего не значащий в мире, но быть распятым – это тяжелейший позор; и сказать: исправьте себя – не столь совершенная проповедь покаяния, как сказать: я виновен и по заслугам страдаю; и сказать о самом себе: я пророк – не столь сильное средство пробудить людей, как сказать: я грешник, который по вине своей достойное принял. Разбойник проповедует самому себе и другому разбойнику, и всем, бывшим там; он говорит: «Вы все грешники, только Он, Кто распят между нами, Он перед Богом без вины, Он страдает невинно». «Ведь, – говорит этот высокий проповедник покаяния, – обычно в мире одного разбойника ведут с двух сторон так называемые честные люди, но это обыкновение и эта их честность – это нечто лишь мнимое; здесь же явлена истина: что единственный Праведник, единственный, распят между двумя разбойниками. Смотри, Писание говорит поэтому: “и к злодеям причтен”[343]343
Лк. 22, 37.
[Закрыть], – но не потому, что мы, двое разбойников, говоря по-человечески, грешнее других, нет, сними меня и повесь на мое место кого угодно из присутствующих, – Он, Святой, все равно будет как распятый рядом с ним причтен к злодеям; да, поскольку Он, Святой, причтен к роду человеческому, Он к злодеям причтен. Или разве какой-нибудь человек, даже если бы он был, говоря по-человечески, невинно преследуем, невинно осужден, невинно распят, – разве он на месте распятого здесь посмел бы сказать: “Я страдаю невинно!” Это христианская проповедь покаяния, которая даже мученику напоминает о том, что он страдает, будучи виновен пред Богом; это христианская проповедь покаяния, ведь иудейская проповедь покоится на представлении, что человек, которому надлежит проповедовать покаяние, – это святой, что человек, борясь, способен стать достаточно святым для того, чтобы быть проповедником покаяния. В христианстве, напротив, покаяние проповедует отъявленный грешник, и даже те люди, которые, по-человечески говоря, святы, должны примириться с тем, что отъявленный грешник является проповедником покаяния – проповедником, который не начинает свою проповедь, говоря: увы вам! – но говорит: Боже, будь милостив мне, жалкому грешнику, я виновен и по заслугам страдаю.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.