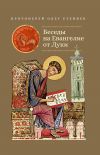Текст книги "Евангелие страданий"
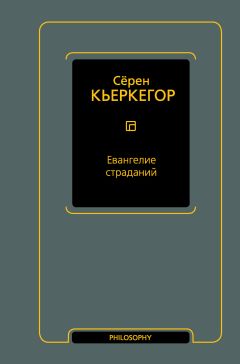
Автор книги: Серен Кьеркегор
Жанр: Словари, Справочники
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)
Но как же тогда апостол может доказать, что он наделен авторитетом? Если бы он на самом деле мог это доказать, тогда он был бы как раз никакой не апостол. У него нет иного доказательства, кроме того, что он сам утверждает, что это так. И именно так и должно быть; ведь в противном случае верующий вступал бы с ним в прямое, а не в парадоксальное отношение. Авторитет в сфере трансисторических отношений между человеком и человеком qua человеком узнается по власти, с которой он сопряжен. У апостола же нет иного доказательства своего авторитета, кроме его собственного утверждения и, пожалуй, еще того, что он с радостью готов сколь угодно страдать за то, что он утверждает это. Его слово об этом будет кратким: «Я призван Богом; делайте со мной, что хотите, бейте меня, преследуйте меня, но мое последнее слово останется тем же: я призван Богом и я делаю вас вечно ответственными за все то, что вы делаете против меня». Если бы, вообразим себе, апостол имел бы власть в ее мирском понимании, имел бы большое влияние и могущественные связи, позволяющие господствовать над мнениями людей, – и если бы он употребил бы эту власть, он eo ipso упустил бы свое дело. Употребив власть, он сделал бы свое стремление по сути своей тождественным стремлениям прочих людей, но ведь апостол является апостолом только в силу своего парадоксального качественного отличия от других, в силу того, что он наделен божественным авторитетом, который сохраняется у него абсолютно непреложно, даже если люди, как говорит Павел, ценят его не больше, чем грязь у себя под ногами.
3. Гению свойственна лишь имманентная телеология; апостол парадоксальным образом поставлен в абсолютные телеологические отношения.
Если вообще о ком-то из людей может быть сказано, что он поставлен в абсолютные телеологические отношения, то таким человеком будет апостол. Учение, которое ему вручено, это не задача, данная ему для размышления над ней; оно вручено ему не ради него самого, но он, напротив, послан с поручением и должен, употребляя авторитет, возвещать это учение. Так же, как посланный в город с письмом отвечает не за его содержание, но лишь за то, чтобы доставить его; так же как посланник, отправленный с вестью в чужой королевский двор, хотя и отвечает за содержание этой вести, но лишь за то, чтобы верно ее передать: так и апостол должен прежде всего быть до конца верным в своем служении, в том, чтобы исполнить порученное ему. В этом по существу состоит то самоотвержение, с которым сопряжена жизнь апостола независимо от любого рода преследований, – в том, что он «нищ, но должен обогащать других»[385]385
Ср. 2 Кор. 6, 10: «Мы нищи, но многих обогащаем».
[Закрыть], в том, что у него никогда нет времени, нет ни минуты покоя, когда, отойдя от забот, он мог бы в досужий день, в otium[386]386
Свободное время (лат.)
[Закрыть], обогатиться тем, чем он, если требуется, обогащает других. Он, в духовном смысле, подобен занятой хозяйке дома, которая, готовя для многих голодных ртов, сама едва находит время поесть. И даже если бы он, начав свою проповедь, и смел бы надеяться на долгую жизнь, его жизнь до последнего дня будет оставаться неизменной, ведь он с неизменной новизной будет возвещать учение. Хотя откровение это парадоксальный факт, который превосходит всякое человеческое понимание, все же человеческого понимания достаточно для того, чтобы понять то, что к тому же подтверждается всеми известными случаями: что посредством откровения Бог призывает человека идти в мир, возвещать слово, действовать и страдать, призывает его к непрерывно действенной жизни посланника Божия. Напротив, думать, будто человек мог бы посредством откровения быть призван сидеть себе дома, пребывая в самом что ни на есть буквальном far niente[387]387
Ничегонеделании (итал.).
[Закрыть], выдавать проблески остроумия, а затем собирать и издавать свои столь сомнительно остроумные мысли, – думать так было бы едва ли не кощунством.
С гением дело обстоит иначе; ему свойственна лишь имманентная телеология, он развивает сам себя, и по мере того, как он сам себя развивает, это само-развитие гения проецируется вовне как его воздействие. Тогда гений становится значим, возможно, крайне значим, однако сам по себе он не стоит в телеологическом отношении к миру и другим людям. Гений живет в самом себе; и он может жить в юмористически выглядящем замкнутом самодовольстве, однако его дарование не окажется бесплодным, если только он, невзирая на то, есть ли в этом какая-то польза для других или нет, серьезно и усердно развивает сам себя, следуя своему собственному гению. Так что гений ни в коей мере не бездействен, в самом себе он работает, быть может, больше, чем десять коммерсантов вместе взятых, но никакое его произведение не имеет τελος’а вне себя. В этом состоит одновременно человечность и гордость гения: человечность – в том, что он не ставит себя в телеологические отношения ни к кому из людей – в такие отношения, будто кто-то нуждается в нем; гордость – в том, что он имманентно соотносит себя с самим же собой. Это скромность соловья, который не требует, чтобы кто-то слушал его; но это и гордость соловья, которому безразлично, слушает ли его хоть кто-то или нет. Диалектика гения покажется особенно оскорбительной в наше время, когда толпа, масса, публика и другие подобного рода абстракции порываются все поставить вверх дном. Достопочтенная публика, властолюбивая толпа желают слышать от гения признание, что он существует ради нее; достопочтенная публика, властолюбивая толпа видят только одну сторону диалектики гения, они натыкаются на гордость, не замечая того, что одновременно это также смирение и скромность. Достопочтенная публика, властолюбивая толпа будут поэтому также считать напрасной и экзистенцию апостола. Ведь хотя он и поистине живет ради других, послан ради других; но не толпа, и не люди, и не достопочтенная публика, и даже не достопочтенная образованная публика господствуют над ним – но только Бог; и апостол – это тот, кого Бог наделил авторитетом для того, чтобы повелевать и публикой, и толпой.
Юмористически выглядящее самодовольство гения это единство скромной покорности в мире и гордого возвышения над миром. Гений одновременно является бесполезным излишеством и драгоценным украшением. Если гений – художник, он создает свое художественное творение, но ни он, ни его творение не имеют τελος’а вне себя. Или же он может быть писателем, который, устраняясь от всякого телеологического отношения к окружающему миру, юмористически определяет себя как лирика. Лирическое – и это совершенно правильно – не имеет никакого τελος’а вне себя; напишет ли кто-то одну-единственную страницу лирики, или же целый фолиант, он – что касается его действительных намерений – делает это не из-за и не для. Лирический писатель обращает внимание только на само произведение, наслаждается радостью произведения, часто, быть может, сквозь боль и несмотря на напряжение всех своих сил; но то, что он делает, он никак не связывает с другими, он пишет не для того, чтобы – не для того, чтобы просветить людей, чтобы помочь им следовать верным путем, чтобы чего-то добиться, – короче, он пишет не: для того, чтобы. И это верно для любого гения. Ни у какого гения нет «для того, чтобы»; у апостола есть абсолютное парадоксальное «для того, чтобы».
Проповедь, произнесенная в церкви Св. Троицы 24 февраля 1844 г.[388]388
Проповедь на 1 Кор 2:6–9: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».
Эту проповедь С. Кьеркегор произнес как выпускник пастырской семинарии, в которой он обучался в 1840–1841.
[Закрыть]
Молитва
Отец наш Небесный! Ты обитаешь во свете и преисполнены света недра Твои – нам это открыто, и потому мы видим в Тебе божественный мрак, и Твое Откровение исполнено тайн, которые неизъяснимы. Призри на нас! мы утешаемся тем, что Ты видишь тайное и ведаешь издалеча. Испытай же наши сердца, и, разумея то тайное, что скрывает в себе сердце человека, даруй каждому умно увидеть то, что его сердце безмолвно хранит в сокрытости и что его возжигает любовью к Тебе!
Как по-разному умел апостол Павел говорить о единой Истине людям, чтобы по возможности обратить хотя бы некоторых из них! Он делал это не ради корысти, ведь он научился жить беспечально в нищете и земных лишениях; он делал это не ради почета и славы, не с тем, чтобы кто-то называл себя Павловым и был ему привержен, – напротив, он утешался тем, что не дал повода для такого печального недоразумения, крестив лишь одного; он делал это не с лукавством в сердце, ведь перед Богом был он открыт. Он смиренно перед Богом и людьми признает себя меньшим из апостолов, неким извергом, недостойным называться апостолом; но когда становится нужно, когда люди не хотят прислушаться к слову человека, уничижающего себя, тогда он показывает, что он силен в слове и поставлен говорить со властью, что если он и смиряет себя под крепкую руку Божию и терпит радостно то, что апостол – как сор для мира, он все же не забыл, что он – апостол и поэтому смеет возвышать свой голос и утверждать учение, которое ему вверено проповедовать, – ниспровергая всякое отличие, превозносящееся по-мирски. <2 Кор 10:5> Когда евреи-христиане думали иметь преимущество – первородство, которое якобы делало их приятнее Богу и давало им право заточать христианскую свободу в оковы законнических установлений, Павел судит их желание преимущества как раздор и пустое тщеславие, – он, кто мог бы полагаться на плоть скорее, чем кто-либо другой: рожденный от колена Вениаминова, еврей из евреев, по закону фарисей, делавший даже то, что они не делали: гнавший общину христиан, – но все это вменявший в ничто и горько раскаивавшийся в последнем. Когда некоторые в общине желали похвалиться, будто они уже достигли совершенства, этот опытный борец, <сознавая свое преимущество>, вызывает их на ристалище, чтобы дать им увидеть, сколь далеко им до него, почитающего себя ничуть не достигшим совершенства, но лишь стремящимся к нему. – Когда члены общины раздувались от гордости, будучи убеждены, что они со всем комфортом смогут достичь того, ради чего апостолам приходилось работать как проклятым день и ночь, не получая за это ничего, кроме того, что для мира они были как сор, и кроме крайней неблагодарности общины, Павел становится на мгновение словно бы неразумным, хвалясь, чтобы напомнить им о том, что он, кто был восхищен до третьего неба, со страхом и трепетом соделывает свое спасение. Он поступал так только по любви, желая лишь обратить людей – не к себе, но к Истине. Он не занимался подстрекательством, и с чем бы он ни сталкивался на протяжении своей долгой жизни, он не пытался использовать верующих, возбудив в них нездоровые страсти. И даже стоя в оковах перед негодным царем, он не желает уязвить его, не травит ему душу, не осуждает, указуя на свои оковы, он забывает и оковы, и несправедливость мира по отношению к нему, он забывает все, кроме Истины, свидетелем которой он является, и он желает даже этому негодному царю, чтобы тот стал таким, как он, и это его желание столь мирно, что он добавляет: кроме этих оков.
Также и по отношению к христианам из язычников Павел имел достаточно силы для того, чтобы оградить вверенное ему учение от всякого колеблющего его поветрия; однако, излагая это учение, стараясь его донести, он умело использовал всякое дуновение для того, чтобы сердце тех или иных людей смогло принять неизменное слово Истины. Он не бросался опрокидывать алтари язычников, не насмехался над их мудростью, не искал такими деяниями напечатлеть в их памяти свое усердие. Он использовал стихи их поэтов, бывшие у всех на устах, чтобы учение, которое он проповедовал, сумело достичь их се́рдца; он останавливается перед их алтарем с загадочной надписью, которая была высшей истиной язычества, чтобы поведать им истину своего учения. Но когда эту его самоотверженность, эту терпеливую любовь к людям, это искание их блага желали истолковать превратно; когда мирская мудрость желала на полпути перехватить то, что он объяснял, и подменить собою; когда роскошная и бездумная городская жизнь желала сделать христианство своим, присвоить его, подобно всему прочему, как одно из благ среди многих других; – Павел опять же был верен себе, своему учению, своей власти, своей ответственности перед грядущими поколениями. Он не вступал в торговлю, не заключал сомнительных сделок, не позволял учению искажаться и вырождаться в пространных словопрениях и компромиссах с языческой мудростью; он пресекал обсуждения долгих родословий, желавших помочь ему словно бы ввести Истину в мир иным образом, чем Она пришла в него, иным образом, чем он Ее принял. Он не колебался; он открыто признавал, что учение, которое он возвещал, было для иудеев соблазном, а для эллинов безумием. Если бы одна часть мира стала насмехаться над ним, а другая малая его часть скрежетать на него зубами, он ничуть не изменил бы это учение, даже если бы ему пришлось унести это учение в могилу, не обратив ни одного человека. Он не занимался подстрекательством, он не искал доказательства истинности учения в том, что оно для иудеев соблазн, а для эллинов безумие; он ведь знал, что это учение – Истина. Для него это главное; он знает, что прочему надлежит прийти через это безумие проповеди, тогда как иудеи требуют знамения, а греки ищут мудрости (1 Кор 1:22) В нем нет злорадства самоистязателя, желающего найти подтверждение истинности учения в том, что оно постоянно вызывает злобу или насмешки, и ищущего таким образом оставить о себе память в мире, – как будто только так он мог бы этого достичь. О! Ложь и безумие, конечно, тоже способны вызвать злобу и смех. Но Павел знает, что это учение – истина; и его убежденность в этом не возрастет, если это учение примет весь мир, – о чем он от всего сердца просит в молитвах; и его убежденность, его энтузиазм не ослабеют, его горение духа не угаснет, даже если это учение не примет никто.
Павлу стоило особых усилий отстоять чистоту проповедуемого им учения в общине, основанной в Коринфе. В этом цветущем торговом городе, который благодаря своему расположению и благодаря мореплаванию поддерживал живую связь между Востоком и Западом, постоянно тек огромный поток людей из множества стран – людей, говоривших на разных языках, имевших разное образование, которые, смешиваясь с местными жителями, соприкасаясь друг с другом и друг от друга отталкиваясь, производили все новые и новые многоразличные союзы. И в общине это многоразличие желало заявить о себе, раздробив ее на секты и партии; но прежде всего искала языческая мудрость выступить как учитель истины. В своем первом послании к этой общине, из которого взят прочитанный нами текст, Павел усиленно борется против этого и не идет ни на какие компромиссы с языческой мудростью, с которой он не имел и не хотел иметь ничего общего. Мы слышали его слово. Ревностный в том, что ему поручено, он не желает, чтобы учение Истины преклоняло колена перед чужими божествами, или чтобы оно как милостыни просило в свою поддержку пышных слов, он прямо заявляет, что, пусть и будучи невеждой в слове, он возвещает мудрость не века сего и не властей века сего, которые должны быть посрамлены, но премудрость тайную, сокровенную от сложения мира, которая была сокрыта от глаз властей века сего, распявших Господа славы.
Если бы Павел жил в наши дни! Да! Его заботливое отношение к людям, наверное, помогло бы ему найти множество неведомых нам целебных средств, – но разве же он изменил бы, поддавшись давлению необходимости, вверенное ему решительное, неподкупное слово, нарушавшее покой; разве пришлось бы тому, кто был его современником и знал его в те времена, лишиться не только учения, но и Павла? Конечно нет. Но какие выводы должен сделать сегодня из этого тот, кому надлежит проповедовать общине христиан? Быть может, ему следует увести тебя, мой слушатель, прочь из этого святого дома в переулки и улицы, <или хотя бы выйти во двор храма, чтобы> базарить и торговаться с мирской мудростью – не ради твоей пользы, ведь какая тебе от этого польза; не ради Истины, ведь она желает, чтобы ее возвещали неискаженно и чисто; но ради тщеславия, ради того, чтобы выглядеть в глазах мира кем-то замечательным? Или, быть может, ему прямо в этом святом месте – при том, что ты знаешь, что эта премудрость является и остается сокровенной и тайной, и потому неизменно открывается втайне – следует развести болтовню вслед за сильным словом апостола[389]389
На полях: льстиво поддакивать сильному слову апостола.
[Закрыть], своим скверным словесным шумом позоря апостола и себя самого? Хвала человеку, который умел бороться за истину, который не позволял распинать Истину, сам умывая руки; хвала человеку, который на протяжении 40 лет пребывал день и ночь в постоянной опасности, в голоде и наготе, не имея где главу приклонить, отказавшись от всего, терпя поношения и преследования, будучи хулим и проклинаем; но безумием было бы, если бы так пожелал бороться и тот, для кого опасность совсем в другом – не в том, что он не исполнит то, что призван исполнить апостол, а в том, что он сам не спасется. Пусть апостол хранит воинствующее сильное слово, разделяющее до составов и мозгов; но если мы вслед за ним повторим это слово, мы будем подобны ребенку, который надевает на себя доспехи сильного, желая поиграть в воина; и так же, как противник сразу увидит, что перед ним всего лишь ребенок в доспехах, так и глядя на нас, противник сразу же увидит слабую душу и бессильную мысль[390]390
На полях: хрупкий голос.
[Закрыть], которые взялись поиграть с сильным словом! Это, конечно, принесет лишь вред, – тогда как то, чему положил начало Павел и что ему было дано с таким великолепием совершить, конечно, принесло пользу; – а он положил начало борьбе с целым миром, и никакой страх не смог бы убедить его в том, будто он недостаточно посоветовался с плотью и кровью и не был вполне готов к этой борьбе, когда пожелал вступить в нее, оставив все прочее.
Так что давайте лучше каждый из нас будет слушать слово апостола как обращенное лично к нему, и каждый наедине сам с собой поразмыслит о том, что он слышит: не о том, чем является это учение для мира, а о том, в каких он сам состоит отношениях с этой сокровенной премудростью. Ведь печальнее всего будет, если то, что для иудеев было соблазном, для эллинов безумием, для Павла спасительной силой <Божией>, для тебя окажется ничего не значащим звуком, шумом слов, слетающих с уст апостола Павла, говорящего о том, что для иудеев это раздражающий их соблазн, а для эллинов безумие! Разве это не столь же печально, как если бы ты знал о той тайне благочестия, о которой Павел говорит в другом месте: о том, что Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире[391]391
1 Тим 3:16.
[Закрыть] – знал бы, что Он принят верою в мире, но не знал бы, веришь ли ты этому сам.
Так что эта беседа должна держаться тебя, мой слушатель, и речь в ней должна идти о
твоих отношениях с этой сокровенной премудростью
Проповедуя эту сокровенную премудрость, апостол Павел говорит о том, чего не видел глаз. Но видел ли это ты, мой слушатель, или ты относишься к этому не как тот, кто это видел, даже если это его и раздражало, кто это видел, даже если и насмехался над этим, но как тот, кто не видел этого или же не выделял этого из всего, что есть в мире сем и что ничуть не побуждает раздражаться и насмехаться? Но если ты не выделял этого из всего остального, ты, даже и видя это, был словно не видящий. Ведь разве верным будет относиться к этому удивительному как к чему-то совершенно естественному – так, что раздражение ни на мгновение не подкрадется к твоей душе, так, что насмешка не станет втайне подбираться к тебе, чтобы помешать созерцанию. Даже апостол был близок к такому раздражению[392]392
По-видимому, апостол Петр (о котором будет сказано и чуть ниже), когда он прекословит Иисусу, говорящему о Своих грядущих страданиях, смерти и воскресении, отвечая на это: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобой!» (Мф 16:22).
[Закрыть] – но он любил Бога, и это раздражение смогло послужить ему ко благу: он был укреплен в апостольской ревности. Не станем же полагать это удивительное чем-то совершенно обычным; впрочем, возможно, что мы беседуем уже не о нем и говорим не о том, о чем думаем сказать. Были названы два неверных пути: раздражение и насмешка, – ведь это удивительное, если оно не принимается ко спасению, служит для человека поводом или к тому, чтобы в упорной трусости потерять свое достоинство, впав в раздражение, или к тому, чтобы с трусливым упорством утверждать себя, насмехаясь над этим. Ведь если человек требует знамения, – тогда как это удивительное открывается не в знамениях, которых ищет человеческая дерзость, а в Божественной милости, – то он раздражается, как раздражался Петр; а если он ищет мудрости, то он насмехается, как смеялась Сара, слыша обетование.
Видел ли ты то, о чем говорит апостол, мой слушатель, или ты лишь говоришь: блаженны очи, которые видели это, – и только так ты способен об этом сказать? Великолепие, о котором мы размышляем, не было ведь усладой земных очей, раз оно было для иудеев соблазном, а для эллинов безумием. Так что очи, которые его видели, это не земные очи, но очи веры, доверчиво, вопреки всякому страху взиравшие на то, чего земные очи не видели и смотревший ими не знал, что в этом можно увидеть – как не видели шедшие в Эммаус ученики, и как не видела стоявшая у гроба Мария Магдалина; очи веры, взиравшие на то, что боялись увидеть земные глаза, поскольку смотревший ими знал, что́ ему предстоит увидеть. Итак, очи веры блаженны, когда они взирают на то, что открывается вере, но когда ты восхваляешь их блаженство, ты ведь говоришь не о чем-то таком, что было бы великолепно увидеть, однако фортуна и обстоятельства одному человеку дают возможность увидеть это, а другому в этом отказывают. Когда ты восхваляешь счастье человека, который видел то, что желают видеть земные очи, и при этом не завидуешь, но по-доброму радуешься вместе со счастливцем, – мы хвалим тебя за то, что ты не впадаешь в нетерпение, страстно желая видеть то же, не становишься завистлив, будучи этого лишен, и тем самым хранишь радость об этом счастливце себе на славу. Но когда ты восхваляешь блаженство очей веры, которые видели то, что открыто вере, ты либо лукаво заблуждаешься насчет самого себя и предмета своей речи, который ты выдаешь за что-то внешнее, либо в то же мгновение чувствуешь тайный укор за то, что ты говоришь об этом так, будто тебе отказано в этом – отказано в благоприятном времени, когда ты мог бы увидеть то, что видел верующий в те далекие времена; тайный укор за то, что ты злоупотребляешь словом, относящимся прежде всего ко времени, бывшему прежде полноты времен, – ко времени, когда люди жаждали видеть то, что видит верующий, и что верующему дано увидеть не в силу одного лишь его желания. Если ты честен, ты непременно почувствуешь недовольство самим собой за то, что ты используешь это слово как защиту своего неверия, изображая все так, будто, живи ты в другое время, ты бы увидел то, что видит лишь вера, а если твое восхваление веры достаточно для этого теплохладно – так, будто уж ты-то, конечно, не стал бы раздражаться или насмехаться, если бы то великое, о котором мы говорим, заставило тебя это видеть.
Видел ли ты то, о чем говорит апостол, мой слушатель, и благодаря чему? Благодаря ли той прекрасной силе в душе, которая утешает и радует детское в нас, той прекрасной силе, которая будит в памяти желанные черты тех, по ком тоскуешь, любимый образ, но которая не только дает присутствовать призракам прошлого, но и будоражит душу образами тревожных предчувствий? Сила эта, конечно, может многое, но производимое ею – это твоя работа, даже если оно и воздействует на тебя с той силой, которую ты ему придал. И то, что эта сила производит, должны прежде так или иначе увидеть земные очи, но то, что видит вера, земные очи видеть не могут, и потому это не может явить себя в образах воображения. И разве можно было бы желать, чтобы то, что видит вера, было воображаемым образом, который, как ты знаешь по опыту, всегда отсутствует как раз тогда, когда ты больше всего в нем нуждаешься; ведь когда уверенность, тишина и безмолвие, в которых рождается образ, исчезают, когда им на смену приходят раздор и борьба, тогда тебя не посещает ничто, кроме того, что навеяно тревогой и страхом. И даже если бы желанный образ и посетил тебя в это время, он все же не смог бы умирить раздора, ведь все создания воображения это неделимые единства, неспособные воздействовать на что-то вовне себя[393]393
Буквально: единство без (или: вне) состава (Eenhed uden Sammensætning). Возможно, здесь присутствует скрытое уподобление образов воображения лейбницевским монадам.
[Закрыть]. И если ты пожелаешь вообразить царя, но не одетого в пурпур, сможет ли воображение помочь тебе в этом, если ты никогда не видел царя, одетого подобно обычному человеку; если ты захочешь вообразить его не во дворце, сможет ли воображение помочь тебе в этом, если ты никогда не видел Их Величества у того, кто беден и презираем в народе, и сможешь ли ты вообразить его, не воображая ни бедной хижины, в которой была бы заметна его осанка, ни бедного жильца этой хижины, рядом с которым также было бы видно, что он – царь? Или твое воображение придет в отчаяние, не будучи в силах этого сделать? Так и если бы ты прочитал со всем вниманием слышанное нами слово апостола, то разве ты смог бы вообразить то великое, о чем идет речь, как соблазн для иудеев, – ведь если бы царь пожелал посетить простого человека, который не смог бы ему воспрепятствовать в этом, своим присутствием царь обратил бы его хижину во дворец; разве ты смог бы вообразить это великое как безумие для эллинов, – ведь если бы наш благородный царь носил простую одежду и только этим не был бы похож на царя, и если бы его человеческие черты были видны и тогда, когда он облачался бы в пурпур, или если бы простая одежда была его отличительным знаком, который особым образом, более, чем вся земная роскошь, подчеркивал бы его отличие, то ведь, конечно, греки не стали бы над ним насмехаться.
Но если ты видел то великое и дивное, о котором идет у нас речь, то я понимаю, как ты его видел – ты видел его, веруя. Вера подобна тому, что ей открыто: она для иудеев соблазн, раздражающий их, потому что они жаждут чудес и знамений как доказательств, тогда как чудо само доступно лишь вере; для эллинов она – безумие, потому что они ищут мудрости, тогда как вера есть нечто сокровенное и являет себя лишь как безумие.
Проповедуя эту сокровенную премудрость, апостол говорит о том, чего не слышало ухо. Но слышал ли это ты, мой слушатель, и как ты это слышал? Быть может, эта премудрость уже перестала быть сокровенной, поскольку слово, о котором мы говорим и которое передавалось когда-то шепотом в потаенных местах, теперь возвещается с кровель?[394]394
Ср.: Лк 12:3.
[Закрыть] Продолжает ли это слово быть сокровенным? Ведь если один человек доверяет другому нечто сокровенное, какую-то тайну, а другой по неосторожности или злонамеренно разглашает ее, и она становится доступна любому, то было бы странным, если бы эти двое продолжали считать ее по-прежнему тайной. Но эта сокровенная премудрость существует лишь для того, кто имеет уши, чтобы ее слышать, ведь только он ее слышит.
Слышал ли ты, о чем говорит апостол, мой слушатель, или же ты подобен не тому, кто слышал это, хотя и пришел в раздражение, кто слышал это, хотя и стал насмехаться, – но тому, кто, слыша, не слышал, кто слышал лишь колебание воздуха, не дававшее повода ни для насмешки, ни для раздражения. Тогда это лучше слышал тот, кто был раздражен; и тот, кто насмехался над этим, не так быстро смог это забыть. Ведь первый все же вступил со слышанным в тесные отношения, невольно прилепился к нему, поскольку не смог пройти мимо; второй же должен был постоянно защищаться от слышанного, насмехаясь над ним, ведь только так он и мог держаться на расстоянии от него. Так что если слышанное не вызвало у тебя никакого раздражения хотя бы в то мгновение, когда ты обнаружил, как близко оно тебя затрагивает, и когда тебя спасла безусловная преданность; если слышанное не вызвало в тебе желание осмеять его, даже если ты в то же мгновение сердцем принял его, блаженно от всего отрешившись, – тогда весьма сомнительно не просто то, что ты состоишь с этим словом в правильных отношениях, но сомнительно, что ты вообще состоишь с ним в каких-либо отношениях.
Слышал ли ты, о чем говорит апостол, мой слушатель, или ты, лишь как будто это услышав, прислушиваешься и говоришь: блаженны уши, которые слышали это? Конечно, счастливы и уши, которые слышали то, что желают слышать земные уши; но ведь мы говорим не об этом. То, что ты жаждешь услышать, ты ведь слышал уже, оно слышится снова и снова, оно слышится всякое мгновение в самых разных местах, и ты не должен говорить: кто взойдет на небо, чтобы свести его к нам[395]395
Ср.: Рим 10:6.
[Закрыть]. Но тогда блаженство состоит не в том, чтобы попасть туда, где ты сможешь это услышать, нет, скорее те, чье блаженство ты восхваляешь, имеют уши, чтобы слышать это: уши сердца. Конечно, счастлив и тот, чьи уши способны слышать тончайшие оттенки звука, и если ты восхваляешь счастье того, кому это дано, то мы хвалим тебя за то, что ты не желаешь мелочно, чтобы всем недоставало того же, чего недостает тебе. Но мы говорим не об этом. Слово, о котором идет здесь речь, не было словом, которое своей красотой щекотало бы земные уши, ведь как оно могло бы тогда стать для иудеев соблазном, а для эллинов безумием? Оно было не вдохновенной пламенной речью, ведь красоту греки ценили прежде всего остального, а вдохновенный энтузиазм находил горячий отклик у иудеев. Так что поистине его слышали не земные уши, но уши веры, которые, несмотря на соблазн раздражиться или начать насмехаться, слушали, чтобы услышать слово веры. Да, блаженны уши, которые это слышали. Но как можешь ты полагать, будто их блаженство заключается в том, что им случилось это услышать? Ведь это всегда и везде беспрепятственно может слышать тот, кто воспринял возвещенное слово.
Слышал ли ты, о чем говорит апостол, мой слушатель, – и как сохранил ты услышанное? Ведь тот, кто слышит лишь звук, тот имеет лишь ощущение, и если он станет слушать человеческую речь, он на самом деле ее не услышит, если не услышит другого; и даже если он и продолжит слушать, не слыша, пока другой будет говорить, он ничего на самом деле не услышит. Сохранил ли ты это слово с помощью той честной силы в душе, которая ничего не прибавляет и не убавляет, но в точном и неизменном виде возвращает то, что ей вверено? Пожелаешь ли ты доверить слово этой силе? Конечно, она честна, но когда наступает борение и твоя душа мятется, то ты замечаешь, что ты потому прибегаешь к памяти, что она вместе с тобой претерпевает это смущение. И память принадлежит тебе не вполне, она не тебе одному подчиняется, но зависит от того, над чем ты не властен; ведь время притупляет ее, выманивает у нее мало-помалу то, что ты ей вверил, пока, наконец, не придет то последнее время, когда ты больше всего нуждался бы в слове, о котором мы говорим. И если бы даже память могла его сохранить, чего бы ты мог от нее ожидать? Это слово, конечно, было сказано в прошлом, много столетий назад, а память как раз способна сохранить нечто прошедшее как оно было, и в точности воспроизвести его здесь и сейчас в виде воспоминания, ничего не упуская, но и не позволяя забыть, что это нечто уже прошедшее. Если окажется забыто то, что это нечто прошедшее, изменится и воспоминание, как если бы кто-то отчетливо помнил некое событие, но забыл бы, что прошло уже много лет с тех пор, как все это было. Но ведь слово, о котором мы говорим, принадлежит настоящему в той же мере, что и прошлому; ведь заблуждением было бы считать, будто уши, которым довелось его слышать много столетий назад, блаженнее тех ушей веры, которые слышали это вчера.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.