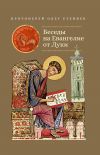Текст книги "Евангелие страданий"
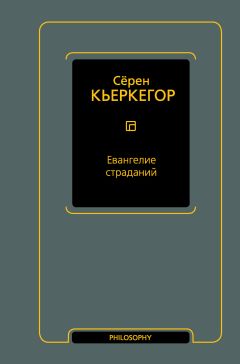
Автор книги: Серен Кьеркегор
Жанр: Словари, Справочники
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
1. Священник (здесь это собирательный образ) говорит, конечно, в проповедях о тех величественных людях, которые пожертвовали жизнью ради истины. Как правило, священник, разумеется, полагает, что на его проповеди нет никого, кто мог бы при случае на что-то такое решиться. И если он, зная свой приход как духовник, уверен в этом достаточно твердо, тогда он бодро читает проповедь, он изрядно декламирует и вытирает пот. Если на следующий день к священнику пришел бы один из тех решительных людей, которые чужды всякой декламации, тихий, скромный, быть может, невзрачный человек, который заявил бы, что священник воодушевил его своим красноречием, так что он теперь твердо решил пожертвовать жизнью ради истины: что было бы тогда? Тогда священник, пожалуй, добродушно скажет ему: «О, Боже сохрани, как Вам такое взбрело; поезжайте развейтесь, примите слабительное». И если тогда этот невзрачный человек все столь же спокойно устремит на него свой взор и, глядя ему в глаза, продолжит говорить о своем решении, и притом в самых скромных выражениях, как это свойственно решительным людям, – тогда священник, конечно, подумает: лучше было бы мне не знать этого человека. – Или, если бы это был более способный священник, он стал бы тогда серьезно разговаривать с этим человеком, желая понять, с кем он имеет дело, и, если бы убедился, что этот человек не лжет, почтил бы его мужество.
Но моя проблема здесь даже не была упомянута: имеет ли человек право предать себя на смерть и быть убит ради истины? Ведь одно дело: имею ли я мужество для этого; и совсем другое: имею ли я на это право? Как у термометра есть положительная и отрицательная шкала, так и в области диалектического есть прямая шкала и шкала обратная. Но поскольку люди редко рассматривают или вовсе не рассматривают в таком обратном ракурсе диалектическое, к которому они прибегают, размышляя о том, как поступить им в жизни, постольку они редко доходят и до подлинной проблемы. Люди по преимуществу знают диалектическое только в прямом его виде. Я чаще всего читал большие философские работы и слушал лекции от начала и до конца; и при этом, читая и слушая, я всегда улавливал развитие мысли – только время от времени мне приходило на ум: писателю или доценту нужно было потратить огромное время на подготовку. Но вот: книга вышла, лекция позади, – и, что важнее, предполагается, будто предмет теперь уже полностью разъяснен и исчерпан. И я, думая, что теперь нам предстоит положить чему-то начало, я, естественно, оказывался вовсе не в состоянии разобраться в том, в чем полагал себя уже разобравшимся. Так и с моей проблемой. Обычно говорят о том, какое мужество нужно для того, чтобы пожертвовать жизнью ради истины, живописуют всевозможные опасности, позволяют большинству в страхе отпрянуть от них, и вот только он, мужественный, идет навстречу всем опасностям, идет, наконец, навстречу смертельной опасности, им восхищаются – аминь!
Тут-то как раз я и полагаю начало. Я начинаю не с его смерти, которая последовала за всем этим, но с предположения, что с мужеством все в порядке и недостатка в нем нет. Тут-то и вступаю я с вопросом: имеет ли человек право предать себя на смерть и быть убит ради истины?
2. Если человека убивают ради истины, то, конечно, должны быть какие-то люди, которые его убьют, это ведь очевидно. Не следует только забывать, что я исхожу из предположения, что его убивают действительно ради истины. В одни времена его могли бы убить власти, духовные или мирские, в другие времена толпа. В какие-то времена его могли бы убить по закону, вынеся законный приговор; но должно быть ясно – из чего я и исхожу, – что его убивают действительно ради истины, так что закон и приговор здесь мало что значат, ведь что такое закон и приговор без истины! Итак, те, кто его убивают, отягощают свою совесть убийством. – Имею ли я, в таком случае, право на это, то есть имеет ли человек право на то, чтобы ради истины позволить другим стать виновными в убийстве? Обязывает ли меня мой долг перед истиной идти в этом до конца, или, скорее, мой долг перед ближними велит мне немного уступить? Как далеко простирается мой долг перед истиной и как далеко – мой долг перед другими?
Большинство людей, по-видимому, не задумываются над тем, о чем я говорю. Они говорят, когда речь идет о наших современниках, о том, сколь опрометчиво бросать вызов силам, которые способны убить человека; они восхищаются умершим, у которого хватило на это мужества. Но я говорю совсем не об этом. Я полагаю само собой разумеющимся, что тому, о ком я думаю, меньше всего недостает мужества; и я говорю не о том, сколь опрометчиво бросать вызов силам, которые способны убить человека. Я говорю о совсем другой силе, которая если убивает, то убивает навечно, я говорю о совсем другой силе, которой он, быть может, опрометчиво бросает вызов – об ответственности: имеет ли человек право так далеко зайти, имеет ли он – даже если он прав и истина на его стороне – право сделать других столь виновными, имеет ли он право так наказывать других? Ведь нетрудно видеть, что как раз в то мгновение, когда они его убивают, полагая, будто это они наказывают его, он страшно наказывает их тем, что позволяет им стать виновными в убийстве. Это почти несопоставимо: быть без вины убитым, не столь уж тяжкое страдание – и совершить преступление, убить невинного, предавшего себя на смерть ради истины. – Большинство людей думают примерно так: какая нужна сила, каким сильным и мужественным нужно быть, чтобы предать себя на смерть; пусть вершат свое дело те, кто приводят это в исполнение, те, кто убивают его. Даже тот, кто смотрит на вещи значительно глубже большинства людей, даже настоящий ироник с бесстрашным остроумием думает примерно так: что мне с того, если я буду убит, – это «по-настоящему» касается только тех, кто будет меня убивать. Но я говорю не об этом, я говорю не так, но говорю о чем-то совсем другом, о том, что, пожалуй, требует гораздо больших сил и совершенно иначе характеризует сильного: обладая достаточным мужеством для того, чтобы предать себя на смерть, обладая достаточной атараксией для того, чтобы воспринимать это с глубокой иронией, при этом с любовью заботиться о других, о тех, кто, если ты будешь убит, должны будут стать виновными в этом убийстве. Я говорю о том, чтобы, имея мужество предать себя на смерть, в страхе и трепете печься о своей ответственности за это. Ведь если некий человек на самом деле по сравнению с другими людьми явно имеет истину на своей стороне (что мы и предполагаем здесь, ведь речь у нас идет о смерти ради истины), то разве не обладает он по отношению к ним решительным превосходством? Но что значит иметь превосходство? Это значит, что ровно в той мере, в какой возрастает твое превосходство, в той же мере растет и ответственность, которая лежит на тебе. Так что истинное превосходство над другими не сулит никаких удобств, если, поистине превосходя других, ты – что неотъемлемо присуще истинному превосходству – имеешь верное самопонимание.
Так имею ли я, имеет ли человек право предать себя на смерть и быть убит ради истины?
3. Редко кому случается пожелать пожертвовать собой ради истины. Всякий, напротив, не раз читал и слышал о тех величественных людях, которые, как об этом рассказывают, некогда это совершили. То есть к этому подходят как к чему-то такому, что навсегда уже в прошлом, – и потому, когда думают об этом, все выворачивают шиворот-навыворот. Обычно полагают, будто это происходит следующим образом. Некий человек высказывает ту или иную истину, высказывает ее смело, решительно. Он сам меньше всего думает о том, что его речь повлечет за собой его смерть. Но вот, вот, неизвестно какими судьбами, вот он уже стоит перед теми, кто лишит его жизни, – и он умирает за истину. То есть все это случайность, чистой воды случайность. Здесь вовсе нет места для того (что как раз отвечает «ответственности»), чтобы свободно способствовать своей смерти, а значит, нет места и для подлинного само-пожертвования ради истины. Человек, которого так убивают, становится пострадавшим, но он отнюдь не является тем, кто страдает вольно, кто с самого начала шаг за шагом свободно соглашается страдать, будучи властен в любое мгновение предотвратить это, немного уступив в отношении истины, будучи властен избежать страдания и даже сделаться предметом восхищения. Однако большинство людей не имеют никакого понятия о подлинном превосходстве и о том, какое превосходство может дать истина, если она на твоей стороне, никакого понятия о свободе самоопределения у того, кто вольно страдает – свободе, с которой он сам способствует собственной смерти, а также тому, что другим попускается отяготить свою совесть убийством. Обычно здесь полагают лишь внешнее отношение между человеком и человеком: другие люди убивают его. Однако так никто никогда не жертвовал собой ради истины. Ведь тот, кто жертвует своей жизнью, в то же время (поскольку жертва неразрывно сопряжена со свободой и самоопределением, а свобода и самоопределение неразрывно связаны с ответственностью) понимает, что в его власти было предотвратить свою смерть, а значит, что он отвечает за то, что позволил другим стать виновными в его смерти.
Меня более всего занимает именно то, что обычно меньше всего занимает людей: начало – а все остальное не столь уж волнует меня. В особенности не волнует меня все, что случается. Я неспособен как чем-то настоящим заниматься внешними вещами, и потому мне приходится спрашивать: как данный человек сумел начать? Только зная начало, я смогу чему-то научиться. Только зная, что он сделал и как он это сделал, я могу чему-то научиться: и я, понятное дело, должен знать это от начала и дальше; тогда как зная, что случилось с неким человеком, научиться я ничему не могу.
Так вот, размышляя над моей проблемой, я думаю о человеке, который, имея мужество и воодушевление, не в меньшей мере обладал бы рефлексией. Такой человек способен, полагая чему-то начало, дать себе отчет в том, к чему это может привести. Он понимает, что если это станет его – нет, не его роком, ведь им-то это как раз не является; если он будет убит ради истины, это его выбор. То есть он понимает, что в этом случае он сам будет свободно содействовать своей смерти; он понимает и ту ответственность, которую он при этом должен будет взять на себя, ответственность в том числе и за то, о чем мы говорили выше – за то, что он тем самым позволит другим стать виновными в его смерти. В его жизни непременно должно наступить мгновение, когда он скажет сам себе: «Если теперь я стану еще более строг в возвещении истины, если буду возвещать ее так, как я ее на самом деле сознаю, то это приведет меня к смерти, это кончится тем, что или власть, или народ (в зависимости от того, какую из этих сил он этим прежде всего задевает) убьет меня».
Здесь встает проблема: имеет ли он на это право. Большинство людей едва ли разглядят эту проблему. Современника они будут упрекать за строптивость, за то, что он настаивает на этом с таким ожесточенным упорством; в отношении же умершего они будут восхищаться терпением, с каким он шел до конца. Я спрашиваю: имеет ли он, имеет ли человек право предать себя на смерть и быть убит ради истины?
4. «Он сам виноват в своей смерти», – так говорят современники о том, кто жертвует жизнью ради истины. Это как раз и занимает меня. Многие люди были убиты, многие погибли, упав с лесов, и т. п. – но нет никого, кто пожертвовал бы жизнью ради истины, не будучи повинен в этом. Однако, если он пожертвовал жизнью ради истины, он в самом благородном смысле является невиновным.
Но если он «сам виноват в своей смерти», то это свидетельствует также о том, в каком преступлении он позволяет другим стать виновными, – и тогда я спрашиваю: имею ли я на это право, имеет ли право человек поступить так ради истины, разве не будет это жестокостью по отношению к этим другим? Люди, как правило, с трудом усматривают эту проблему. Обычно говорят, что жестоко убивать его, невиновного, – но я спрашиваю: не жестоко ли было с его стороны по отношению к другим позволить, чтобы дело дошло до того, что они его убили или убивают?
5. Чего добивается, чего может добиться человек, жертвуя собой ради истины, или – чтобы выразить это в форме моей проблемы – ради истины позволяя другим убить его, стать виновными в его смерти? 1) Он добивается того, чтобы остаться верным истине, до конца исполнить свой долг перед ней. 2) Также, быть может, своей смертью – смертью невиновного – он сможет пробудить людей и этим поможет истине победить. Несомненно, что если люди ожесточились против истины, то для того, чтобы истина смогла дойти до этих людей, нет более действенного средства, нежели позволить им убить свидетеля истины. Как раз в то мгновение, когда поборники лжи лишат его жизни, им станет страшно самих себя и того, что они сделали; победив, они обессилят; и победа их как раз будет поражением лжи, ложь потеряет силу, поскольку теперь перед ней нет того, с кем она сражалась. Ведь именно его сопротивление придавало силы лжи; в самой себе ложь не имеет никакой силы, что и обнаруживается теперь: самым явным, самым ироническим образом это обнаруживается как раз в то мгновение, когда ложь отнюдь не терпит поражение, но, напротив, торжествует победу, так что – ее победа показывает, сколь она обессилена. Ведь если некто терпит поражение, то видишь не то, сколь он слаб; видишь, сколь силен другой. Но если некто одерживает победу – и тут же падает без сил, тогда видишь, сколь он слаб и сколь слаб он был, – и видишь, сколь силен был другой, тот, кто вынудил его победить ценой таких усилий, вынудил его стать таким раздавленным, каким его не сделало бы никакое поражение. 3) Наконец, для следующих поколений его смерть ради истины неизменно будет служить примером, побуждающим людей пробудиться.
Но спросим теперь о тех, кто убили или убивают его: может ли смерть свидетеля истины что-то сделать для того, чтобы снять с них бремя вины; имеет ли смерть свидетеля истины обратную силу? Нет, такую обратную силу имела только смерть Христа – ведь Он был больше, чем человек, и Он связал Себя со всем человеческим родом. И даже если то, что они стали виновны в смерти свидетеля истины, помогло им разглядеть истину: их вина все равно останется той же, и они, пожалуй, лишь еще сильнее почувствуют тяжесть этой вины. Имею ли я право употребить столь жестокое, столь страшное средство для их пробуждения? Большинство людей едва ли видят эту проблему. Говорят о том, что это страшно, когда используют смертную казнь для того, чтобы заставить человека принять истину. Но я говорю о том, сколь это страшно – позволить человеку или своей современности стать виновными в моей смерти, чтобы благодаря этому они пробудились и приняли истину. Разве второе из этого не намного более ответственная операция, чем первое?
6. Может ли истина освободить человека от всякого ответа за вину, состоящую в том, что он, идя на смерть ради истины, позволяет другим стать виновными в убийстве? Да, почему бы и нет. Но (и теперь я поворачиваю вопрос иначе, чем прежде, когда я сомневался в этом: да) могу ли я или может ли человек полагать, что в познании истины он в такой мере превосходит других людей? Ведь со Христом дело обстояло совсем по-другому, Он был «Истина».
Существует ли для данного единичного человека в его отношениях с другими людьми – борющимися с ним – абсолютный долг перед истиной? Позвольте мне вместо того, чтобы отвечать, выразить ответ в виде нового вопроса, который развернет проблему иначе, чем прежний вопрос о том, имеет ли человек право – даже если он прав и истина на его стороне – позволить другим стать виновными в убийстве (ср. 2). Новый вопрос таков: может ли данный единичный человек претендовать на то, чтобы по отношению к другим людям его познание истины было абсолютным? И если нет, если мое познание истины не является абсолютным, то как может быть абсолютным мой долг перед ней? Ведь это противоречит само себе.
7. Но ведь свидетель истины, видя, что наступило мгновение, когда дело идет о его смерти, может, начиная с этого мгновения, замолчать. Имеет ли он на это право? Не обязывает ли его долг перед истиной говорить – чего бы это ни стоило? Большинство людей, пожалуй, понимают это в противоположном смысле, чем понимаю это я. Они понимают, «чего бы это ни стоило» в смысле готовности пожертвовать жизнью; я понимаю это в том смысле, что тогда придется позволить другим стать виновными в убийстве. Имеет ли он право молчать? И если, положим, его принуждают говорить – если он при этом знает, что истина, если он выскажет ее, станет его смертью или, точнее, приведет к тому, что другие станут виновны в его смерти: имеет ли он тогда право высказать ложь? И освобождает ли его совершенно от ответственности то, что говорить его принудили другие, то есть что это они сами принудили его к тому, что он позволил им стать виновными в его смерти?
8. Но ведь он, поскольку другие были в его власти, мог с этого самого мгновения предвидеть, что итогом их борьбы будет то, что они его убьют. Ведь поистине именно ему принадлежит здесь власть над другими. Большинство людей превратно понимают это, полагая, будто это он находится во власти других, сильных; но это обман чувств. Нет ничего сильнее истины; и его власть над ними проявляется как раз в том, что он способен заставить их убить его, поскольку он, свободный, знает, что они настолько порабощены ложью, что непременно убьют его, если он будет высказывать истинное так-то и так-то. Но значит, он мог бы еще кое-что сделать, он мог бы сказать им: «Я молю и заклинаю вас всем, что только есть святого: уступите. Я не могу уступить, потому что истина, которая одна имеет власть надо мною, обязывает и принуждает меня не уступать. Но я вижу, что близится моя смерть, я вижу, что теперь я становлюсь виновным в той вине, что я возлагаю на вас, – в том, что вы убьете меня. И я буду молить, буду упрашивать вас избавить меня от этой вины; ведь этого я боюсь, – а вовсе не смерти». Но если они и теперь не смогут его понять, будет ли он тогда свободен от раскаяния в том, что позволил им стать виновными? – Или же он мог бы сказать: «Я возлагаю на вас ответственность за ту вину, которая некоторым образом ложится на меня в силу того, что я позволяю вам стать виновными в моей смерти». Будет ли ему тогда не в чем каяться?
9. Итак: «если они так и не смогут его понять». То есть имеет ли человек право сказать: они не желают меня понимать? Ведь Христос имел на это право. Сопротивление по отношению к Нему, Святому, было грехом. Кроме того, Он, будучи Богом и видя сердца людей, Он знал при этом меру их вины, Он, от Кого ничто не было сокрыто, знал, что они не желают Его понимать, так что то, в чем они внешне обнаруживали себя виновными, в точности соответствовало той вине, которая обитала в них. Но имеет ли право человек, когда по отношению к другим людям дело идет об этой крайности, о том, чтобы позволить им убить его, – имеет ли он право сказать: они не желают меня понимать, их непонимание греховно? Может ли человек смотреть в сердца других людей и видеть, что в них происходит? Ведь этого-то он, уж наверное, не может; а значит, он не может и с определенностью знать, что в основании их сопротивления лежит нежелание его понимать. Но тогда смеет ли человек, когда все идет к этой крайности, к тому, чтобы позволить им стать виновными в его смерти, смеет ли он сказать: они не желают меня понимать?
Разве не является этот диалектический момент в отношениях между человеком и человеком столь относительным (просто потому, что никакой человек не есть нечто абсолютное), что как раз то, что они хотят его убить, напротив, указывает ему на то, что он должен в сомнении обратить свой взор на самого себя, усомниться, действительно ли он прав, действительно ли он обладает истиной, если другие (которые в своем отношении к истине qua люди не могут быть абсолютно отличны от него) хотят его убить? Не должен ли он в любом случае прекратить всякую полемику с ними и употребить все допустимые средства для того, чтобы приобрести этих людей для истины? – Однако, если это не получается сделать, – ведь часто проявить в пылу сражения мягкость значит только добавить масла в огонь, – если это никак не удается – что тогда?
Есть ли всякое заблуждение лишь неведение или же существует такое заблуждение, которое является грехом? И если таковое существует, существует ли оно также в отношениях между человеком и человеком; ведь отношения между Христом и человеком, в которых таковое имело место, это нечто совсем иное.
Ложным в поступке Сократа было то, что он был ироник, что он, в силу естественных причин, не имел никакого понятия о христианской любви, которая как раз узнается по ответственной заботе о других, по ответственному к ним отношению, тогда как он думал не иметь никакой ответственности по отношению к современникам, но отвечать только перед истиной и перед самим собой. А в суждении Сократа о том, что грех есть неведение, разве не было неистинным как раз то, что он, по-гречески, мыслил только отношения между человеком и человеком? Христианство знает отношения между Богом и человеком и потому рассматривает заблуждение как грех. Но имеет ли силу этот христианский взгляд, когда речь идет об отношениях между человеком и человеком? И если здесь этот взгляд не имеет силы, если в отношениях между человеком и человеком всякое заблуждение есть неведение, то смею ли я тогда ради истины позволить кому-то меня убить, стать виновным в убийстве? Не слишком ли это жестокое наказание за неведение?
10. Христианство учит, что мир зол; как христианин я верю в это. Но не слишком ли высоко это учение для того, чтобы применять его к отношениям между человеком и человеком? Занятый моей излюбленной мыслью пожертвовать собой, я со всем усердием старался получше узнать людей. В итоге я убедился, что всякий человек добр, когда он один, или когда случается говорить с ним наедине. Но стоит только появиться «толпе», как тут же начинаются мерзости – о, так мерзко, как толпа, или, что еще ужаснее, как мерзкая в своей бессовестности толпа, никогда, никогда ни разу не поступал самый худший из тиранов. Но Христос не как единичный человек относился к другим, а сущностно относился ко всему человеческому роду.
Здесь может возникнуть сомнение, на кого, в таком случае, следует возлагать вину. Ведь кажется, будто «толпа», этот фантом, эта абстракция, может стать виновной в том, в чем никто из тех единичных людей, из которых состоит эта «толпа», не будет виновен. Но валить вину на «толпу» это так же смешно, как обвинять ветер. Так что у меня не получится решить мою проблему, возложив всю вину на «толпу» и считая невиновными единичных людей – так, что при таком понимании я – или: человек – мог бы сказать: это «толпа» согрешила против меня, а единичные люди – нет, они всего лишь заблуждались. И в отношении ко Христу это было вовсе не так; в согрешившей против Него толпе каждый человек согрешил против Него.
11. Или, быть может, на самом деле всякий раз, когда ради истины человеку действительно приходится идти на смерть от рук других людей, сама истина в этой ситуации оказывается диалектичной. Рассмотрением этого я теперь и займусь, и позвольте мне перво-наперво позаботиться о том, чтобы не болтать, все выворачивая задом наперед, не говорить о том, что было и прошло, но говорить о настоящем. Так вот, те, кто убивают или убьют его, следуют своему пониманию истины, и, значит, по-своему правы в том, что убивают его. Но если они правы в том, что убивают его, тогда это вовсе не будет убийством и они не будут виновны в этом, тогда никакая вина убийства не отяготит их совесть. С другой стороны, ведь и тот, кого они убивают, должен обладать истиной, раз предполагается, что он жертвует жизнью именно ради истины. Как тогда с этим быть? Ведь так сама истина становится чем-то вконец неопределенным, текучим, когда даже то, что убить невиновного – это убийство, не будет незыблемо верным на все времена, но будут существовать какие-то случаи, когда это будет не так, когда отнюдь не будет убийством намеренно и умышленно убить невиновного, – случаи, когда человек действительно умирает за истину, но при этом те, кто его убивают, не пребывают во лжи, но тоже руководствуются истиной.
И даже если бы это было так, моя проблема осталась бы той же самой: имею ли я право предать себя на смерть и быть убит ради истины, то есть имею ли я право, – если предположить, что совесть других не будет отягощена убийством, – полагать, будто я (что следует из такого предположения) столь далеко отстою от других людей в отношении истины, столь выше их, столь сильно их опережаю, что нас уже почти ничто не роднит? Ведь наше родство выражалось бы в том, что их совесть была бы отягощена убийством, тогда как при указанном предположении они выступают по отношению ко мне примерно как дети по отношению к взрослому.
12. Но даже если бы это было так, если бы человек мог погибнуть за истину от рук современников так, что они убили бы его только из-за своего неведения, и потому не имели бы в этом вины; тогда ведь он со своей стороны все равно неизбежно рассматривал бы это как убийство. Даже если, быть может, когда-то, когда их рассудит вечность, их неведение послужит им оправданием: он все равно неизбежно будет, понимая происходящее со своей стороны, рассматривать свою смерть как убийство. Но тем самым его ответственность все равно останется той же; ведь свою ответственность он несет по отношению к своему пониманию сути дела. Ему немногим способно помочь то, что они, в его понимании виновные в убийстве, возможно, изнутри своего понимания окажутся невиновны, несмотря на то, что фактически именно они убивают его. Отвечая за это, он ведь должен дать Богу отчет сообразно тому, как он это понимает, то есть должен нести ответственность за то, что позволил им стать виновными в том, что он сам понимает как убийство.
Более того, если их, становящихся виновными, должно сделать невиновными то, что они при всем своем желании не смогли его понять, то тем сильнее становится его ответственность за то, что он позволил им стать виновными в убийстве; здесь чуть ли не выходит так, будто разрешить эту коллизию могло бы только его самоубийство. Разве не чудовищной жестокостью было бы позволить простым людям стать виновными в убийстве только из-за того, что они не в состоянии были бы тебя понять, и потому даже думали бы, что, убивая тебя, они творят правду?
Но что, если на самом деле они не желали его понимать? Да, ведь на это я уже ответил себе: смеет ли человек чувствовать себя столь чистым по сравнению с другими людьми, чтобы называть их грешными по сравнению с собой, вместо того, чтобы признавать себя таким же, как они, грешником пред Богом? Но если он не смеет так поступать, тогда он тем более не смеет ради истины позволить, чтобы они стали его убийцами.
Так смеет ли человек предать себя на смерть и быть убит ради истины?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.