Текст книги "История общественной мысли в России"
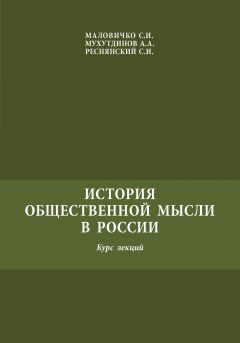
Автор книги: Сергей Реснянский
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Все дело в том, что эти тексты, в том числе и Сказание о Мамаевом побоище, были включены в «Синопсис» начиная с его третьего издания, то есть в 1680 г. Значительная вставка была взята не из «Хроники» Сафоновича и, кроме того, имеется ее аналог – рукописный сборник из собрания М.П. Погодина, находящийся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге[204]204
Дмитриев Л.А. Книга о побоищи Мамая, царя татарского, от князя владимерского и московского Димитрия» // ТОДРЛ. Т. XXXIV. Л., 1979. С. 69–71.
[Закрыть]. В указанном сборнике есть все статьи, которые, начиная со Сказания о Мамаевом побоище, вошли в «Синопсис». Записи заканчиваются 1679 г., как и в разбираемом произведении (конечно, кроме первых двух изданий)[205]205
Синопсис. С. 204.
[Закрыть]. Статью о Мамаевом побоище Погодинского сборника Л.А. Дмитриев сличил с так называемой Распространенной редакцией этого Сказания и аналогичной статьей «Синопсиса». Исследователь пришел к выводу, что составитель третьего издания «Синопсиса» использовал два указанных источника и «на их основе составил свою компиляцию, в которой мы видим то соединение двух редакций – источников его сочинения, то переработку одной из них на основе текста другой, то (правда, очень редкие и незначительные) собственные пассажи». При этом он менял на церковнославянские некоторые западнорусские разговорные слова[206]206
См.: Дмитриев Л.А. Указ. соч. С. 71.
[Закрыть].
В заключающую часть «Синопсиса» включен ряд рассказов, охватывающих большой хронологический отрезок истории Киевщины с середины XIII в. до 1679 г. В основном это довольно сухое перечисление киевских князей и воевод, создание параллельной с московской киевской метрополии и «возвращение» Киева под руку московского царя. Последняя сноска сделана на сочинение Стрыйковского, и отмечено: «Лета от Рождества Христова 1577, бысть Воеводы Киевский православный Князь Константин Константинович Острозский»[207]207
См.: [Десницкий С.Е.] Детская Российская история, изданная в пользу обучающегося юношества. С. 5.
[Закрыть]. Описание последующих событий дается без указания источников. Автор этих текстов неизвестен, но текстологический анализ статьи о Мамаевом побоище Погодинского списка, проведенный Л.А. Дмитриевым, позволил ему предположить, что ее составителем был Феодосий Сафонович[208]208
См.: Милюков П. Главные течения русской исторической мысли / П. Милюков. СПб., 1913. С. 7–9.
[Закрыть]. Его труд, как было указано, явился одним из источников, каким пользовался редактор третьего издания «Синопсиса». Поэтому можно предположить, что этим редактором был близкий к игумену Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве Феодосию Сафоновичу архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель, решивший дополнить свое первоначальное сочинение. Но и статьи Погодинского сборника, и текст «Синопсиса» заканчиваются 1679 г., когда Сафоновича уже не было в живых.
Значит, следующие за статьей о Мамаевом побоище материалы были составлены иным лицом. В данном случае имеется место для интересной исследовательской деятельности.
Иной методологический прием написания дополнений, а также их стилистическая мозаичность (в ряде мест идет официально-деловой стиль) можно оправдать спешкой, а отсюда и небрежностью их подготовки. Но думается, это не совсем так. Все сюжеты «Синопсиса», рассказывающие о событиях, произошедших после XIII в., имеют второстепенное значение относительно основного замысла книги. Этот замысел указан на титульном листе сочинения – «краткое описание от различных летописцев, о начале Славенскаго народа». Вот первая задача, стоявшая перед автором «Синопсиса». Следующая задача, также вынесенная в заглавие, звучит: «о первых Киевских Князех, и о житии Святаго Благовернаго и Великаго Князя Владимира, всея России первейшаго Самодержца». И уже последняя задача автором обозначена: «о Его Наследниках (Владимира. – С.М.), даже до Благочестивейшаго Государя Царя и Великаго Князя Феодора Алексиевича, Самодержца Всероссийскаго».
Репрезентацию прошлого Гизель провел, решая именно первую задачу. Не случайно в заглавии она представлена более крупным шрифтом. Если говорить об эпистемологическом аспекте проблемы, проблемы соотношения текста «Синопсиса» с исторической реальностью, то можно убедиться в том, что Гизель свою «реальность» даже не пытался защищать. Его рассказ о происхождении славян далек от «объективной» реальности прошлого не только для нашего восприятия, но и для авторского. Он не утверждал истинности, а рисовал только общий образ прошлого. Однако и в этом случае он чаще всего закрывал свой субъективный взгляд на вопросы прошлого аргументами к авторитетам, к древнерусским летописцам, польским и чешским хронистам и даже сталкивал друг с другом их мнения.
Материалы о древностях славян, которые как стереотипы подавались в источниках, то есть в сочинениях, в первую очередь западнославянских книжников, приводились автором «Синопсиса» как некая данность. Именно в этой части произведения мы находим много «мифов», но не следует забывать, что эта страница истории многих народов Центральной и Восточной Европы переписывалась и переписывается соответственно потребностям настоящего. Осознавал ли Гизель, что он подменяет «реальную» историю мифологизированной? Мы думаем, этот вопрос его мог совсем не интересовать, во всяком случае, при решении такой частной задачи, как написание текста «Синопсиса». Потому что в первой части сочинения, там, где описывалась судьба славянства, вплоть до первых древнерусских князей, нет «беспристрастной», трезвой истории. Эта история писалась киевским ученым, как и его западнославянскими и московскими коллегами, для выполнения определенной социальной функции, для прославления определенного этноса и оправдания сомнительного прошлого.
Мифологемы формировали склад ума и социальные устои (например, теория сарматизма у польской шляхты), поэтому имели неоценимое значение для просвещенных кругов населения, будучи явлением исторической культуры своего времени. Эта культура еще была под влиянием библейского сознания. Если обыденное сознание у такого видного представителя восточнославянского просвещения, как Гизель, было уже в немалой степени рациональным, то книжная традиция диктовала ему и его коллегам определенные условия, правила, по которым они должны были писать, и только в случае следования которым ученых и могли принимать в обществе как ученых. Только с помощью устоявшейся христианской книжной традиции вместе с ее мифологемами и мог в то время ученый изобразить образ славянского прошлого, включенный в мировую историю. Поэтому для него самого это был символ истории любимого им народа. И он таковым являлся только в контексте культуры его времени. Любой исторический нарратив всегда создавался и создается не для прошлого, а для своего настоящего, и только рефлексия о такой стороне исторического письма может ослабить зависимость исследователя от практического отношения к прошлому.
Попав в иной культурный контекст, гизелев символ (созданный целой плеядой чешских, польских, украинских и московских книжников) перестал выполнять свои функции. Одних представителей русской науки он раздражал своим архаизмом как С.Е. Десницкого во второй половине XVIII в.[209]209
См.: Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории: Курс лекций. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 44.
[Закрыть]; в конце XIX в. П.Н. Милюкова[210]210
См.: Милюков П. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913. С. 8–9.
[Закрыть], а сегодня Л.И. Новикову и И.Н. Сиземскую, подчеркивающих, что эта книга «испорченный пересказ» древних летописей[211]211
Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа: XII–XVII вв. М., 1973. С. 397–398; Данилевский И.Н. Исторические источники XI–XVII вв. // Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. М., 1998. С. 219.
[Закрыть]. Другие возносили и, что поразительно, продолжают его возносить (повторяя его положения), мы это выше уже увидели. Приходится констатировать, что, к сожалению, никто не попытался понять книгу. И первые, и вторые, не учитывая времени создания «Синопсиса», стали допускать различные интерпретации его сообщений. «Синопсис» винили и винят во многих грехах. Значит, беда этой книги состояла в том, за что совершенно нельзя винить ее автора. «Беда» этой книги заключалась в длительном переиздании, переиздании в том обществе, которое уже переросло «Синопсис», но продолжало его читать. Надо учесть и место, в котором настойчиво издавали сочинение Гизеля, – это императорская Академия наук.
Но «Синопсис» был совсем не плох в качестве учебного пособия. Он был прост для читательского восприятия. Структура книги вполне подходила для работы с ней на уроках и при подготовке домашних заданий. Текст не был перегружен знаниями и давал легко запоминающиеся примеры героической и трагичной истории восточнославянских народов.
Такой исторический нарратив, как «Синопсис», возник в той части ученой структуры Киева, которая, будучи рожденной украинским обществом, имела коммуникативные связи с западнославянскими коллегами, а также взаимодействовала, в силу политической ситуации, с московскими государственными структурами. Поскольку киевская книжность сумела инкорпорировать в свою среду и западноевропейскую ученость, и московскую историческую традицию, притом успешно развивая свою, постольку гизелева книга могла удовлетворить даже искушенные потребности читателя. Хотя в последующем книга была популярна, в ней нет ничего такого, что бы опережало книжную мысль своего времени. Густынская летопись и «Хроника» Сафоновича – более крупные исторические произведения, в ряде мест наукообразный анализ в них представлен более удачно, чем у Гизеля. Однако «Синопсис» затмил всех.
Вызванный к жизни определенными условиями той исторической реальности, которая сложилась в Украине в период ее вхождения в состав Московского государства, он попытался представить общую историю народов, вышедших из Киевской Руси. Гизель сумел, не нарушая традиций московской историографии, с ее собственными мифологемами, представить набор новых мифологических положений, которые были приняты в Москве и стали кирпичиками в основе строящегося нового русского государственного нарратива. Если сюда прибавить коммуникационные способности автора, который сумел понять читателя посредством предложенной структуры, метода изложения и языка, то феномен «Синопсиса» становится понятным. Все это было впервые в отечественной историографии, вот почему «дух “Синопсиса”» продолжает витать в ней до сих пор.
Можно перечислить множество погрешностей «Синопсиса», но эти погрешности, а также «басни», присутствующие в нем, стали таковыми лишь с того момента, когда историческая мысль преодолела дух «Синопсиса», а это преодоление началось только в XVIII в. Именно из-за того, что сочинение Гизеля отвечало потребностям времени, затмило собой всю предшествующую украинскую и русскую историческую литературу, оно стало значительной вехой в истории исторического знания. «Синопсис» превратился в основной учебник по отечественной истории на многие десятилетия.
Сегодня мы должны понимать, что отрицательное отношение Милюкова к практике использования польскими хронистами XV–XVI вв. сюжетов восточнославянской и древнерусской истории, которое он назвал порчей[212]212
Нора П. Между памятью и историей: Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999. С. 23.
[Закрыть], было вполне характерно для исторической науки конца XIX в., которая все оценивала с позиций идеологии сциентизма, резко отрицательно относившейся к «ненаучной» форме мышления. Нам представляется, что не следует за М.А. Алпатовым и И.Н. Данилевским повторять, что «историческая концепция И. Гизеля не выходит за рамки архаичных представлений, а его познания о древнем мире самые фантастические»[213]213
Медуьиевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. С. 24.
[Закрыть]. Подобные претензии выносит научный взгляд на историю. Они напоминают попытки борьбы, не расставшейся с позитивизмом профессиональной историографии, с так называемой ложной практикой историописания.
В ситуации парадигмального изменения в гуманитаристике, когда историки стали отмечать, что «вся история целиком вступает в свой историографический возраст», а поэтому историческая наука «по характеру своего объекта может и должна быть наукой о человеческом мышлении», практика борьбы с социально ориентированным историописанием становится неактуальной в силу понимания связи последнего с массовым сознанием, с которым пора научиться работать, а не бороться.
Историописание как процесс исследования прошлого уже с XVIII в. стало состоять из разных по целеполаганию типов исторического знания – научного и социально ориентированного (об этом в следующих лекциях). «Синопсис» не претендовал на научность (представления о ней лишь только начинали складываться), он явился попыткой конструирования исторической памяти восточнославянских народов, оказавшихся в новых политических и культурных реалиях второй половины XVII в. Составление этой книги и сам акт историописания явились социально ориентированной практикой конструирования прошлого. Если судить о том, что многие сюжеты «Синопсиса» в том или ином виде продолжили свою жизнь в отечественной исторической мысли XVIII–XX вв., то можно заключить, что попытка Гизеля оказалась успешной. Конструкции славянской и древнерусской истории, предложенные этой книгой, закрепились в исторической памяти украинцев, русских и белорусов, несмотря на борьбу, которую вела с ними научная историография. Следовательно, можно говорить о том, что жизнь сюжетов киевского «Синопсиса» продолжалась и продолжается не в научных исследованиях, а, в первую очередь, в сочинениях, авторы которых преследуют цель строительства национальной идентичности, влияющих на историческую память общества и реализующих практические задачи конструирования прошлого, а также контроль над национальной памятью.
Источники и литература
1. Беляев И. Разсказы из русской истории. Кн. 1. М., 1865.
2. Богданович И. Историческое изображение России. Ч. 1. СПб., 1777.
3. Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. Киев, 1964.
4. Дмитриевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). Курс лекций. М., 1998.
5. Дмитриевский И. О начале Владимира что на Клязьме, о пренесении в оной из Киева российской столицы и о бывших в оном великих князьях: собрано из древних летописцов и новых историй с приложением потребных изъяснений. В Санкт-Петербурге: при Императорской Академии наук, 1802. – 322 с.
6. Иваницкий И. Изследование о времени основания г. Пскова. Псков, 1856.
7. Елагин И.П. Опыт повествования о России. Кн. 1. М., 1803.
8. Забелин И. История города Москвы. М., 1905.
9. Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. Ч. 1.М., 1876.
10. Иваницкий И. Изследование о времени основания г. Пскова. Псков, 1856.
11. Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси. Вместо введения в Русскую историю. М., 1870.
12. Ломоносов М. Краткий Российский летописец с родословием. СПб., 1760.
13. Маловичко С.И. Рождение квалифицированного характера внутридисциплинарной коммуникации в отечественном историописании второй половины XVII – первой XIX вв. // Язык и текст в пространстве культуры: Сб. статей научн. – методич. семинара «TEXTUS». Вып. 9 / под ред. К.Э. Штайн. СПб.; Ставрополь, 2003.
14. Маловичко С.И. Отечественная историческая мысль XVIII в. о возникновении и социально-политической жизни древнерусского города (от киевского «Синопсиса» до «Нестора» А.Л. Шлёцера). Ставрополь, 2001.
15. Маловичко С.И. Дух «Синопсиса» в историческом учебном дискурсе // Ставропольский альманах общества интеллектуальной истории. Вып. 4 (специальный). М.; Ставрополь, 2003.
16. Мальгин Т. Зерцало, Российских государей изображающее. СПб., 1794.
17. Милюков П. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913.
18. Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI – начала XVIII века. СПб., 1996.
19. Пашков Б.Г. Русь – Россия – Российская империя. М., 1997.
20. Новосельцев А.П. Древнерусское государство // История Европы. Т. 2. М., 1992.
21. Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869.
22. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1993. С. 11 – 107.
23. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII века: Учеб, для 10 кл. обгцеобразоват. учреждений / под ред. А.Н. Сахарова. М.: Просвещение, 1995.
24. Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979.
25. Тредиаковский В.К. Три разсуждения о трех главнейших древностях Российских. СПб., 1773.
26. Толочко П.П. Спорные вопросы ранней истории Киевской Руси // Славяне и Русь в зарубежной историографии / отв. ред. П.П. Толочко. Киев, 1990.
27. Усшрялов Н.Г. Русская история. Ч. 1. СПб., 1837.
28. Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. СПб., 1992.
29. Хроника Матвея Стрыйковского // НБУ. I.P. Ф. VIII. № 106 / Лаз. 48. Л. 103–103 об.
30. Шлецер А.Л. Нестор. Ч. 2. СПб., 1816. С. 258.
Лекция № 5
М.В. Ломоносов и Г.Ф. Миллер: спор разных типов исторического знания в русской общественной мысли XVIII в.
План
1. Источниковедческие практики М.В. Ломоносова и Г.Ф. Миллера.
2. Конструирование текста в исторических работах М.В. Ло
моносова и Г.Ф. Миллера.
3. Критика трудов М.В. Ломоносова и Г.Ф. Миллера в европейской и российской науке и общественной мысли.
Ключевые слова: норманисты, антинорманисты, историописатель, социально ориентированная история, научно ориентированная история, политика памяти.
Внимание историков до сих пор привлекает спор, возникший между М.В. Ломоносовым и Г.Ф. Миллером, однако разговор о нем чаще всего переводится к традиционному, так называемому норманнскому вопросу, а авторов этих строк последний интересует менее всего из-за своей непродуктивности. Наша позиция относительно спора «норманистов» и «антинорманистов» близка известному мнению В.О. Ключевского, высказанному более столетия назад: тягу к «антинорманистской» теории можно рассматривать как «симптом общественной патологии»[214]214
См.: Ключевский В.О. Наброски по варяжскому вопросу // Ключевский В.О. Неопубликованные произведения / отв. ред. М.В. Нечкина. М., 1983. С. 113.
[Закрыть].
Историография довольно давно стала интересоваться не спором самим по себе (с наборами приводимых аргументов), а соответствием оппонентов требованиям дисциплинарного профессионализма, комплект которого подбирался в соответствии с тем или иным настоящим исторической науки. Поэтому С.М. Соловьев, подчеркивая, что Ломоносов «смотрит на нее [историю] только со стороны искусства», назвал его «отцом» литературного или риторического направления[215]215
См.: Соловьёв С.М. Писатели русской истории XVIII века // Соловьёв С.М. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. XVI. М., 1995. С. 221–237, 251–256.
[Закрыть]. П.Н. Милюков, заметив о Миллере как о самом русском из немецких историков, усмотрел в его работах «точку зрения профессиональной немецкой науки», а Ломоносова назвал представителем «патриотическо-панегирического направления»[216]216
Милюков П. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913. С. 87, 109.
[Закрыть]. С.Л. Пештич в 60-х гг. XX в. указал, что Миллер – хороший историк, но не способный «к широким обобщениям и глубокому анализу исторических событий». Несмотря на определенное отношение советской историографии к «норманистам» и «антинорманистам», Пештич вполне принципиально написал, что не следует «преувеличивать зрелость критического подхода Ломоносова к источникам отечественной истории»[217]217
Пештич С.Л. Русская историография XVIII в.: в 3 ч. Ч. 2. Л., 1965. С. 213, 205.
[Закрыть].
Более десяти лет назад Д.Н. Шанский, также обративший внимание на отношение спорящих сторон к историческим источникам, заметил, что в основе спора лежали различные источники по древнерусской истории[218]218
См.: Шанский Д.Н. Запальчивая полемика: Герард Фридрих Миллер, Готлиб Зигфрид Байер и Михаил Васильевич Ломоносов // Историки России. XVIII – начало XX века. М., 1996. С. 33–34.
[Закрыть]. Еще более определенно в передаче «Не так» на радиостанции «Эхо Москвы» высказался известный специалист по русской истории XVIII в. А.Б. Каменский, отметивший, что труды Ломоносова основаны в основном на сочинениях других авторов, и никаких данных в пользу того, что он «тщательно изучал источники русской истории, в частности летописи, у нас нет»[219]219
Каменский А. Михайло Ломоносов // Радиостанция «Эхо Москвы». 15. 10. 2005 [Электронный ресурс] // <http://www.echo.msk.ru/programs/ netak/39324/> (14.01.2009).
[Закрыть].
Конечно, исследование приемов и методов работы историков с историческими источниками может предоставить интересный путь изучения историографии XVIII в. Источниковое пространство дает каждому исследователю возможность на множественность принимаемых решений. Однако эта множественность лежит между полюсами: «более достоверные» и «менее достоверные» исторические источники. Поэтому выбор историка зависит уже от профессионализма, который во многом формируется целеполаганием. Таким образом, мы подходим к проблеме исторической науки и этапов ее профессионализации, которая в последние десятилетия вызывает дисциплинарную рефлексию. Предлагаются концепты: «додисциплинарное» и «дисциплинарное» или «допрофессиональное», «раннепрофессиональное» и «профессиональное» историческое знание или стили исторического мышления и т. д.
Несомненно, историческая наука может похвалиться перед другими дисциплинами своим давним вниманием к собственному прошлому, которое в институциональном виде получило название «историография». Последняя, как замечает украинский историк И.И. Колесник, традиционно была обращена к понятиям процессуальности и линейности, рассматривала формы развития, эволюции и прогресса исторической науки[220]220
См.: Колесник I.I. Iнтелектуальне спiвтовариство як засiб легiтимацii культурноi iсторii Украiни. XIX столття // Украiнский iсторичний журнал 2008. № 1. С 169.
[Закрыть]. С конца XX в. мы наблюдаем отклонение от интерналистского подхода к истории науки (рациональный, прагматически направленный на иерархизацию знания), следуя которому при освоении историографической проблематики трудно было обратиться к реальному полю исторической мысли, следуя давно предначертанным этапам, сменяющимся направлениям и школам. Интерналистский подход отводил описательной историографии привилегированную роль в системе исторического знания и был связан с общенаучной идеей «критического рационализма», получившего теоретическое обоснование в работах К. Поппера, где центральное место всех рассуждений о науке составляет «идея роста знания, или, иначе говоря, идея приближения к истине»[221]221
Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 380–391.
[Закрыть]. Такой подход к истории науки подверг критике Томас Кун, справедливо заметивший, что мы пока не можем делать выводы о том, «что такое научный прогресс, и, следовательно, не можем надеяться объяснить его»[222]222
Кун Т. Логика открытия или психология исследования? // Философия науки. Вып. 3. Проблемы анализа знания. М., 1997. С. 20–48.
[Закрыть]. Обращаясь к гуманитаристике, ученый подчеркивал, что если даже в точных науках «переходы к стадии зрелости редко бывают такими внезапными и такими явными», то в гуманитарной области, «где книга наряду со статьями или без них остается по-прежнему средством коммуникации между исследователями, пути профессионализации обрисовываются столь расплывчато, что любитель может льстить себя надеждой, будто он следит за прогрессом, читая подлинные сообщения ученых-исследователей»[223]223
Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. С. 47.
[Закрыть].
Несмотря на то что в последнем замечании Куна снова присутствует понятие «профессионализация», нам следует обратить внимание на иное сказанное им слово – «расплывчато». Дело в том, что оно отсылает к иной проблеме – признания бытования не только «научного» знания, но одновременного (со)существования разных форм знания. О «расплывчатости» или «размытости» границ между разными формами знания задумываются рефлектирующие об исторической эпистемологии историки. Так, Ребекка Коллинз признает, что нельзя представлять в виде непримиримых оппозиций понятия миф (не-наука)/научная история. Если «научная» интерпретация не установила окончательных критериев «правды» (их просто нет), то она неспособна окончательно освободить исторический дискурс от «скрытого» мифа. Миф не следует предлагать оппозицией истории, считает Коллинз, он предстает как «жидкий и временный участок», который тайно договаривается с репрезентацией истории для поддержания исторического дискурса в его трудностях, он сглаживает возникающие проблемы исторической реконструкции[224]224
См.: Collins, Rebecca. Concealing the Poverty of Traditional Historiography: Myth as Mystification in Historical Discourse 11 Rethinking History. 2003. Vol. 7. No. 3. P. 341–365.
[Закрыть].
Не являясь сторонниками употребления понятия «миф» даже в виде метафоры по отношению к какому-либо знанию (в том числе принадлежащего общественному сознанию), бытовавшему в Европе начиная с Нового времени, мы видим в
подходе Коллинз важный пример выхода исследования за дисциплинарные рамки «рациональной» историографии. Применение широкого надрационального подхода, соотносящего науку с современным ей обществом и сосредоточивающего внимание не только на феномене внутридисциплинарных, но и внедисциплинарных интеллектуальных практик, является ответом современной историографии на вызов времени. Поэтому нам представляется важным обратить внимание не на диахроническую линейность развития историографии, которая выстраивает периоды ее профессионализации, а на синхронные процессы, происходившие в практике историописания. Как по этому поводу писала О.М. Медушевская, историкам необходимо смещать акценты «исследований с традиционного диахронического подхода, рассматривавшего явления во времени, на синхроническое исследование системных связей исторического настоящего»[225]225
Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. С. 25.
[Закрыть].
Современную науку не могут удовлетворить исследовательские практики, не учитывающие компаративизм и контекстуализм. Личностный и глобальный аспекты в пространстве интеллектуальной истории, по мнению Л.П. Репиной, «имеют нечто существенно общее в своих теоретических основаниях – это, прежде всего, понимание социокультурного контекста интеллектуальной деятельности как культурно-исторической ситуации, задающей не только условия, но вызовы и проблемы, которые требуют своего разрешения»[226]226
Репина Л.П. От личностного до глобального: Еще раз о пространстве интеллектуальной истории // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 14. М.: КомКнига, 2005. С. 10.
[Закрыть]. Современную компаративную историографию сложно представить без практики широкого контекстуализма, учитывающей взаимосвязь окружающей культуры и текстов или, как эту исследовательскую формулу назвал Ллойд Крамер, взаимосвязь «внешнего» и «внутреннего»[227]227
См.: Kramer; Lloyd. Intellectual history and philosophy // Modern Intellectual History. 2004. Vol. 1. No. 1. P. 94–95.
[Закрыть]. Сама компаративная историография уже становится определенным жанром, обращающим внимание на историографическую типологию. Она помогает изучать теоретические вопросы историографии в пределах от общефилософского до частного и эмпирического. Возможности компаративной историографии следует использовать как в изучении дискурсивных приемов в рамках европейской историографической традиции, так и отдельных типов исторического знания в национальной историографии.
В споре Ломоносова с Миллером нужно обратить внимание не столько на зависимость историков от тех или иных исторических источников, сколько представить их источниковедческие практики одним из инструментов для понимания историографических операций, производимых историками. Следует выявить их отношение к истории и связь с той или иной практикой конструирования прошлого.
Итак, если обратить внимание на исторические работы М.В. Ломоносова и Г.Ф. Миллера, то можно заметить, что первый в качестве исторических источников использовал в основном позднесредневековые московские, украинские и польские сочинения, второй, в большей степени, древнерусские летописи и иностранные исторические сочинения. Рефлексируя о том или ином памятнике, Ломоносов полагался не на критерий возможной «достоверности», базирующийся на критике документа, а исходил из «полезности» его сообщений для конструирования положительного исторического образа России. Он мог заметить об источниковедческой процедуре, проведенной Г.Ф. Миллером: «…Господин Миллер сию летопись (Новгородский летописец XVII в. П.Н. Крекшина[228]228
См.: Лурье Я.С. История России в летописании и в восприятии Нового Времени // Лурье Я.С. Россия древняя и Россия новая. СПб.: Д. Буланин, 1997. С. 43.
[Закрыть]) за бабьи басни почитает…»[229]229
Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера «Происхождение имени и народа Российского» // Для пользы общества… М., 1990. С. 182.
[Закрыть]. Как оказывается, это был его ответ на замечание Миллера о памятнике, который использовал Ломоносов: «Новгородскому летописцу, в котором написано, будто Новгород построен во времена Моисеева и Израильской работы (там указан 3099 г. от сотворения мира), никто поверить не может…»[230]230
Миллер Г.Ф. Происхождение народа и имени Российского. СПб., 1749. С. 14, 52.
[Закрыть]
Следует отметить, что для Ломоносова было вполне очевидным сравнение современных исторических сочинений со средневековыми хрониками. О работе Миллера он заключил, что она не основательнее сочинений «европейских славных авторов». Ломоносов не старался отличить исторические источники от исторических сочинений, о чем свидетельствуют его замечания: «Христофор Целларий примечает», «Страбон говорит», «Несторово, Стриковского и других авторов свидетельство», «Киевского Синопсиса автор упоминает» и т. д., а самого Миллера он противопоставил летописцу Нестору, Стрыйковскому (польский хронист XVI в.) и киевскому «Синопсису» (1674 г.).
Иное мы наблюдаем в исследовательской практике Г.Ф. Миллера. Он делает попытку провести различие между средневековыми историческими источниками и исторической литературой, называя авторов первых или «летописателями», или «писателями средних времен», но часто и позднесредневековых хронистов, и своих современников – собратьев по цеху – именовал «историками», например: «Стриковский, славный польский историк»[231]231
Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М., 1996. С. 5, 16, 355; Его же. О народах, издревле в России обитавших. СПб., 1788. С. 32–36.
[Закрыть]. Надо заметить, что и исследователи, писавшие позднее Миллера, еще не всегда задавались вопросом о терминологическом значении типов историописательства. Так, князь М.М. Щербатов в одном предложении мог назвать «летописателем» и позднесредневекового хрониста, и историков XVIII в. «Российские летописатели, – написал он, – последуя, что касается до хронологии, польскому летописателю Стриковскому…»[232]232
Щербатов М.М. История Российская от древнейших времен. СПб., 1770. Т. 1.С. 116.
[Закрыть]
Миллер применял приемы критики источников, определяя их «достоверность» не просто при помощи рациональной процедуры «возможности произошедшего», но и исходя из определения времени возникновения источника, отдавая, например, предпочтение летописи Нестора, нежели более позднему сочинению московской поры, подчеркивая: «Новгородский летописец ошибочно называет Гостомысла Князем, так как Нестор пишет о нем как о старейшине»[233]233
Миллер Г.Ф. Происхождение народа и имени Российского. С. 52.
[Закрыть]. Применяемый Миллером подход к историческим источникам вполне вписывался в практику современной ему рационалистической историографии. Например, почти в эти же годы известный французский ученый Николай Фрере советовал больше доверять тем источникам, авторы которых были более близки ко времени описываемых исследователем событий[234]234
См.: Fréret, Nicolas. Sur l’origine & le mélange des anciennes Nations, & sur la manière d’en étudier l’histoire // Histoire de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mémoires de Littérature tirés des Registres de cette Académie, depuis l’année MDCCXLIV jusques et compris l’année MDCCXLVI. Vol. XVIII. Paris: de l’Imprimérie Royale, 1753. P. 51.
[Закрыть].
Как можно заметить, была разница в документальной фазе историографических операций спорящих сторон. В их объяснительных стратегиях также есть черты отличия. Ломоносов не всегда следил за логикой своего объяснения и не сверял между собой те произвольные изменения, которым подвергал сообщения исторических источников, например, заменяя летописных «старцев градских» на «старых городских начальников»[235]235
Ломоносов M. Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года // Ломоносов М.В. Для пользы общества… С. 275.
[Закрыть], т. е. на княжеских чиновников. Пытаясь отстоять один из элементов старой московской культуры от нападок рационалистической историографии, Ломоносов защищал и свою источниковую базу голословным патриотизмом, заявляя: «сего древнего о Славенске (III тыс. до н. э.) предания ничем опровергнуть нельзя», и, несмотря на то что больше никакие исторические источники этого не подтверждают, подчеркивал, что сообщение о Славенске и Русе «само собою стоять может, и самовольно опровергать его в предосуждение древности славенороссийского народа не должно»[236]236
Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера. С. 190–191.
[Закрыть].
Напротив, Миллер требовал точности в восстановлении исторических событий, стремился избегать всего того, что ни по каким историческим известиям доказано быть не может. Не создавая крупных обобщений, он обращал внимание на любое сообщение источников, подчинял свою работу описательности и подчеркивал: «Должность истории писателя требует, чтоб подлиннику своему в приведении всех… приключений верно последовать. Истина того, что в историях главнейшее есть, тем не затмевается, и здравое рассуждение у читателя вольности не отнимает»[237]237
Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства и всех произшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена. Кн. I. СПб., 1750. С. 121.
[Закрыть]. «Здравое рассуждение» позволяло Миллеру с рационалистических позиций объяснять некоторые места исторических источников, как например, летописное сообщение о «призвании варягов», которому он не стал полностью доверяться. Отказавшись от общепринятого взгляда, что варяжские князья были приглашены в Новгород на княжение, исследователь указал: «Но не безрассудно ли, что вольный народ, недавно еще пред тем угнетение от чужой власти чувствовавший, добровольно выбирает себе государя иностранца». Нет, братьев-варягов пригласили не властвовать, а для защиты от опасности, заключил историк[238]238
Миллер Г.Ф. О народах, издревле в России обитавших. СПб., 1788. С. 91, 102.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































