Текст книги "Её имена (сборник)"
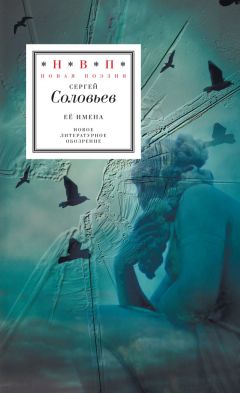
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
«Она легла в тебе и глядит со дна…»
Она легла в тебе и глядит со дна,
и как небо разводит тебя руками,
ты не видим ей, и не то чтоб она видна,
смуглой водою соткана, твёрже камня.
Не жалей ей, полуденный демон,
просто сверху ты здесь и сейчас
оказался. И это сплетённое тело
между вами двумя – не указ.
«Открыт? И чувствуешь ладонь, прижатую к тебе?…»
Открыт? И чувствуешь ладонь, прижатую к тебе?
Ладонь природы – к открытой ране в животе.
Пульсация как разум, и тепло. И очертаний
корочка. Ты чувствуешь? Она читает.
А взгляд отведен. Кружит ворон
зрачка, без ворона. Лишь взгляд, в котором
и рана дышит, и ладонь. И нити
тянутся за ним. Не те что мните вы…
«Волк – на горле, а олень …»
Волк – на горле, а олень —
на коленях: волколени
ходят-бродят в человеке
между жизнью и нежизнью,
то летают, то скользят.
И не то чтобы не больно
и не страшно, но, похоже,
их на танец пригласили,
они даже плодоносят,
а печальные – цветут.
Если б кто раздвинул ветви
и взглянул – почти виденье:
на груди он, как младенец,
у нее – глаза Марии,
затуманен влажный свет.
Но никто их не раздвинет —
ни видение, ни ветви,
ни запекшиеся губы,
ни колени, ни реальность
кем и чем бы ни была.
Разве что, в условном небе,
в мимолетном человеке,
в этой нежити-любови,
в этой душечке тоске ли,
знать бы разве в этой жизни,
знать бы что…
«У любви своя ниша памяти, своё царство…»
У любви своя ниша памяти, своё царство
теней и света, нам едва ли подвластное.
И пока мы друг в друге с тобой исчезаем,
они проступают – но где? – наши бывшие
женщины и мужчины. Вполкасания или ближе
губ? Незнакомые меж собой, что-то шепчут,
проступают как складки воздуха, а те двое,
у окна, обнялись, словно это не наша встреча,
а их, настоящая. Им видней, что с тобою,
что со мной. И, где были одним мы, лишь тени
припадают к пустой, еще теплой постели.
«А помнишь, я тело твое необитаемое открывал…»
А помнишь, я тело твое необитаемое открывал,
снаряжал экспедиции из ладоней и губ, шел и плыл,
и на бедре-береге цвета слоновой кости твоем умирал,
надо мной кружили все твои ни гугу, светлый пыл
мой взметая крыльями, словно пыль. В молодых мирах,
где еще не родилось солнце, лежало твое лицо. Я был,
казалось, когда оборачивался, но не отсюда – будущим
оборачиваясь. А настоящее не сводило своих концов,
как и мы этих рук, ног, времён… Туловище любви,
отделившись от нас, рвало себя на горящие корабли
и запускало по глади, лён собирало, играло в плен,
взгляд мой между Харибдой и Сциллой твоих колен
трепетал, как птица, защемлен… И сдвинулся створ,
и ослеп Одиссей, и сомкнулось над ним волшебство.
«Маленький хайдеггер вопрошания…»
Маленький хайдеггер вопрошания
распускается, тих и холост,
воздух в полях радеет,
небо в незримых прачках.
Когда пчела жалит —
утрачивает способность
к деторожденью,
будущее утрачивает,
остаются только корзиночки на ногах.
Пыльцу собирать с бытия-к-смерти.
Да и так ни на ком ведь лица
нет, и не было.
Светел легонький прах.
Лишь ветер
и корзиночки. И пыльца.
«Я любил тебя на границах сред…»
Я любил тебя на границах сред.
Как и ты меня – в междуречье.
Даже тело было такой границей, а не пределом.
Ничего от нас не осталось.
И слава богу. Всё что здесь оставляет след,
исподволь потом разворачивает за плечи
к себе лицом и ест, подцеловывая. Чтобы пела
каждая жилочка, чтоб без голоса ничего не осталось.
Ничего, что без голоса. Только свет,
а течет, как кровь, где любовь была превращеньем,
мной с тобой обернувшейся на прощанье
на границах сред, на границах сред…
«Одиссей возвратился, и не может ее узнать…»
Одиссей возвратился, и не может ее узнать.
Кто она, как сквозь воду в него глядящая?
Так похожая на жену, а верней, на мать,
только чью? Как сквозь воду, а проступает соль,
где вода отступает в ней от волос до пят.
Не узнать ее. И она его не узнаёт.
Он пространством и временем так объят,
что всё кончено для него. Кто стоит
рядом с ней – сын ли? Тот, кого провожала?
И всё то, что она распускала и пряла,
горит под ногами. Так они и стоят
эти трое, и солнце над морем висит,
и, похоже, уже никогда не зайдет.
«Происхождение человека – история воображенья…»
Происхождение человека – история воображенья.
(Как говорят в Украине: шалэна уява, скажэна.
Волшебные черевички, да, котя?)
Мы отличаемся от всего живого только этим,
верней, степенью этого дара.
(Грядущий пращур. И не ноги, а кущи.
Вечное возвращенье божественного кадавра.)
Странно, что столь очевидное, рядом лежащее,
было как бы в слепом пятне.
(Как женщина. Игра света на полотне.
А написана вся с голоса.)
Труд, социальные связи, защита «голости» —
расскажите об этом животным.
(– Вот я, Господи.
– Да неужели.)
«Язык и рука» – следствие воображения.
Как и искусство – его полигон.
(И тут они сходятся как молоко
с кровью.)
И свобода, и время – в нем. И огонь с любовью.
А уж сколько в этом даре божьего промысла,
и сколько червячной необходимости —
вопрос к весам.
(Что-то с кем-то боролось,
а потом один из них
вышел из колеса.
Полегчало.
Не пылит дорога.
Улыбнулась, а глаза случайны.)
Потанцуем немного?
«Она ходит из угла в угол, у окна замирает…»
Она ходит из угла в угол, у окна замирает,
чувствуя, как минуты скользят по ней
мухами по стеклу. Временем, говорит,
надкусывая яблоко, мы себя замарали…
Все, что есть я, говорит, – пред-взятое.
Девственность снится ей, снегири
на снегу. Ходит по комнате и стареет,
чувствуя, как время трогает ее повсюду,
льнет, срастается с ней, незаметно,
исподволь, а особенно от повторений
жестов, слов, и – чего там еще? Сосуды
проступающие на ногах, ручейки Леты,
она говорит, вниз, как бы вдаль глядя,
и, поднимая глаза к зеркалу: ты, время,
не существуешь – без я… Как пламя
без воздуха. Неужели же это тренье
(дует на отраженье: ложись, ложись),
этот трепет меж нами – жизнь?
«Чувство такое – как накроет, и не увернуться…»
Чувство такое – как накроет, и не увернуться.
Будто тебя изнасиловали. Тихо так, пусто,
ни дуновенья, нити подрагивают, не рвутся.
Безотчетное, беспричинное, и лица не видел.
А потом лети к ангелам, танцуй, как умеешь.
Вот радость-то. Может, сказать прямее?
Демон тебя имеет сзади, а бог спереди.
Вот и всё пожизненное милосердие.
«Здесь красота живет вниз головой…»
Здесь красота живет вниз головой
и цедит землю,
а к небу – вульвочкой цветет,
благоухает.
Сама себе и цаца, и изгой,
и дева юная, и семя,
и моисея избранный народ
рассеянный, и арабесковый мухаммед,
и будда в колесе воздушном,
и брахма дремлющий во рву некошеном,
и все они в ней видятся, как меньшее
в неизмеримо большем.
И мотыльки, обмолвки света божьего,
хмелеют на полях, сосут красу кромешную,
и как пыльцу несут ее благие вести,
и сретенье, и крест, и воскресенье…
Цветочки это всё, цветочки, —
поют они, – от жениха невесте,
отцов пустырников их женам непорочным…
И тьма луну катает в горних сенях,
как знахарка яйцо от порчи.
«Рыбы ели Соснору…»
Рыбы ели Соснору.
Длинные и слепые.
Обсасывали с исподу.
Как водоросли висели
на прутике позвоночника
внутренности.
Как рейтузы
или чулки на веревке.
Сепия.
Все было сепией —
воздух, соснора, рыбы, земля, вода,
похожая на солдатские скатки.
Или доведенный до состояния сепии
воздух (пигмент), вода (разбавлен).
И нужно было куда-то его нести,
взявшись за этот прутик
со спутанными буквами.
Но куда?
Не вспомнить уже.
Утро,
как декорации не разобранные.
Танки, поля, панночка-жизнь…
Там,
где-то в гражданскую
все еще боронят сепию хуторяне
под Богодуховым
на слонах.
Откуда ж они взялись
и куда их потом дели?
Ты не возьмешь меня за руку —
нет у нас этих рук.
С кем изменяет память?
Длинные и слепые.
Уголь. Окаменелости, отпечатки.
«Все очевидней: слово не хочет жить…»
Все очевидней: слово не хочет жить
с пишущим, дышит в сторону.
Вроде обоим есть еще чем дорожить,
но в близости не обманешь.
Вроде еще семья, вроде жена еще,
даже возлюбленная… В тебе,
как за соломинку утопающий,
речь хватается за немоту.
Но не обманешь, она не верит
ни в гибель с тобой уже, ни в спасенье.
Рядом она, в доме, по крайней мере.
Но это «рядом» невыносимей, чем врозь.
Хоть бы сталось куда отвести глаза,
если с ней живешь и не видишь.
Цветут наперсточники чувств
и лжесвидетели. В Опочку
уехать бы. Молчит, не хочет.
Как сослана в тебя без права переписки.
«Снился Алеша Парщиков, но не он – звездный хамелеон…»
Снился Алеша Парщиков, но не он – звездный хамелеон
мерно раскачивался вместе с космосом на рессорных лапах,
обмениваясь образчиками возможной среды обитания —
вдох на выдохе. Тьма под ним двигалась, как эскалатор,
в разные стороны, и где-то вверху, далеко, на выходе —
мушка светящаяся трепетала, он мог бы одним плевком
взять ее. Медлил язык, и глаза назначали свидания —
каждый свое, множились женщины сред и мужчины суббот,
сад не пойми чьих друзей, как зарница, по небу метался,
тазовой костью под ними обломок вращался, как колизей.
Где-то, совсем на краю выживания зренья и пенья комет,
видел себя он, Алеша, – живого – как слово —
которого нет.
«Вот один. В полутьме…»
Вот один. В полутьме:
нарушение равновесья
через оползни зренья,
когда тени от веток
скользят под ногой.
Где ж стоит это дерево? —
ни земли под ним нет,
ни источника света,
ни ветра.
Может, даже и нет его,
только тени колеблются.
Но откуда и в ком
это легкое сердцекруженье?
Почему всё плывет,
и так трудно идти?
И так зыбко,
так приблизительно всё,
не единственно.
И невесомо. И смертно.
Или это не тени, а строчки.
Аркадий.
А другой —
в чистом поле
без поля,
без края,
но с преданным псом:
взмах руки —
в упоении пес исчезает.
Но только куда,
если нет ни пути, ни имен
в той седьмой стороне?
И откуда
возвращается,
преображенный,
к ноге?
Если нету
ни поля, ни взмаха,
ни пса.
И не видно ни зги.
Только строчки.
Алеша.
«Дни токуют, как глухари …»
Дни токуют, как глухари —
где-то там, на деревьях жизни.
А сам лежишь, недвижим,
и пальцем пошевелить не можешь.
Но всё слышишь, дышишь,
только веки тяжелые.
Так бывает, когда жалит змея,
но не всякая, – вроде крайта:
где-то к исходу второго часа
начинает плавиться и искрить —
там, внутри, далеко под тобой,
как ночной город,
но огни не болят,
и следа от укуса нет,
да и не было никакой змеи.
Свет ли божий,
или близкие водят лучом по зрачку?
Яд не трогает мозг.
Ужаленные обездвижены,
но в сознании,
они слышат тебя,
просто отнято всё, чем могли
дать понять, что они еще здесь.
Их хоронят, сжигают – живых.
Или вот, как бывает с природой:
стоит и смотрит в пустоту
остекленевшим взглядом,
и шевельнуть не может
ни светом, ни тобой.
И с ней судьба твоя, спиной
к тебе, перебирает рифмы,
как воду пожилая нимфа.
Короткая, но дивная пора беззвучно
свернулась кольцами. И птица,
как Тютчев, отвлекает от гнезда —
которого и не было – молчаньем.
«Радуйся, суслик, радуйся, Иов, радуйся, полевая кашка…»
Радуйся, суслик, радуйся, Иов, радуйся, полевая кашка,
и ты, лунная дорожка позвоночника, и ты, полукровка —
жизнь, и ты, левиафан в голове моей, посудной лавке,
радуйся, мужское и женское, вас могло и не быть вовсе,
радуйся, ослик несотворенного и ты, икающая пустота,
радуйся, желтое чувство смерти, как на ветру колосья,
Богородица-Дева, радуйся, евангелие твоего живота,
радуйся, радость моя, что ж ты одна сидишь в темноте,
ни души в тебе.
«И запах осени, как в доме престарелых…»
И запах осени, как в доме престарелых
в какой-нибудь Швейцарии,
и чистенько и тихо, до утра
не гаснет коридорный свет, и мелом
начертанное облачко мерцанья,
как за стеклом дежурная сестра.
Река лежит, вся брошена, не спится,
глаза открыты, и песок в горсти
бесчувственно в ночи перебирает.
И у деревьев прожитые лица —
до жилочек, до каждой, до кости.
Душа припала к телу – как украли.
И память роется в углах и водит взглядом
по голым стенам. Кто здесь, покажись.
Одна душа. С сестрой. И запах прелый
почти неощутим. Прийти бы рады,
но не придет никто. И ложечка звенит о жизнь.
Как чай разносят в доме престарелых.
«Этот маленький город русыми косами…»
Этот маленький город русыми косами
лег на темную воду, а лицо стёсано
вместе с именем, весь у края России.
Двое здесь их: ворон из Абиссинии
и человек, которого звали Иммануил.
Ворон, ростом с ребенка, стоял, долбил
пупсика, он взвизгивал, ворон вздыхал,
череп Иммануила в гробнице своей лежал
на боку, смотрел на кости – вроде бы все.
Когда-то он на этих ногах ровно в семь
ходил на прогулку, и горожане свои часы
по нему сверяли, покачивался, как сын
чистого разума и нравственной невралгии.
Небо в этом городе жило лишь благими
намереньями, а не звездами или синью.
Чередовал вздохи с грудной икотою абиссинец,
Зоб его бирюзов, сам черен, а рог сломан,
землю сжимал в горсти, как я – слово.
Так мы с ним говорили, оба прильнув к сетке,
солнце висело над нами на нижней ветке.
Горькое говорили. Собирая последние вещи
взглядом. Мир минус небо женщин
строил Иммануил. Видимо, для острастки
время долбило пупсика брошенного пространства.
Ворон сквозь сетку просунул клюв и приоткрыл,
насколько ему позволяли прутья, будто был
я его отраженьем. Я и был. По ту сторону —
там, где в кости играет Иммануил, или в ворона —
день с бирюзовой шеей. То есть здесь, нигде,
в городе на краю, где страна оборвана,
только косы русые стелятся по воде.
«В Моби Дике гарпунщик по имени Квикег…»
В Моби Дике гарпунщик по имени Квикег,
смастерил себе гроб и держал его на корме,
чтобы отправиться в этом, волнами увитом,
челне к звездным архипелагам, а не на дне
как цветок распускаться в пучинных пчелах.
Но когда корабль в битве с белым китом
пошел ко дну, всплыл только гробик-челн
из черной вспенившейся воронки. Я о том,
что давно уже в нем плыву. Такое чувство.
Плыву, пишу на стенах свои трудодни и ночи,
точнее, пальцем вожу в пустоте. А тусклый
свет оттого что другого тут нет источника,
кроме собственных глаз. Тиха в разоре,
дрейфует память. Он существует еще, наверно,
мир, хотя, чем дальше, тем иллюзорней.
Да, память, болезнь морская, ты ей не мера.
Пиши. Ни звука, ни отраженья. Как будто мелом
твой челн очерчен. И мутный морок. Чистый лист
плывет, как парус белый,
и топит все, что ищет смысл.
Я помню женщину… Она была. У слова
должна быть женщина, как боженька. На слух
чтоб речь стремилась выйти из разлома
теней ли, жизни, языка… Была у губ. Добру и злу —
свобода что? Они ее не знают. Морось, буквы
метет над гладью. Домовинку на волнах,
как колыбель, качает. Ночь, и нет голубки
со слухом певчим, веточкой в губах.
«Мне ли знать, что случилось?…»
Мне ли знать, что случилось?
Был у нас дом, сын, мы.
Отойди от меня, сказала,
и обернулась. Глаза другие.
Губы – те, что теплей и мягче
детства, вдруг стемнели и стали тверже
дома, мира в окне, руки…
Отойди,
тебе сын через годы скажет,
не с тобой мое сердце.
Возвращается все,
только нет тех, к кому.
Отойди
все, что жизнью звалось. Мы едва
это счастье затеплили.
У тебя – чудеса, у меня – ремесло,
между нами был сад, и в подоле твоем
пахли яблоки. Мальчик будет, я думал.
Мой сын. Чей бы ни был. Не помню,
как тебя подменили.
Ты – его, он… Не помню,
как вошел в тебя свет,
от которого все так стемнело,
и ответила кроткой улыбкой – кому?
Мне не сладить с умом.
Если грех на тебе,
было б легче, наверно.
Я с тобой
или с жизнью, что ты отняла?
За покровом,
который холмом обернется,
что ты пела?
Не ты?
Не из смерти его?
Он поверил тебе,
и стемнело,
только лица светились волхвов.
«Войди в меня, как облако в облако…»
Войди в меня, как облако в облако,
обволакивая, оплакивая сквозь солнце,
возьми, как цветок чудище,
любящие не спасутся.
То что меж нами – не имет имени.
Камни теплеют, поют пустоты.
Думаешь, губы? Возьми, возьми меня!
Светел бог, потому и в глазах темно так.
«Зелёный, зелёный, здравствуй, здравствуй…»
Зелёный, зелёный, здравствуй, здравствуй,
древесный, травный живи-умирай,
станешь ты желтым, станешь красным,
вот и весь облетевший рай.
Зелёный, зелёный, я тебя вижу, вижу,
я – твои живи-умирай глаза,
я – твои человечьи книжные
леса, леса, леса…
Ты, наверно, даже не знаешь, знаешь
о зеленом своем вдвоем-вдвоем,
только взгляд облетающий ощущаешь,
как и я на себе: умирай-живи.
«Иногда в процессе письма…»
Иногда в процессе письма
бывает такое чувство,
что вот сейчас
между словами
что-то произойдет, случится —
то, чего не было
и, наверное, быть не может
на пути слов.
(Но что значит «не было»,
что мы знаем об этом?)
Вот кажется,
ты подходишь к каким-то пределам
близости
между жизнью и речью,
и в просвете
вдруг начинает мерещится
выход…
Куда?
Что-то сдвинулось
и вот-вот разрешится…
Но нет, заволакивает.
И просвет, и слова,
и тебя
с твоей жизнью.
«Лицо у нее отвернуто…»
Лицо у нее отвернуто,
а руки-ноги, как молдаване —
вино и песни.
Пахнет спермой и ворванью.
Красота растлевает,
да, мальчик с головою песьей?
Разве ты не помнишь ее-себя,
как сновали вы из живого в мертвое:
сезам – сезам,
и она вобрала всего тебя,
а потом лежал в ней, к стене отвернут,
а она, как посуху, по слезам.
Неприкаянная благодать,
небеса из конца в конец,
отрешенные шарики и сосуды.
Уходящее, со спины – отец,
обернется – мать.
Но едва против света уже разглядишь отсюда.
«Слоны во мне возвращаются на могилы…»
Слоны во мне возвращаются на могилы,
водят хоботом над травой, с умершими
разговаривают, переглядываются, но
не прямо, а через землю. Дни идут
позади смерти, как солдаты смерша.
Хава нагила, не оборачивайся, сынок.
В мужском и женском. Кто у тебя в роду
третий? Если женщины как туман лежат
и рассеиваются на восходе. Если речь
трогает твое лицо, руки, как слепой
на опознании. Если зеркало от ножа
отраженье не отличает. Если ключ
любовь проглотила и говорит: любой,
кто возьмет меня – человек. А сама
как дверь витает, поет в чистом поле:
я ли, я ли… Если мир – только асана
божья – выдохнет, перейдет к другой ли.
А пока отдыхают ангелы, на детей играют
в подкидную войну краплеными картами.
Ангел-родина, ангел-народ, ангел-деньги.
Люди отправятся в рай, говорит Коран,
на спинах животных. Например, леопард
или королевская кобра. Брезгливо наденут
их на спину и внесут. Не оборачивайся,
сынок. Они возвращаются. Туч румянец.
Водят иноискателем. И вдали – пятнистый,
как Декарт, смотрит с дерева: цена-качество.
А другая, наглотавшаяся соплеменниц,
у лица раскачивается в капюшоне, свистом
считывая тоненьким и раздвоенным твой ID:
мыслишь – стало быть, отойди.
«Когда я, говорит муха, была, прости господи, Петраркой…»
Когда я, говорит муха, была, прости господи, Петраркой…
Даже вспоминать не хочу, страшный сон.
Казалось бы, две-три помарки —
и всё, крути колесо.
Но где оно, а где белочка «я», не говоря уж про «ты».
А еще бывает, в этом божьем угаре
полюбишь кого живого, обнимешь его, как дым,
и глядишь – разматывается за плечом весь этот бестиарий.
А ты говоришь: «возлюбленный мой», «любимая». И комарик
Шекспир перелетает с одного на другого.
Что-то меня от тебя кумарит,
геном говорит геному.
Сколько крови, сестра, ты выудила стеклянной палочкой?
Подожми губы, дави на пальчик. Один он и ты одна.
Когда я был панночкой, говорит одуванчик,
был у меня Хома.
Откуда ж ноги растут у воздуха, что там зияет в жизни,
что так открыто чувству и неподвластно мысли?
Лепестки мои, говорит роза, выстраданы —
из людей не рожденных, выскобленных.
Когда мы были ладонями,
говорят кроты, мы стояли у слепого оконца,
как в молитве, а потом всё рыли ходы, ходы… Доня,
душа моя, не вглядывайся в меня, это просто заходит солнце.
«Еще этот легкий вкус молока оставался и кориандра…»
Еще этот легкий вкус молока оставался и кориандра
что ли, особенно там, у затуманенного сосца…
Говорили, что любила она разные варианты
превращений между мужским и женским. Но лица
не помнил уже никто. А может быть, и не видел.
Что-то она хотела, но вроде бросила на полдороге,
между внешним и внутренним в ней какой-то инбридинг
происходил, и родилась душа. И ходила, как в караоке,
в тела. Говорили, кто-то помнил ее ладонь, и что-то
она делала с нами внизу живота, то есть с ними…
Говорили в зеленом, любили на белом – всем народом
богоизбранных чувств, и казнимы, как память, на синем.
«Вода колеблется, наводчик…»
Вода колеблется, наводчик
духа играет маревом, как зеркальцем.
Ни дьявол не указ мне, ни Христос.
Я пропаду поодиночке,
не взявшись за руки,
как пропадал не раз.
Ничто нам, кроме смерти, не обещано,
но тем и дороги
черты пропавших без вести
всех наших «я» —
поодиночке,
в нас.
В той местности,
которая с тобой, как женщина,
чуть светится во тьме,
колеблется,
и дух танцует на воде.
«Не торопиться, нетерпенье – роскошь…»
Не торопиться, нетерпенье – роскошь,
я понемногу сбавлю скорость,
где мир как в жизнь впадает в кому.
И там-то всё и происходит.
Как на искусственном дыханьи
того, что с богом, и не может,
как при естественном отборе
любви, которой страшно выжить,
как без вести пропавший в слове,
как слово в даре созерцанья,
я позабыл, что я хотел… Я сбавил
и это. Вот и происходит.
«Едино всё и так пребудет…»
Едино всё и так пребудет.
И облако, и сын, и лес.
Христос повесился в Иуде,
Иуда во Христе воскрес.
В Иерусалиме ли, в Тамани,
распалась связь иль стая птиц,
белеет парус ли в тумане,
иль просто мальчик и отец,
и тайной теплою окутан,
как Магдалиной, тает след,
и свет исходит не оттуда,
откуда свет
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































