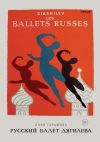Текст книги "Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда"

Автор книги: Шенг Схейен
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
X
Провал «Сильвии»
1900–1902
Первое серьезное задание, которое получил Дягилев, был выпуск нового ежегодника императорских театров. Такие ежегодники представляли собой дорогие престижные издания, в которых дирекция поясняла свой художественный курс и представляла публике музыкантов, актеров и артистов балета. В состав императорских театров входили два крупных оперных театра в Петербурге и Москве – Мариинский и Большой, ряд ведущих драматических театров в обеих столицах, а также все игравшие на этих сценах труппы. Иными словами, бюрократический монстр вместо компактной творческой организации. Дягилеву платили сдельно – за каждый заказ. Его гонорар за ежегодник составил 2400 рублей.
Волконский пригласил Дягилева, не только признавая его творческие и организаторские способности, но и потому, что Дягилев мог привести за собой художников, которые внесли бы свежий творческий импульс в эту консервативную организацию. И Дягилев оправдал надежды – по крайней мере, вначале.
Два проекта, которые он взял на себя, – выпуск журнала о театре и организация гастролей выдающегося немецкого дирижера Феликса Моттля, – успехом не увенчались из-за чрезмерной напористости Дягилева и сопротивления внутри организации. Эти первые неудачи напомнили Дягилеву, что надо считаться не только с самим собой. Но, несмотря на все это, ежегодник императорских театров, увидевший свет в марте 1900 года, представлял собой яркий образец дягилевского подхода. Издание было невероятно роскошным, с замечательными репродукциями полотен Репина, портретных рисунков Серова, Бакста, Браза, с виньетками Сомова и все того же Бакста. Бенуа подготовил статью для ежегодника, Бакст, как и в журнале «Мир искусства», отвечал за печать и оформление обложки, за виньетки и выбор типографии. Качество бумаги, работа типографов и переплетчиков были выше всяких похвал – ничего общего с предыдущими выпусками. Данное издание из двух отдельных томов до сих пор считается вехой в истории российского книгопечатания. Как писал Волконский: «Первый номер дягилевского “Ежегодника” – это эра в русском книжном деле». И далее: «…все, что дало прекрасного искусство книги в России за последние двадцать лет перед революцией, – всё это вышло из того источника, который открыл Дягилев своим “Ежегодником”»1. По свидетельству Бенуа, успех ежегодника «не только укрепил его [Дягилева] положение в дирекции и среди сослуживцев, но и получил одобрение самого государя […]. Экземпляр книги в особо роскошном переплете произвел среди сидевших в царской ложе настоящую сенсацию. Николай II перелистывал всю книгу страницу за страницей, то и дело выражая свое удовольствие»2.
Примерно тогда, когда Дягилев впервые стал знаменитостью в российском бомонде (что, конечно, льстило его самолюбию), внезапно новая страсть повела его в отнюдь не блестящие кулуары петербургских архивов и дворцовых хранилищ. Здесь он изо дня в день вел поиск сведений и полотен полузабытых русских художников XVIII века (преимущественно Левицкого, Боровиковского и Шибанова). Интерес к XVIII веку, который в понимании Дягилева и его окружения продолжался с начала петровских реформ до похода Наполеона в Россию, был весьма характерной, но не получившей достаточного внимания чертой мирискусников. Разумеется, XVIII век с его международной ориентацией и вниманием к форме был созвучен взглядам членов кружка, столь отличным от кредо передвижников, делавших акцент на содержании и морали и ратовавших за национальную изоляцию. Но интерес к художникам XVIII века представлял собой еще и ностальгию по эпохе, когда искусство составляло неотъемлемую часть культуры элиты, а Россия входила в Европу, оставаясь на ее периферии. Идеализация Дягилевым XVIII века парадоксальным образом выражала, с одной стороны, его стремление стимулировать становление национального самосознания, а с другой – желание, чтобы Россия вновь вошла на новом этапе в многоликую элитарную европейскую культуру.
В кругу мирискусников в первую очередь Сомов и Бенуа видели в XVIII веке источник вдохновения и отправную точку для собственного творчества и искусствоведческих исследований. Их пример натолкнул Дягилева на идею поисков забытых достижений русского искусства XVIII века. Однако к 1900 году Дягилев превзошел самого Бенуа в понимании живописи этого минувшего века. У него созрела мысль написать серию монографий о крупнейших портретистах, и начать он решил с придворного художника Екатерины II Дмитрия Левицкого. Работая над ежегодником императорских театров, он одновременно изучал Левицкого, рыская в столичных архивах и объезжая поместья потомственных дворян, надеясь найти неизвестные работы старинного мастера.
Всякий, кто осознает всю сложность и многообразие деятельности Дягилева, без труда поймет, почему он всегда проявлял железную волю и диктаторские наклонности для достижения своих целей. Как бы иначе он мог иметь дело со столькими организациями, реализовывать неслыханные проекты, ставить перед собой все новые и новые задачи, пробовать себя в областях, где требуется не только воля, но также финансовая сметка и интеллект? Однако в своем беспредельном желании покорения новых вершин он наживал все больше врагов. В петербургском высшем свете он был похож на слона в посудной лавке – своим невниманием к отдельным личностям. За ним тянулся длинный след растоптанных амбиций и уязвленных самолюбий, но он этого не замечал.
В театральном мире у Дягилева было несколько влиятельных покровителей: великий князь Сергей Михайлович, двоюродный брат царя, интересующийся театром, а также балерина Матильда Кшесинская, пользовавшаяся большим влиянием, поскольку раньше она была любовницей царя. Дягилев надеялся на то, что покровительство этих лиц обеспечит ему победу в любой битве, сколько бы врагов против него ни ополчилось. Управляющий московской конторой императорских театров Владимир Теляковский пока оставался нейтральным наблюдателем. Сухие записи из дневника Теляковского представляют собой важнейший источник сведений о том, как складывалась судьба Дягилева в российском театре.
Ближе к концу 1899 года у Дягилева возникла дерзкая мысль поставить многоактный балет Делиба «Сильвия» на либретто, написанное Леоном Бакстом при участии Бенуа, Серова и Нувеля. Бенуа с юных лет был неравнодушен к музыке этого французского композитора, называя его «одним из моих двух божеств»3(вторым его божеством был Э. Т. А. Гофман). Но возможно, еще более весомым аргументом для Дягилева было то, что обожаемый всеми мирискусниками Петр Ильич Чайковский видел в балетах Делиба эталон балетной музыки и считал балет «Сильвия», никогда не исполнявшийся в России, его особенным шедевром. Скорее всего, Дягилев знал и об этом4.
Он поделился своей идеей с Волконским и в начале января получил от него согласие и все полномочия на постановку. Уже на следующий день после разговора с Волконским друзья собрались для подробного обсуждения планов на квартире у Дягилева, вместе с хореографами Николаем и Сергеем Легатами. Дягилев с Нувелем играли для братьев Легат на фортепиано в четыре руки музыку из балета, Бенуа комментировал каждую сцену5.
Сегодня никого не удивляет, что Дягилев, впервые взявшись за театральную постановку, остановился не на опере, а на балете, но в то время такой выбор был не столь очевиден. До 1900 года Дягилев видел мало балетов и редко выражал интерес к артистическому жанру, который многие, в том числе в России, рассматривали как достаточно фривольный по сравнению с другими формами музыкального театра. Но среди его друзей был один убежденный и последовательный пропагандист балета – Вальтер Нувель. Убеждение Нувеля в том, что балет в обновленной форме может стать носителем самых высоких современных художественных идеалов, повлияло на понятия о балете во всем кружке. Уже в 1897 году Нувель писал Сомову:
«Балету предстоит, по-моему, огромная будущность, но, разумеется, не в том виде, в котором он существует теперь. Наши декадентские, эстетические и чувственные потребности не могут удовлетвориться идеалами пластичности и красоты движений, существовавшими 30 лет тому назад. Надо дать балету окраску современности, сделать его выразителем наших изнеженных, утонченных, болезненных чувств, ощущений и чаяний. Надо сделать его чувственным par excellence,[110]110
По преимуществу (фр.).
[Закрыть] но чувственным эстетически и, если хочешь, даже символически. То не ясное, невыразимое, неуловимое, что пытается выразить теперешняя литература, подчиняясь кричащим потребностям современного духа, должно найти и найдет, по всей вероятности, свое осуществление в балете…»6
Какими бы скромными ни казались заслуги «маленького и бесталанного Нувеля»7, как называла его княгиня Тенишева, он сыграл решающую роль в формировании культа балета в дягилевском кружке и тем самым способствовал развитию балетного искусства во всем мире. В разгоревшемся костре интереса к балету он был не пламенем, а искрой.
До конца века Дягилев лишь посмеивался над увлечением Нувеля. «Валичка несносен со своим балетом», – писал он.[111]111
Дягилев – Бенуа. Письмо от 29 октября 1896 г. Цит. по: Зильберштейн И. С., Самков В. А. Сергей Дягилев и русское искусство. Т. 2. С.18. Несмотря на утверждение Бенуа в мемуарах о том, что он был горячим поклонником балета уже в середине 90-х, данная фраза Дягилева убеждает в том, что, посмеиваясь над балетоманией Нувеля, он берет Бенуа в единомышленники. В опубликованной переписке Бенуа нет ничего похожего на объяснение в любви к балету, что мы видим в письме Нувеля Сомову. Поэтому обоснованным представляется предположение, что за интересом к балету как к виду искусства в кругу мирискусников стоял все-таки не Бенуа, а Нувель.
[Закрыть] Почему Дягилев в 1900 году вдруг решил направить свои силы на постановку балета, не совсем понятно. Возможно, потому, что балетную постановку осуществить было дешевле и проще. Еще одна причина – это то, что балетная культура в России, по мнению Дягилева, пошла на спад, в то время как опера, благодаря передовым в художественном отношении спектаклям театра Мамонтова, переживала пору нового расцвета. Дальнейшие события показали, что Дягилев готов был взяться за постановку, только если бы ему предоставили полную свободу действий, а учитывая все сложности, связанные с постановкой оперы, этого никто не мог гарантировать. Возможно, сыграло роль и увлечение балетом Николая II, а Дягилев на многое готов был ради расположения царя.
К январю 1901 года работа друзей над «Сильвией» продолжалась уже несколько месяцев, премьера была назначена на следующий сезон. Волконский обещал, что Дягилев будет главным постановщиком, что, впрочем, сразу привело к протестам внутри организации. Владимир Теляковский, управляющий конторой московских театров, пишет в своем дневнике о недовольстве, которым встретили приход Дягилева в дирекцию императорских театров: когда Волконский во внутреннем бюллетене императорских театров обмолвился о том, что постановка «Сильвии» поручена Дягилеву, поползли слухи, что «некоторые чиновники обещали не слушать Дягилева»8. Самым серьезным противником Дягилева был живописец и театральный художник Владимир Поленов, один из консервативных передвижников. Теляковский предложил вначале переговорить с Поленовым и прочими недовольными, прежде чем официально объявлять о назначении Дягилева, и Волконский прислушался к этому совету.
Все эти разговоры навели Волконского на разные другие мысли. Принимая во внимание то, что Дягилев не пользуется популярностью в дирекции, он решил не помещать новости о назначении Дягилева в официальном бюллетене. Со стороны дело выглядело так, что Дягилеву поручили заниматься балетом «Сильвия», но официальным руководителем он не назначен. Ответственным за постановку считался Волконский. Придумав такой компромисс, Волконский надеялся утихомирить страсти в собственной организации и одновременно удержать Дягилева.
Похоже, что 27 февраля Волконский поставил Дягилева об этом в известность. Дягилев пришел в ярость, считая, что, если его официально не назначат, он и его коллеги вряд ли смогут сделать спектакль таким, каким они его задумали. Дягилев чувствовал за собой силу и сразу пожаловался Сергею Михайловичу, который, в свою очередь, довел факты до сведения царя. Волконскому Дягилев заявил, что, если не будет официального объявления в бюллетене, он отказывается редактировать следующий выпуск ежегодника, работа над которым уже шла полным ходом. В тот же день Философов, Бенуа и Бакст написали письма Волконскому, в которых, выражая свою солидарность с Дягилевым, отказывались от дальнейшего сотрудничества с императорскими театрами. На этот раз Волконский столкнулся с восстанием в рядах нового пополнения художников, тех, которым он был обязан успехом нового ежегодника и с которыми связывал надежды на осуществление будущей художественной политики императорских театров. Дягилев прозрачно намекал Волконскому, что его поддерживают наиболее выдающиеся современные художники и поэтому князь должен выполнить его требования.
28 февраля Волконский показал полученные письма Теляковскому, и тот предложил переговорить с Дягилевым. Теляковский описывает в своем дневнике встречу с Дягилевым, последовавшую вскоре вслед за этим:
«К Дягилеву я приехал в 4 1/2 часа и застал там всю компанию; они мне сказали, что их решение непоколебимо – они уже достаточно изверились в обещании князя и теперь не согласны работать, иначе как он им даст векселя […] Проговорив 2 часа и исчерпав все свое красноречие, мне их убедить не удалось, и решили послать за князем. Сначала он ответил по телефону, что не может приехать, но когда Дягилев к нему ехать отказался, Волконский приехал. Его встретили упреками, что он все время их подводит, и стали ему перечислять все его промахи, упрекая Директора в слабости, бесхарактерности – говорили ему даже прямо в глаза, что он не может быть Директором при таком отношении к делу. Директор пожимал плечами, стоял на том, что в Журнал отдать нельзя, и все разговоры ни к чему путному не привели. Наконец в 7 1/2 часов я сказал, что больше оставаться не могу, ибо сегодня еду. Когда я с Директором сходил с лестницы, он мне сказал: “А все-таки какие это симпатичные люди, и жаль, что мне придется их потерять”. На это я сказал ему, что надо 100 раз раньше подумать. Администраторов найти легко, но художников здесь больше нет. На следующий день Теляковский в письме Волконскому еще раз повторил свою точку зрения насчет того, что лучше как-нибудь примириться с Дягилевым и чтобы он “ни в коем случае их бы не отпускал… так как художников больше в России нет”»9.
Слухи тем временем дошли до царя, обронившего за несколько дней до этого в разговоре с Теляковским фразу о том, что «ведь князя Волконского травили» (группа Поленова)10. Однако поведение Дягилева во время общей встречи у него дома Волконский счел поступком настолько резким, что «он считает невозможным дальнейшую с ним службу»11.
1 либо 2 марта Волконский дает Дягилеву пятидневный срок для подачи заявления об увольнении – Дягилев не реагирует. Поленов и его соратники 5 марта еще раз заявили, что, если Дягилева назначат официальным постановщиком «Сильвии», они сами подадут прошение об увольнении. 6 марта Волконский пишет царю официальное заявление об освобождении Дягилева12. В тот же самый день Волконский получил записку, в которой Дягилев сообщал ему о том, что еще раз изложил дело царю. Николай II будто бы сказал, что «Дягилеву ни к чему уходить»13, и он, Дягилев, поэтому не собирается подавать прошение об отставке. Но когда Волконский получил эту записку, объявление об освобождении Дягилева от должности было уже опубликовано в «Правительственном вестнике».
Прежде Дягилев, возможно, допускал возможность собственного поражения, но никак не мог предположить, каким горьким оно будет. Даже в эту минуту он верил, что победит благодаря поддержке царя, что Волконского уволят, что великий князь возьмет на себя руководство императорскими театрами и передаст ему, Дягилеву, художественное руководство. Но когда 7 марта, еще не вставая с постели, он раскрыл газету, то прочел в рубрике «Правительственные новости» следующие жестокие строки: «Чиновник особых поручений С. П. Дягилев увольняется без прошения и пенсии по третьему пункту». Эта оговорка «по третьему пункту» давалась крайне редко, лишь в случаях неподобающего поведения или коррупции и махинаций14 и означала, помимо всего прочего, запрет на государственную службу когда-либо в будущем15. По мнению Бенуа, это означало, что Дягилев был «публично ошельмован» и что «он поражен, растоптан, смешан с грязью»16.
Конкретные обстоятельства, которые привели к увольнению Дягилева в такой формулировке, остаются невыясненными. По мнению Теляковского, на этом якобы настаивал Волконский, чего не следует из официального поданного им рапорта об отставке.[112]112
В этом рапорте Волконский просто предлагает освободить Дягилева от занимаемой им должности редактора ежегодника. Приводится по: Зильберштейн И. С., Самков В. А. Сергей Дягилев и русское искусство. Т. 2. С. 169.
[Закрыть] По мнению Бенуа, это могло произойти из-за того, что делом об увольнении занимался некто Рыдзевский, временно исполнявший обязанности министра-генерала, а не сам министр барон Фредерикс. Увольнение по третьему пункту, вероятно, стало местью со стороны Рыдзевского, у которого, похоже, имелись с Дягилевым свои личные счеты. Подробности Бенуа не сообщает, в то время как в других источниках о Рыдзевском никаких упоминаний нет. Дягилев и сам чувствовал заговор в верхах, как это явствует из письма, отправленного им 10 марта Теляковскому. В этом же письме сквозит слабая надежда, что директор еще мог бы вернуть все на благоприятные рельсы:
«В сутолоке и страшной, невообразимой суете пишу Вам эти строки. […]
После нашего четырехчасового разговора не было сделано никаких попыток к выяснению этого дела, и для меня стало вполне очевидно, что вся эта “распря” была далеко не случайна, а вызвана давно обдуманным, вполне сознательным планом действий некоторой “невидимой руки”. Вы знаете, что при нынешнем положении дел играют роль самые разнообразные влияния, и в данный момент эти влияния были против меня. Это явно подтвердилось тем, что через два дня после нашего разговора я получил категоричное требование подать совершенно в отставку и еще через день новое подтверждение того же, но уже вполне официальное через контору за номером, где мне для подачи в отставку давалась одна неделя. Вы как человек служащий поймете, что значит в Петербурге в середине зимы чиновнику при директоре императорских театров, да еще столь “известному” декаденту получить из конторы приказание об немедленном удалении, да еще за №!! Все это, конечно, производит неимоверный скандал, и не знаю, в чью пользу! […]
Я знаю, что Вы вините меня в известной горячности, излишней молодости и вообще относитесь ко мне как к молодому башибузуку. Вы не правы, ибо все, что Вы видели – было последним актом двухлетней безмолвной драмы, которая может разрешиться или в трагедию или в настоящее дело. […] я сочувствую всем доводам, которые Вы приводили в защиту осторожности и тактичности, необходимых при общественной деятельности, но иногда этих похвальных качеств мало, иногда надо быть человеком, мужчиной, деятелем!! Мой почтительный привет Гурли Логиновне [Теляковской]. Жму Вашу руку.
С. Дягилев»17.
Если рассмотреть все факты в совокупности, то напрашивается вывод, что царь Николай II и вправду был на стороне Дягилева, но не имел контроля над своими чиновниками. Этот случай еще ярче доказывает, что все петербургское общество было пронизано кумовством, управление хромало, и поэтому инициативные, настроенные на перемены люди никак не могли рассчитывать на поддержку.
Реакция Дягилева на события в принципе оставалась, как всегда, стоической. Но в своих воспоминаниях Бенуа пишет, что Дягилев на самом деле был настолько уязвлен, что в обществе близких друзей не мог скрыть своей душевной раны.
«Он не клял судьбу, он не поносил виновников своего несчастья, он не требовал от нас какого-либо участия, он только просил с ним о случившемся не заговаривать. Все должно было идти своим обычным порядком, “как ни в чем не бывало”. Когда в редакцию “Мира искусства” приходили посторонние, он являлся к ним в приемную с тем же “сияющим” видом русского вельможи, какой у него выработался до виртуозности, но как только он оставался наедине с близкими, он как-то сразу оседал, он садился в угол дивана и пребывал в инертном состоянии часами, отвечая на вопросы с безнадежно рассеянным видом и почти не вступая в ту беседу, которая велась вокруг него.
В одиночестве с Димой он больше распоясывался, иногда даже плакал или отдавался бурным проявлениям гнева, но это проходило в тиши его спальни, в конце коридора, куда кроме Димы, лакея Василия и нянюшки никто не бывал допущен»18.
В этом году Дягилев с удвоенной энергией взялся за архивные поиски, связанные с его исследованием творчества Левицкого. Осенью 1901 года вышла монография Дягилева об этом художнике XVIII века. Как и ожидалось, качество печати и оформление книги отвечало в целом самым высоким требованиям, но главное ее достоинство представлял большой, подробно аннотированный перечень работ Левицкого, составленный Дягилевым. Ему удалось не только найти и атрибутировать несколько работ художника, считавшихся утерянными, но также определить авторство Левицкого в отношении ряда работ, приписывавшихся другим художникам. Выход этой книги ознаменовал собой вновь пробудившийся интерес к полузабытой живописи XVIII века, которая, выражаясь словами самого Дягилева, имела «важнейший и блестящий период ее процветания, обильный поразительными талантами, очень быстро возникший после слабых попыток Петровских учеников и так же быстро обрывающийся при расцвете шумного псевдоклассицизма в начале XIX века»19. Книгу Дягилева положительно восприняли в научных кругах. 23 октября он послал мачехе телеграмму о том, что получил за «Левицкого» почетную Уваровскую премию20. Это была главная премия в сфере гуманитарных наук, которая за шесть лет ни разу не присуждалась. Несмотря на все неудачи года, это был, похоже, очень важный момент в жизни Дягилева, постоянно мучимого комплексами из-за того, что интеллектуалы словно не воспринимали его всерьез.
В этом смысле присуждение премии пришлось очень кстати. Незадолго до этого дягилевские комплексы из-за недостатка признания его в интеллектуальной среде получили новый импульс. Дягилева не пригласили стать членом религиозно-философского общества «Новый путь», основанного в ноябре 1901 года Мережковским, Гиппиус и Дмитрием Философовым. Дягилев был небезразличен к религиозной моде (в начале XX века Россия переживала очередную волну интереса к разного рода религиозным и духовным движениям, среди которых общество Мережковского и Философова представляло собой достаточно благонамеренную, отнюдь не радикальную организацию). Он болезненно отнесся к тому, что его проигнорировали21.
Возможно, Дягилева не пригласили в общество, зная его решительный лидерский характер, но куда более вероятно, что Мережковский и Гиппиус просто решили вбить клин между Дягилевым и Философовым. Как иронично заметил о Гиппиус Нувель (сам-то он ходил на заседания общества): «…она искала не Бога, а Философова, потому что он ей нравился». Нувель говорил, что «если бы Гиппиус не была влюблена в Философова, он растерял бы весь интерес и к ней, и к ее делу»22. Последнее, конечно, неверно, поскольку Философов уже много лет серьезно интересовался различными религиозными вопросами. Впрочем, это высказывание говорит о том, что, похоже, всем было известно об увлечении Гиппиус, хотя сам Дмитрий, в первую очередь, интересовался Мережковским. Но Дягилев словно не хотел ничего замечать. В письме к Василию Розанову (другому активному члену этого общества) он пишет, что больше всего его обижает то, что его, похоже, не воспринимают всерьез как интеллектуала:
«Многоуважаемый Василий Васильевич! Я очень сожалею, что мне приходится писать эти строки, но что-то во мне протестует и удручает меня. Я привык, вернее, избаловал себя привычкой считать себя если не одним из ваших друзей, то хотя бы одним из тех людей, которые мыслят не совсем отлично, чем вы сами. Благодаря З. Н. Мережковской [Гиппиус] меня занесли в категорию “людей действия”, в то время как вы все принадлежите к “людям размышления”. Этот эпитет, которым я пожалован в известной степени по знакомству, я принял не стесняясь, ведь возможно, и такие люди тоже нужны. Тем не менее понятно, что, поскольку я осознаю свою знаменитую “энергию” и “силу” – качества, которые, если хотите, скорей напоминают легкоатлетические упражнения, я всегда боялся подойти ближе к “людям размышления” и держался от них всегда на некотором расстоянии, хотя и ощущаю до сих пор с ними известное взаимопонимание, которое никакой эпитет разрушить не в состоянии»23.
Далее Дягилев в этом же письме указывает Розанову на то, что многие были приглашены, у кого, по его мнению, гораздо меньше оснований считаться «людьми размышления». Особенно Дягилеву казалось обидным, что в заседаниях общества принимала активное участие его тетка Анна Философова и даже его любимая мачеха.
Философов проводил все больше времени с четой Мережковского и Гиппиус, что неизбежно вело к отдалению в отношениях с Дягилевым. Но тот пока еще крепко держал Философова в своих руках. Примерно весной 1902 года Философов рассорился с Гиппиус и примчался назад к Дягилеву. Мережковский попытался примирить стороны и даже явился к нему на квартиру, чтобы поговорить с Дмитрием, но хозяин вежливо отказал во встрече с ним.[113]113
Все это очень похоже на ссору влюбленных, однако Гиппиус писала в своем дневнике, что в 1902 году близких отношений между супружеской парой и Философовым еще не было. Наиболее подробно об отношениях между Философовым и Гиппиус с Мережковским написал Владимир Злобин. См.: Злобин В. Гиппиус и Философов // Гиппиус З. Н. Собрание сочинений: в 11 т. Т. 8: Дневники 1893–1919. М., 2003. С. 471–503.
[Закрыть]
Весна 1902 года внесла еще больше изменений в жизнь Дягилева. Благодаря активному вмешательству доверенных лиц был несколько смягчен моральный ущерб, нанесенный увольнением из дирекции императорских театров. В результате 31 января 1902 года вышел императорский указ об отмене увольнения «по третьему пункту»24, из чего следовало, что Дягилев мог опять поступить на государственную службу. Волконский и сам вскоре потерял свою должность после очередного конфликта, и директором императорских театров был назначен Теляковский. Дягилев надеялся на то, что Теляковский примет его на службу, но эта надежда оказалась напрасной. Дягилев получил официальную должность в канцелярии его величества, возможно в качестве компенсации, но работа была чисто бумажная и, разумеется, неоплачиваемая. Подробности всего этого дела не слишком понятны. Дягилев писал про это в письме 1926 года,[114]114
Данное письмо Дягилева, адресованное В. Проперту, цитирует Лифарь. Приводится по: Лифарь С. М. Указ. соч, 1994. С. 98. Дягилев очень путано, можно даже сказать, неправдоподобно рассказывает эту историю. Маловероятно, что его приняли в канцелярии всего через неделю после его увольнения из императорских театров. По свидетельству Бенуа, назначение на новую должность произошло через год или два после этого.
[Закрыть] имеются кое-какие упоминания и в мемуарах Бенуа. Если верить Бенуа, должность была почетная, но чисто бюрократическая, и на работе Дягилев практически не появлялся25. Никто из его окружения не писал в мемуарах о том, что Сергей Павлович официально был назначен на службу к императору, и также неясно, как долго продлилось это назначение.
Как бы то ни было, но летом 1902 года Дягилев снова отправился в путешествие с Философовым. Во время своего долгого пребывания в Венеции Дягилев написал те знаменитые два письма, которые цитировались во вступлении к этой книге. Из Европы он руководил редакцией «Мира искусства» через письма. Однако несколько недель прошли совсем по-иному, и это, возможно, стало поворотным моментом всей его жизни. 9 сентября он пишет Бенуа из Граца:
«Мы провели 1 1/2 месяца в Венеции и теперь находимся в санатории пресловутого Крафта-Эбинга. Не подумай, что мы лишились рассудка, но проклятые нервы все же надо подлечить. Впрочем, о нас самих мы поговорим при встрече, когда представится случай. Дима через три недели возвращается, я здесь, возможно, еще побуду, поскольку считаюсь больным»26.
Рихард фон Крафт-Эбинг был знаменитым австрийским психиатром и сексологом. Он сделал себе имя в первую очередь исследованиями того, что считается «сексуальными отклонениями»: садизм, мазохизм (оба термина были введены в обиход самим Крафтом-Эбингом), а также гомосексуализм. Его выводы о том, что гомосексуализм представляет собой не психологическую или моральную проблему, а неизлечимое патологическое отклонение, способствовали (сколь ни абсурдна сама по себе эта теория!) более лояльному отношению к гомосексуализму и послужили важным аргументом в пользу исключения соответствующей статьи из Уголовного кодекса. Это упоминание Дягилева о пребывании в клинике является единственным, но похоже, что именно в Граце он впервые до конца осознал свою сексуальную ориентацию.
Из письма, которое он послал мачехе из Варшавы по дороге на юг Европы, становится очевидным, что нервы Дягилева были напряжены до предела:
«Что ты толстенькая, что ты милая, что я тебя люблю, что мне еще не весело, а страшно, так страшно, что кажется, сейчас умру, и что это будет менее страшно, чем теперь. Чувствую, что это пройдет и что станет весело. Дорогой Лепус, неужели я никогда не излечусь от этого страха не знаю чего? Всего боюсь: жизни боюсь, смерти боюсь, славы боюсь, презрения боюсь, веры боюсь, безверия боюсь. Какое декадентство! Милая моя, ты мною недовольна, и ты права. Я перестаю быть интересен, нет больше молодости души, да может ведь и в старости быть красота. А старости боюсь.
Папа мил, он стал гораздо лучше, все хорошее в нем к старости стало выпуклее.
Это не для того пишу, чтобы к тебе подлизаться.
Целую тебя, дорогая толстушка. Твой Сережа.
Адрес Monte Carlo
Poste restanto»27.
В общем, осенью Дягилев вернулся из Европы поумневшим, что называется, sadder, but wiser.[115]115
Грустней, но умней (англ.).
[Закрыть] Прошедший год был самым трудным в его профессиональной жизни, и прошел он для него не без потерь. Впрочем, на этом проблемы не закончились. Отношения с Дмитрием по-прежнему оставались напряженными, и будущие ссоры казались неизбежными.
В том же году, а точнее, 20 декабря 1901 года, в культурной жизни Санкт-Петербурга произошло событие, которому предстояло сыграть важную роль в жизни Дягилева, хотя он не имел отношения к его организации. В этот день, усилиями Вальтера Нувеля, Альфреда Нурока и некоторых других, состоялся первый Вечер современной музыки, послуживший началом серии концертов, задуманных как знакомство с новой русской музыкой. В этом первом концерте принимал участие в качестве исполнителя юный студент юридического факультета Игорь Стравинский28. Что именно Стравинский играл, теперь сказать трудно – ясно только, что не свои сочинения. В дальнейшем Дягилев и Стравинский ни словом не обмолвились об этом вечере – судя по всему, они тогда просто не обратили друг на друга внимания. Впрочем, они встречались и раньше. Дягилев был знаком с Игорем – сыном Федора Стравинского, ведущего баса Императорской оперы, артиста, который широко отметил в минувшем январе двадцатилетний юбилей своей сценической деятельности29. Дягилев, должно быть, лично принимал участие в его организации. Стравинский не мог не знать Дягилева, как знал его в ту пору всякий, кто хотя бы отчасти интересовался искусством.
На протяжении десяти лет Вечера современной музыки знакомили российскую публику не только с сочинениями Регера, Дебюсси, Равеля, Штрауса, Малера и Шёнберга, они стали композиторскими дебютами для Стравинского, Прокофьева и Мясковского30. На том самом первом концерте Дягилев и Стравинский друг друга не заметили. Лишь через восемь лет участие Игоря в одном из таких вечеров, теперь уже в качестве композитора, положило начало сотрудничеству, которое навсегда изменило характер и ритмы музыки XX века.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?