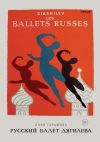Текст книги "Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда"

Автор книги: Шенг Схейен
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
V
Студенческие годы: Александр Бенуа
1890–1894
Безусловно, главным событием в жизни Дягилева в первые годы после переезда в Петербург было знакомство с Александром Бенуа. Этот однокурсник и друг Димы Философова вырос в семье знаменитых архитекторов и художников, предки которых происходили из Франции и из Венеции. Отец Александра был весьма востребованным архитектором, так же как и его дед со стороны матери и брат Николай. Второй брат, Альберт, был известным акварелистом. Члены семьи Бенуа оказывали значительное влияние на художественную жизнь императорской столицы, поскольку служили при дворе (прадед Александра когда-то был шеф-поваром Павла I), занимали должности ведущих профессоров в Академии художеств, активно сотрудничали в разного рода обществах и комитетах, от объединений художников до комитетов по охране культурного наследства. Помимо изобразительного искусства в семье Александра (для близких – Шуры) большую роль играли театр и музыка. Дети серьезно занимались рисунком и музыкой, от них ждали выдающихся успехов на артистическом поприще. Дом семьи Бенуа был полон произведениями искусства; помимо работ самих членов семьи, там были многочисленные предметы итальянского и немецкого искусства, как, например, пастели Гварди. Семье принадлежала даже одна картина Леонардо да Винчи (на тот момент одна из немногих работ итальянского мастера в частной коллекции). Сейчас она хранится в Эрмитаже и известна как «Мадонна Бенуа».

А. Бенуа. Автопортрет
Ни одно исследование по истории русской культуры XX века, даже самое сжатое, не обходится без упоминания о наиболее известном представителе этого рода – Александре Бенуа. Он был необыкновенно плодовитым художником и графиком, прославленным декоратором и художником по костюмам, составителем, иллюстратором и издателем собственных книг. Кроме того, он являлся еще и очень влиятельным и продуктивным критиком. Публиковаться он начал в юном возрасте и не сдавал позиций до глубокой старости (он прожил до девяноста лет). В области искусствоведения Александр Бенуа был самоучкой, но, несмотря на это, издал немало работ по истории искусств, в том числе трехтомную «Историю русского искусства» и двадцатитомную «Историю живописи всех времен и народов».
Александр поддерживал отношения с огромным количеством художников, искусствоведов и критиков по всей Европе, постоянно обмениваясь с ними длинными, подробными письмами. Его эпистолярное наследие поистине огромно и до сих пор до конца не изучено. Большую часть жизни он вел дневники, составлял списки книг, которые прочел, и спектаклей, которые посмотрел, с рисунками на полях, изображавшими разных лиц и происходившие с ними события. Архив Бенуа, его рукописи, рисунки и картины в запасниках Русского музея в Санкт-Петербурге насчитывает тысячи единиц хранения, что составляет лишь малую часть созданного им1. В бурные послереволюционные годы у Бенуа были важные заслуги в деле сохранения и защиты российских художественных ценностей. С 1918 года до его эмиграции из Советского Союза в 1926 году он исполнял должность заведующего картинной галереей Эрмитажа.
За что бы ни брался Бенуа, он делал всё тщательно и с любовью. Его невозможно упрекнуть в халатности, легкомыслии, неграмотности, погоне за дешевым эффектом или легким успехом. Уже в юном возрасте он выработал свой собственный стиль и художественную позицию, которым никогда не изменял. Он мало обращал внимания на новые тенденции и на то, что происходило за пределами четко очерченной сферы его интересов. Бенуа настойчиво твердил о своем неприятии современного искусства, которое казалось ему блефом, снобизмом и шарлатанством. Футуризм он называл «культом пустоты, мрака и ничтожества»2, а кубизм – «гримасой нашего времени»3. В его искусствоведческих работах, свидетельствующих о большой эрудиции, написанных эмоционально и хорошим языком, чувствуется непонимание комплексной природы художественных феноменов. Знание предмета и техническое мастерство были для него конечным и единственным критерием. И хотя приговор Джона Боулта в отношении Бенуа теперь вряд ли кто оспорит («Сегодня имя художника Бенуа вряд ли имеет серьезное значение в глазах западных историков искусства, и в конечном счете это, пожалуй, справедливо»)4, его вклад все же нельзя полностью отрицать хотя бы в силу той роли, которую он сыграл в жизни и деятельности Сергея Дягилева – человека, в котором на разных этапах своей жизни он видел то лучшего друга, то величайшего мучителя.
Дягилев впервые познакомился с Бенуа в 1890 году, незадолго до своей первой заграничной поездки. Вместе с Александром был еще один Димин друг – Вальтер, или, как все его называли, Валечка, Нувель, о котором речь пойдет ниже. Об этой встрече Бенуа потом расскажет следующее:
«В одно прекрасное утро я получил извещение, что Сережа приехал, и в тот же день я узрел в квартире Валечки кузена Димы. Поразил он нас более всего своим необычайно цветущим видом: у Сережи были полные розовые щеки и идеально белые зубы, которые показывались ровными рядами между ярко-красными губами каждый раз, когда он улыбался»5.
К Сергею отнеслись с тем типичным высокомерием, с которым столичные юноши девятнадцати—двадцати лет смотрят на молодежь из провинции. С неприкрытым апломбом Бенуа пишет:
«…В общем, он показался нам “славным малым”, здоровяком-провинциалом, пожалуй, не очень далеким, немного terre à terre,[54]54
Приземленным (фр.).
[Закрыть] немного примитивным, но в общем симпатичным. Если же мы с Валечкой тогда же сразу решили его принять в нашу компанию, то это исключительно по “родственному признаку” – потому, что он был близким человеком Димы»6.
Философову тоже запомнилась первая встреча Сергея с его друзьями:
«Как теперь помню первую встречу (осенью 1890 г.) Сергея Дягилева с коренным участником кружка Александра Бенуа В. Ф. Нувелем, вернее, Валечкой Нувелем. Язвительный характер по преимуществу, хороший музыкант, более всех нас любящий “эпатировать буржуа”, он с места решил огорошить провинциального “пижона”. Только что прочитав статьи Ницше против Вагнера, он издевался над Вагнером, Бородиным, восхвалял “Кармен”. Вообще напустил столичной пыли. Но провинциал не смутился. И тут же показал, что он “сам с усам”»7.
Бенуа, Философов и Нувель были закадычными друзьями уже в гимназии Мая,[55]55
Старейшая частная гимназия в Петербурге. Основана в 1856 г. педагогом К. И. Маем (1824–1895). (Прим. пер.)
[Закрыть] которая располагалась на Васильевском острове, самом большом острове в дельте Невы. Эта мужская гимназия была частным учебным заведением, современным и либеральным, куда отдавали учиться своих сыновей представители интеллигенции. В педагогическом отношении в ней придерживались идей Фридриха Фрёбеля; по словам Бенуа, всё там было на немецкий манер, и даже преподавание нескольких предметов велось по-немецки8. Либерализм в управлении гимназией проявлялся в том, что в нее принимали не только детей врачей, художников, архитекторов и адвокатов, но и «кухаркиных детей»9. Чтобы не подчеркивать социальных различий, было запрещено привозить детей в школу в экипажах и машинах, поэтому их высаживали за углом, создавая немалую толчею и давку.[56]56
Заявление И. Муравьевой о том, что в гимназии Мая не носили форму, опровергает знаменитая фотография, на которой мы видим Бенуа, Философова и Нувеля в гимназической форме. Приводится по: Муравьева И. А. Век модерна. Т. 2. СПб., 2001–2004. С. 73.
[Закрыть] Все здесь было иначе, чем в пермской гимназии, где одноклассники глазели на «барчука» Дягилева, как на чудо, а учителя, в угоду его родителям, обращались с ним как с любимчиком.
Кроме этих троих, в гимназии Мая учился также художник Константин Сомов, и, хотя он оставил гимназию несколько раньше, так как собирался поступать в Академию художеств, «маевцы» регулярно встречались. Незадолго до знакомства с Дягилевым к кружку присоединился художник Лев (для своих Левушка) Розенберг, вскоре взявший себе псевдоним Бакст. Бенуа попытался придать группе более солидный статус, объединить ее художественные и интеллектуальные интересы с романтикой «тайного общества». В своих мемуарах Бенуа утверждает, что друзья называли себя «обществом самоучек» или же «невскими пиквикианцами», но это последнее название не фигурирует ни в каких других источниках, нет его и в воспоминаниях Нувеля и Философова. Вполне вероятно, что Бенуа, романтизируя прошлое, придумал это название уже потом, в 30-х или 40-х годах, когда писал свои мемуары.[57]57
Вообще эти вечерние лекции вызывают сомнения. Бенуа в своих мемуарах пишет, что будто бы просветительские встречи продолжались много лет и плавно переросли в деятельность «Мира искусства». Но последнее представляется большим преувеличением. В переписке Дягилева после 1891 г. уже не встречается упоминаний о вечерних лекциях. Бенуа приводит (в мемуарах) несколько названий лекций. Но все эти лекции, вероятно, были уже прочитаны до конца 1890 г., поскольку те же названия упоминаются в письмах Дягилева его мачехе. Можно ли сделать из этого вывод, что позже лекции уже не читались, что друзья просто потеряли интерес ко всей этой затее, после того как каждый прочел по одной-две лекции? Ср.: А. Бенуа. Возникновение «Мира искусства». М. 1998. С. 9.
[Закрыть]
Дягилев несколько раз рассказывает матери о встречах друзей, которых он всегда именует «маевцами»:
«В университете у нас очень тесный кружок, все маевцы (ученики из гимназии Мая) очень порядочные молодые люди, я уже с некоторыми на “ты”. Бываю у Бенуа, там у нас составился кружок человек в пять, и раз в неделю читаем каждый лекции из истории искусства. Было уже три. Бенуа читает “Развитие искусства в Германии”, Калин (тоже студент) “О современной критике”, Нувель – “Историю оперы”. Я буду читать лекцию о Карамазовых, а затем о музыке что-нибудь»10.
И все же отношения Сергея с другими членами кружка остаются непростыми, так как Сергей, не обращая внимания на их высокомерие, не готов безоговорочно признать их превосходство. Когда Дягилев с Бенуа летом 1891 года возвращались вместе из Богдановского, между ними произошла сцена, которую Бенуа запомнил навсегда и которая приобрела для него характер важного символа.
«Вернувшись раньше других из Богдановского, Сережа пожелал вместе со мной навестить Валечку, проживавшего тогда с матерью на даче в Парголово. Но Валечку мы не застали дома, он был где-то на прогулке, и тогда мы отправились искать немного наобум. Стояла гнетущая жара, и мы вскоре вспотели, устали, и явилось непреодолимое желание прилечь. Выбрав место посуше, мы и растянулись на траве. Лежа на спине, поглядывая в безоблачную лазурь, я решил использовать представившийся случай и более систематически познакомиться с новым другом […] Надлежало выяснить, насколько новый приятель “нам подходит”, не далек ли он безнадежно от нас, стоит ли вообще с ним возиться? […] И вот эта серьезная беседа на траве нарушилась самым мальчишеским образом. Лежа на спине, я не мог наблюдать, что делает Сережа, и потому был застигнут врасплох, когда он навалился на меня и принялся меня тузить, вызывая на борьбу и хохоча во все горло. Ничего подобного в нашем кружке не водилось; все мы были “воспитанными маменькиными сынками” и были скорее враждебно настроены в отношении всякого рода “физических упражнений”, особенно же драк. К тому же я сразу сообразил, что “толстый крепыш” Сережа сильнее меня и что мне несдобровать. “Старший” рисковал оказаться в униженном положении. Оставалось прибегнуть к хитрости – я и завопил пронзительно: “ Ты мне сломал руку”. Сережа и тут не сразу унялся; в его глазах я видел упоение победой и желание насладиться ею до конца. Однако, не встречая более сопротивления и слыша лишь мои стоны и визги, он оставил глупую игру, вскочил на ноги и даже заботливо помог мне подняться. Я же для пущей убедительности продолжал растирать руку, хотя никакой особой боли на самом деле не испытывал»11.
Отношения между этими двумя личностями всегда оставались напряженными, даже в первые годы их знакомства. Заявление Бенуа о том, что поначалу он был для Дягилева чем-то вроде наставника, по меньшей мере преувеличенно, и совершенно ясно, что общение с кружком Бенуа составляло лишь одну из сторон многочисленных интересов Дягилева. В первый год после приезда Сергей описывает мачехе свою ссору с Бенуа, на какое-то время охладившую их дружбу.
«Насчет наших лекций скажу тебе, что они продолжаются, хотя я бываю редко, потому что рассорился с главным учредителем общества Бенуа. Да, впрочем, не я один с ним рассорился, даже и товарищи его, которые раньше и любили его, встали с ним в более или менее холодные отношения. Хотя все во главе с Димой и говорят, что он очень умный и талантливый человек, но, правда, с огромными недостатками в виде хамства, кривляния, различных мальчишеских выходок и неприличий, тем не менее, я не мог простить ему его всех упомянутых недостатков из-за скрытых талантов его, которые для человека нового и не знавшего его раньше абсолютно невидимы. И в один прекрасный день, когда мы возвращались из театра и он производил на улице свои неприличия, в виде скакания, орания и черт знает чего, я рассорился с ним и сказал ему, что с таким хамом я знаться не желаю. Таков учредитель общества, и хотя другие более или менее милые люди, но я все-таки бываю только раз в две недели на этих лекциях, хотя они собираются два раза в неделю»12.
Несомненно, столь же важными в начале его жизни в Петербурге были для него музыкальные занятия. Первым делом он берет уроки пения у своей тети Татуси. «Вообрази, тетя открыла у меня очень хорошенький голос»13. Но он ищет себе и других педагогов, ходит на уроки по вокалу к профессору Габелю, преподававшему в консерватории. Об этом, как обычно, без лишней скромности, он пишет своей мачехе:
«Он мною очень доволен и говорил [Вакселю], что у меня хороший голос, но что много недостатков, которые, он уверен, что исправит, имея дело с таким интеллигентным и музыкальным учеником. Беру я уроки 2 раза в неделю. Теорией начну заниматься с 1 ноября, хотя, еще наверно не знаю, у кого»14.
Его желание поступать в консерваторию одобряют далеко не все. Анна Философова, стремившаяся направить племянника на «верный», то есть на левый путь, высказывается резко против: «Она говорит, что это эгоистично, что нам люди нужны не для витания в абстрактных теориях или для писания симфоний, а что люди нужны в народе»15. На время Дягилев и в самом деле откладывает попытки поступить в консерваторию, но продолжает искать хороших преподавателей по композиции. На два-три года его наставниками становятся композиторы Николай Соловьев и Николай Соколов, оба профессора консерватории.[58]58
Дягилев рассказывает о том, что брал уроки у Соловьева, в письме своей мачехе в августе 1892 г. Приводится по: Nestyev I. Dyaghilev’s Musical Education // Garafola L., Van Norman Baer N. The Ballets Russes and Its World. New Haven; London, 1999. P. 38–39. Сам Дягилев называет в качестве своих учителей только Николая Соколова и Анатолия Лядова. Приводится по: Kochno B. Diaghilev and the Ballets Russes. N. Y., 1970. P. 280. П. Корибут также называет Соколова в качестве одного из наставников Дягилева, что прибавляет достоверности данному факту. Приводится по: Зильберштейн, Самков 1982. Т. 2. С. 414. В отношении остальных лиц (Калифати, Римский-Корсаков, Акименко, Лядов), упоминавшихся в качестве его наставников, мы не располагаем достаточными сведениями.
[Закрыть]
Дягилева приглашают на музыкальные вечера к Платону Вакселю, влиятельному музыкальному критику из «Петербургской газеты», и он делается его постоянным гостем16. Через год Дягилев начинает посещать вечера Александры Молас, свояченицы Римского-Корсакова и пропагандистки «Могучей кучки», а также сводит личное знакомство с Балакиревым, Кюи и Римским-Корсаковым17. Эти композиторы отстаивали прогрессивную, неакадемическую, национальную программу в музыке, со своим подходом, родственным передвижникам в живописи (о чем подробнее речь пойдет ниже). Члены кружка хотели выразить языком музыки освободительные идеалы 60–70-х годов XIX века, рассчитывая ускорить становление национального самосознания путем введения фольклорных мотивов, то есть русских народных, и занимаясь разработкой самобытного русского музыкального языка. Во многом благодаря энергии и новаторскому энтузиазму «Могучей кучки», поискам национальной самобытности членами кружка и их отвращению к «западным» канонам, произошел расцвет русской музыки по второй половине XIX века.
Музыкальные вечера Вакселя и Молас позволили Дягилеву оказаться в самой гуще музыкальной жизни Петербурга уже в 1893 году. Это необходимо знать, поскольку произведения композиторов «Могучей кучки» будут занимать важное место в репертуаре «Русского балета» вплоть до начала Первой мировой войны. Посещая музыкальные вечера, Дягилев, которому в ту пору был двадцать один год, не только усвоил музыкальный репертуар «Могучей кучки» (что иначе было бы невозможно), но и завязал знакомство с композиторами, позволившее ему легко находить контакт с ними многие годы спустя.
Одновременно в сердце молодого пермяка возникла огромная любовь к музыке Рихарда Вагнера, чего не одобряли ни члены «Могучей кучки» (за исключением Римского-Корсакова),[59]59
Подробнее о восприятии музыки Вагнера в России см.: Bartlett R. Wagner and Russia. Cambridge. 1995.
[Закрыть] ни кружок Вакселя, считавшие это опасной иностранной болезнью.
Дягилев и сам позднее скрывал свою юношескую страсть к Вагнеру. С 1914 года он проявлял себя как убежденный поклонник франко-русского модернизма, столь не похожего на немецкую музыку с ее экспрессионистскими тенденциями. Это не противоречит тому, что Дягилев до покорения им Парижа оставался убежденным вагнерианцем. Постановки опер Вагнера он впервые смотрел в Вене еще в 1890 году. Но неизвестно, там ли зародились истоки его страсти к композитору. Очень возможно, что причиной столь устойчивого интереса Дягилева к Вагнеру был Александр Бенуа. В 1889 году Бенуа был на российской премьере «Кольца нибелунга». Спектакль произвел на него огромное впечатление и сделал из него страстного поклонника Вагнера. Впрочем, отчасти в том, что никто и никогда не упоминает об увлечении Дягилева Вагнером, виновен все тот же Бенуа. В своих мемуарах он представляет Дягилева типичным поклонником русской музыки (Чайковский, Мусоргский) и в то же время человеком, мало разбирающимся в зарубежной музыке, – в этом характерное стремление Бенуа показать Дягилева наивным провинциалом, проявлявшееся у него уже с начала 90-х годов.
Но в действительности Дягилев начиная с 1892 года, как он сам пишет мачехе, становится убежденным «фанатом Вагнера».[60]60
«Я фанат музыки и фанат Вагнера». Из письма С. П. Дягилева – Е. В. Дягилевой от 18 февраля 1892 г. Цит. по: Сергей Дягилев – русский музыкант//Советская музыка. 1978. № 10. С.118.
[Закрыть] Он поет арии из Вагнера и исполняет его музыку вместе с друзьями, стремится поехать в Германию, чтобы посмотреть как можно больше спектаклей. Одного своего родственника, с которым он поддерживает дружеские отношения, он просит дать рекомендательное письмо для Джузеппе Кашмана, итальянского баритона, который много выступал в Петербурге и Москве и должен был в том году принять участие в Байройтском фестивале.
Это рекомендательное письмо Дягилев берет с собой, отправляясь в начале июля в свой второй европейский гранд-тур, – на этот раз он едет сам, без попутчика. Целью поездки была в основном Германия. В планы Дягилева входило познакомиться с как можно большим числом знаменитостей. Он регулярно пишет мачехе. Приводим отрывок из его письма из Нюрнберга от 14 июля 1892 года:
«В Ишль же я поехал, чтобы увидеть знаменитого Брамса, который там живет. Только что приехал туда, отправился к нему, но он гулял, и я увидел его только вечером. Брамс оказался маленьким юрким немцем, не говорящим по-французски. Просьбу мою получить от него автограф он исполнил тотчас же, подписавшись на карточке. Просидел я у него с 1/4 часа, но беседа была затруднительна в смысле плохого понимания друг друга. При каждом моем слове, вроде того, что я приехал в Ишль, чтобы его повидать, он суетился и краснел. Ужасно он в загоне в Германии. Квартира у него вроде старого кабака. Такой талант и в такой обстановке. А ведь подумаешь, и Бетховен был тоже бедный немец, да притом еще и глухой. Лучше их представлять себе, чем видеть. Но я все-таки рад, что мог пожать ему руку от всего сердца: “une cordiale poignée de main”.[61]61
Сердечное рукопожатие (фр.).
[Закрыть] Затем я поехал в Зальцбург. Покланялся Моцарту и приехал в Нюрнберг. Вот удивительный это город, сплошной музей, чувствуешь себя в XVII столетии, окруженным Фаустами и Гретхенами. Просто наслаждение. Ну-с, вчера я был в Байрейте и слышал Meistersinger von Nürenberg.[62]62
«Нюрнбергский мейстерзингер» (нем.).
[Закрыть] Пока не услышу всех четырех опер, не буду тебе писать подробно моего впечатления. Скажу только следующее: я убежден, что людям, разочарованным в себе и в своей жизни, отрицающим смысл существования, людям, поставленным в тяжелое положение невзгодами житейскими, и, наконец, людям, отчаивающимся в силу упадка воли до искусственного прекращения своего существования – всем им прийти сюда»18.
Вагнер как панацея для всех Вертеров на свете! Когда Дягилев в дальнейшем опишет эту музыку своей матери, он не только сравнит ее с «бурей и натиском», но и сформулирует, возможно впервые, свое эстетическое кредо: убеждение в превосходстве искусства над жизнью:
«Звуки росли, превращались в бурю, еще и еще звуки, смерч звуков, еще, еще, еще, громы небесные, еще приливы, еще леса звуков – тьма! И вдруг рай – мелодии муз, играющих на своих лирах. Тут все есть: мелочность, интриги, горе, гнев, любовь, ревность, ласка, крики, стоны – все это сгущается и идет, наконец вместе представляет из себя жизнь, какая она течет у каждого из нас, но надо всем этим восторжествует истина красоты… Так и скажи всем, идите туда, там есть то, чего нигде больше нет. Родная моя, потом расскажу тебе подробно, когда увижу все оперы»19.
«…Кажется, это мое путешествие будет для меня полезно в смысле практики немецкого языка. Оказывается, что мне гораздо больше приходится говорить по-немецки, чем я воображал, и я объясняюсь. А все-таки русское общество самое воспитанное; я скверно говорю по-французски, но до сих пор ни одного немца не встретил, который бы говорил даже так, как я, по-французски. Все они на своем жидовском языке только и говорят, так же как и сундуки, те в особенности подлецы. Видишь, я отдаю должное России»20.
27 июля он снова пишет матери, на этот раз из Мюнхена. Он уже посмотрел в Байройте семь опер, и это не охладило его пыл к Вагнеру. Он беседовал с Кашманом и пел для него. Дягилев однажды обмолвился, что Кашман будто бы говорил Вакселю, что этот русский обладает une belle voix.[63]63
Красивый голос (фр.).
[Закрыть] Постановку оперы он почти не комментирует. Будущий директор «Русского балета» уже тогда признавался матери в своем пристрастии к купюрам, что в дальнейшем бросит тень на его профессиональную репутацию:
«В отношении самой музыки скажу, что ее единственный недостаток, что местами есть длинноты, но это зависит от режиссера, в данном случае от Mme[64]64
Мадам (фр.).
[Закрыть] Вагнер, сделать надлежащие купюры, а она так “чтит” музыку мужа, что не позволяет вычеркнуть ни одной ноты. Господи! В Шекспире, Бетховене, Глинке и пр. делают массу купюр. Я понимаю, вставлять своего нельзя, а урезать устарелое и скучное – это улучшить вещь. Это вина Mme Козимы»21.
Примерно в сентябре Дягилев вернулся в Санкт-Петербург – в убеждении, что отныне он посвятит свою жизнь музыке. Он как одержимый сочиняет музыку, и результатом этих усилий становится ряд пьес, которые он исполняет в узком кругу. Однако принятое решение несет с собой беспокойство, и он начинает серьезно сомневаться в себе. А сомнение было одним из тех чувств, с которыми Дягилев справлялся с трудом. Вероятно, не случайно именно в этот период были написаны письма, свидетельствующие о различных душевных кризисах Сергея и проясняющие причины его странного порой поведения. 14 октября 1892 года Дягилев пишет мачехе:
«Нравственное настроение переживает теперь период Лазаря – в Joie de vivre.[65]65
«Радость жизни» – роман Э. Золя (фр.). (Прим. пер.)
[Закрыть] Не знаю, бывает ли это у всех или это надо приписать исключительно моим нервам. Эта толпа неразрешимых вопросов и эти вечно преследующие неизбежность, непостижимость и смысл смерти, цель жизни, словом, ты меня поймешь. Помнишь, еще нынче летом мы с тобой об этом говорили. Осенью же в деревне, в эти длинные вечера все особенно располагало меня к этим бесконечным цепям мыслей. Последний же месяц в городской жизни я чувствую себя лучше, и эти тяжелые приступы повторяются реже. Я хочу, право, серьезно полечиться от нервов»22.
Но обычно Дягилев держится вполне уверенно и, похоже, испытывает призвание к необыкновенной жизни:
«Да, я начинаю чувствовать в себе силу и сознавать, что я, черт возьми, не совсем-то обыкновенный человек (!!!). Это довольно нескромно, но мне до этого нет дела. Одно то меня страшит, что я родился в тот век, когда нет ни публики, ни “ценителей, ни судей”. Ей Богу, я прямо в отчаянии, когда я вижу, что я больше всех понимаю в музыке, нет, серьезно, никто ничего не понимает, а всякий судит, в две минуты составляет свое мнение и рубит с плеча»23.
В середине 1894 года он ощущает, что готов принять еще более смелый вызов.
«Что касается до моих композиций, то они все те же или почти те же, если не считать кое-чего, чем я занимаюсь теперь и что намерен посвятить Вам. Но покамест, как это Вам ни любопытно знать, Вы все равно этого не узнаете. Да-с! Толстый Лепус, Вам это очень досадно; ну что ж, подосадуйте немножко. Тут я подхожу к вопросу, который наиболее волновал меня за все последнее время, это: посещение мной Римского-Корсакова»24.
Когда Сергей писал это письмо матери, встреча с Римским-Корсаковым была уже назначена. Несомненно, он уже несколько раз встречался с ним и раньше на музыкальных вечерах Вакселя или Молас. 18 сентября 1894 года его младший брат Юрий пишет матери: «В среду Сережа поедет показывать Римскому-Корсакову свои вещи»25.
После того как не стало Чайковского, Римский-Корсаков был наиболее прославленным педагогом и самым известным композитором в России. Он не только представлял собой самое влиятельное лицо в Петербургской консерватории, но и активно работал с единственным на тот момент прогрессивным музыкальным объединением – беляевским кружком.[66]66
Беляевский кружок – группа музыкантов, объединившихся в 80–90-х гг. XIX в. вокруг М. П. Беляева. Они собирались на музыкальных вечерах в его доме – так называемые «Беляевские пятницы». Возглавляемый Н. А. Римским-Корсаковым кружок в основном состоял из его учеников: А. К. Глазунова, А. К. Лядова, Ф. М. и С. М. Блуменфельдов и др. Беляевский кружок был преемственно связан с «Могучей кучкой». (Прим. пер.)
[Закрыть] И что еще было немаловажно для Дягилева, он был практически единственным композитором, всерьез воспринимавшим Вагнера. Почему выбор Дягилева пал на Римского-Корсакова, вполне объяснимо, но, вероятно, это был единственно возможный выбор.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?