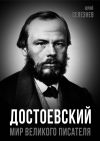Читать книгу "Ипостаси: о них, о нас, обо мне"
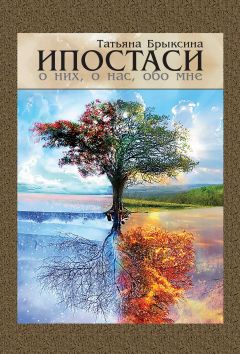
Автор книги: Татьяна Брыксина
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Презревший суету
Ананко Александр Семёнович 23.05.1941 – 20.12.2011
Быть голодным, но независимым сейчас не модно. Крутись как хочешь, но форс держи! Иначе тебя спросят: «Если ты не дурак, то почему такой бедный?» От этого вопроса попахивает мещанством и подлостью, ибо деньги липнут к хватам и пронырам, а поэты таковыми бывают редко. Давно замечено: чем талантливее поэт, тем он отрешённее от сует земных. В этом плане Александру Ананко равных не было. Худющий, как пустынный саксаул, ссутулившийся, медлительный и вообще тихий – он входил в писательский дом без малейшего смущения за потрёпанные, давно не мытые штаны, пыльные штиблеты и трёхдневную щетину на щеках. К такому Ананко все давно привыкли и не особо огорчались, что господин поэт – не комильфо. В буфете для него всегда находилась стопка-другая водки, салатик, чашка чая. Если угощальцев не было, он сам брал себе чай и пил с куском хлеба. Думаете, его унижало такое положение вещей? Ничуть! Он и за полноценный обед от щедрот товарищеских редко кому говорил спасибо. Выпивал, закусывал и молча уходил. Мне это даже нравилось отчасти: на каждый чих не накланяешься!
Временами дочь Александра Семеновича, Наташа, принималась усиленно опекать отца – отмывала, откармливала, наряжала в яркие спортивные костюмы и свежие футболки. Идиллический Ананко гордился собой недели две, а потом всё возвращалось на круги своя. Он любил выходить за рамки очерченного бытия, особенно, когда из Елани наезжал сельский песнопевец Виктор Ростокин. Разлучаясь лишь на короткие ночные часы, друзья бражничали вволю, благо ростокинский нагрудный карман не тощал наличностью, а о щедрости его можно легенды слагать. И вот ведь что интересно: с иными меж нашим народом и чашка чая шла в расчёт, а жадничать перед Ананко считалось неудобным. Почему так? Ответ прост: его любили и почитали за хорошего поэта, за весьма самобытную личность.
Со времён моей литстудийной молодости (1972, 1973 и т. д.) до 2011 года, когда Александра Ананко не стало, статус-кво хорошего поэта он никогда не терял. Об этом говорила Маргарита Агашина, это твердил Василий Макеев, с этим соглашались десятки других наших стихотворцев. Книги у Саши выходили регулярно, и юбилейное издание к своему 70-летию он планировал как избранное из уже изданных книг. Однако горькие обстоятельства его последних дней во многом план этот поломали. Правда, кое-что Ананко успел отметить карандашиком для включения в книгу, но уже неустойчивой рукой. Избранное, конечно, выйдет, но, может быть, в сокращённом варианте.
На поэзию А. Ананко у меня есть свой взгляд, и я выскажу его на этих страничках, но пока всем, кто откроет мою книгу и окажется не слишком осведомлённым о жизни и творческом пути Александра, расскажу то, что мне известно.
Родился он 23 мая 1941 года в селе Лемешкино бывшего Жирновского района. Отец его, Семён Степанович Ананко, редактировал районную газету и считался крепким журналистом. Гораздо позже, уже познакомившись с Сашей, я слышала много добрых слов об его отце и вообще – о семье. Долгими периодами, скользящий по поверхности своей плохо организованной жизни, Саша Ананко не вязался в моём представлении со спокойной, трезвой, благополучной жизнью родной семьи. Хотя детство, пусть и военное до 1945 года, было для него наполнено теплом и светом, любовью близких, чистой первозданностью деревенского мира. Подолгу он жил в доме своей бабушки Дарьи в селе Вязовка Еланского района. Значит, был напоён молоком и воздухом, просторечьем и ширью земных просторов. Это не только формирует поэтическое мировоззрение, но и закладывает здоровую, крепкую основу человеческой натуры. Первое, несомненно, воплотилось в ярких и размашистых строках Ананко, а человеческая натура, к сожалению, часто пасовала перед натиском иных реалий.
По стихам легко прочитывается, что своим детским «раем» Саша прежде всего считал бабушкину Вязовку с речкой Терсой, о названии которой сохранилась легенда: Терса – преграда, рубеж, заплот. Будто бы в давние времена струящиеся мягкие воды речки остановили войско Батыя, став на время ледяными и неодолимыми. Для себя самого Ананко определил в контексте описанной им легенды некую границу между тем, что оставалось за спиной, и тем, что открывалось перед глазами:
И солнце приветствуют птицы,
И смотрит подснежник светло,
Как будто у этой границы
Кончаются беды и зло…
В бытовых разговорах Ананко редко на что жаловался и уповал. Подойдёт, скажет: «Дай мне пятнадцать рублей на маршрутку», и уходит сутуло, но жёстко. Зато в стихах горько проговаривал всё сокровенное, святое для себя, чем была наполнена душа. За долгие годы общения между нами ни разу не было глубокого доверительного разговора. Если я спрашивала: «Саша, как тебе моя последняя книжка?» Он уклончиво отвечал: «Извини, не дочитал…» Но однажды написал весьма эмоциональный отклик на книгу моих повестей «Трава под снегом». Я была удивлена, позвала его в писательский буфет и угостила в очередной раз.
Литературные пристрастия в кругу волгоградского писательского сообщества у Ананко были чётко определены: Агашина, Леднёв, Данилов, Макеев, Максаев, Васильев, ну и односумы конечно: Ростокин, Харламов, Паршин. Как он соотносил их друг с другом, таких не похожих во всём, я не знаю.
Однако вернёмся в ещё детские годы Ананко. Из Лемешкино семья переехала сначала в Камышин, а затем в Волгоград. Отец стал работать в «Сталинградской правде», а это было круто. Другому пацану для жизненного разгона хватило бы с лихвой. Но тринадцатилетний Сашка в профессиональную журналистику не стремился, его душа томилась чем-то иным, что тревожило и волновало, искало выхода. На домашней книжной полке он нашёл стихи Есенина и Блока, других советских поэтов. Но именно Есенин и Блок сорвали его с шестка обыденного существования, и «понеслась душа в рай» – он начал писать стихи. Отец этого баловства не одобрял, потому что хорошо видел и знал, как редко из юных сочинителей получается что-то толковое. Оказаться же в ряду записных графоманов считалось позорным: напрасно потраченное время, сбитые набекрень мозги, больные амбиции, комплексы. За прояснением ситуации обратились к самому доступному из уважаемых волгоградских поэтов Фёдору Сухову. Тот поостерёгся от поспешных оценок, но дал начинающему поэту один добрый совет: «Каждая строка твоего стихотворения должна видеться и звучать».
Легко сказать! И признаемся честно: бездарный человек из подобного наставления ничего бы для себя не вынес. Как оказалось – Саша Ананко вынес! Не из этого ли понимания родились такие строки?
Рождённый здесь,
Наследник крови древней,
Нисколько с раболепством не знаком,
Я падаю смиренно на колени
Перед цветком и перед родником.
Реальная судьба Александра Ананко складывалась типично для парней этого поколения: работа на заводе, служба в армии, первые влюбленности, первая бутылка портвейна… В общем-то не особо блещущая разнообразием и праздниками жизнь. Но были стихи. Они вели по жизни и спасали от самого худого. Появились первые публикации в «Сталинградской правде» и «Молодом ленинце», в журнале «Смена». Душа набиралась опыта, перо обретало устойчивость, строка окрылялась.
В 1964 году вышла первая книжка Александра Ананко «Предзорье». Всю жизнь он был благодарен за неё Маргарите Агашиной. Она реально помогла в её составлении и даже взяла на себя редакторство. Вторая книга, «Бессонница», вышла в 1968 году, третья, «Дороги», – в 1976. Три книжки к тридцати пяти годам – весьма неплохой результат, если вспомнить, как эти книжки давались в то время. К тому же и семейная жизнь вначале складывалась благополучно. Жена Галина родила Александру сначала сына Сергея, затем дочь Наталью. Было жильё, от отца осталась старенькая легковушка с гаражом около 9-й школы. Долгое время А. Ананко работал профессиональным водителем и очень любил это дело: дороги и попутчики давали новые темы для стихотворений, окрестный мир в окошках автомобиля расширял горизонты, открывал простую красоту родной земли. Так родился поэтический цикл «Нечаянные встречи». По одному лишь этому циклу можно многое понять в душе и характере Александра, в поворотах его судьбы.
В 1981 году он был принят в члены Союза писателей России (СССР). Перешагнувший этот рубеж считался почти небожителем в среде пишущего и издававшего первые книжки литературного народа. Нас было человек семь-восемь, одновременно подошедших к этой судьбоносной вехе. Саша – чуть старше других, но это ни о чём не говорит. Его творческая жизнь была открыта всем, а личная судьба едва осознавалась из-за пелены душевных погод-непогод наших собственных судеб. Ананко развёлся с женой, но оставался отечески привязан к детям, особенно к дочке. Он любил её нежно, гордился, что Наташа растёт красавицей. Ему, ушедшему из семьи, дважды улучшали жилищные условия: сначала на Баррикадной, потом на Советской – против Музея-панорамы. Но всякий раз оказывалось, что с трудом обретённое жильё доставалось семье. Блудного отца пытались адаптировать к общей семейной жизни, но итогом часто оказывалась улица. Последним земным пристанищем Александра была, если не ошибаюсь, чуть ли не коммуналка где-то в Городище. Он не роптал. Справедливости ради скажу, что уже замужняя дочь временами делала попытки наладить быт отца, дать ему хоть какую-то опору для приличного существования. Но душа поэта, как перекати-поле, стремилась на волю, в бессознательное перемещение от порога к порогу, от стола к столу. При этом (удивительное дело!), получая очередной долгожданный гонорар за книгу или крупную публикацию, он отвозил его дочери. И тогда наступали те самые идиллические недели, о которых я уже писала, – в чистой одежде и с посвежевшими щеками.
В мае 2001 года мы отмечали 60-летний юбилей Александра Ананко. В Пушкинском зале Дома литераторов был накрыт приличный стол, приглашены писатели, родственники и друзья Ананко. Счастливый и гордый юбиляр демонстрировал всем своих наследников, особенно внука Родиона. И казалось, что всё хорошо, так и нужно бы продолжать жить – в ладу с собой и с миром. Но перекати-поле на месте не удержишь, коли корневая связь с почвой безвозвратно утеряна.
Ну что ж, это судьба! – решили все. Я пыталась строго поговорить с Сашей, урезонить его. А он отвечал: «У меня всё хорошо. Жильё есть, одежда есть, дочка подкармливает». – «Но ты же худой, как барбоска!» – возмущалась я. «Жирные быстрее умирают», – коротко резонировал Ананко.
У Саши не было ни домашнего, ни сотового телефона. По писательской надобности я связывалась с ним через Наталью. Иногда не сдерживалась и упрекала дочь в бесприютной жизни отца. Знаю, это было несправедливо, но жалость к Ананко оказывалась сильнее. Наташа, конечно, обижалась, но и меня понимала. Её отец в неопознанных своих скитаниях дичал и замыкался, логику справедливых упрёков и дочерних слёз воспринимал с трудом. И всё же написал однажды:
Ты прости, моё творенье,
Что отеческие руки
Осенят благословеньем
Эти слёзы, эти муки.
Сейчас, когда Александра не стало, мне вдруг ясно открылось, что и она его любила, очень жалела, но ничего не могла исправить.
На подходах к маю 2011 года я осторожно спросила Наталью и бывшую жену Галину, что они думают по поводу приближающегося 70-летия отца. Дочь горько вздохнула, мол, какие тут юбилеи, если не знаешь, когда и с какой стороны, а главное – в каком состоянии ждать непутёвого именинника. Кому радость от этого праздника? На какие деньги праздновать? О чём тут говорить!
Самому Ананко никакие круглые даты и во сне уже не снились. В день его юбилея, 23 мая, я лежала в больнице и попросила Макеева прочитать мне по телефону какое-нибудь стихотворение бесхозного нашего скитальца. Василий отказался: «Выйдешь из больницы и читай сколько влезет». С чтением стихов Ананко у меня всегда возникали проблемы. Вроде бы и живопись яркая, и интонация не хилая, и правда нигде не нарушена, и образность – дай бог каждому, – неоспоримый талант! – но зачастую самые главные, несущие рифмы оказываются такими небрежными и приблизительными, что трудно было скрыть досаду.
Серёжа Васильев взвился бы сейчас: «При чём здесь рифма?!» Да, рифма – дело десятое, но слух-то раздражается. Разве я не понимаю, что значит быть поэтом? Но слух-то раздражается…
Чуть картавящий, грассирующий Ананко стихи свои выговаривал ярко, правильно ставя акценты. Слушая его, я сама себе удивлялась: отличные стихи! Нормальные рифмы! И чего это мне померещилось? Но с листа читалось по-другому.
Весь 2011 год оказался для него особо тяжёлым, а ведь начинался с такого прекрасного подарка: Пётр Зайченко подарил ему черный концертный костюм к юбилею! Мы нарядили Сашу и залюбовались: худоват, измождён, а хорош! Через несколько дней в подаренном костюме Ананко вошёл в писательский бар, и все ахнули. Где можно было так вываляться, так загубить ценную одежду? В ответ прозвучало молчание, можно было и не спрашивать. А потом он совершенно ужасно повредил руку. Кисть и запястье распухли и угрожающе посинели, словно по ним обухом топора колотили. С такой рукой он проходил несколько месяцев, отвечая на испуганные вопросы всегда одинаково: «Ничего страшного, это просто ушиб». – «А у врача-то был?» – «Был. Советуют носить руку на перевязи». И я опять позвонила Наташе. Она гневно ответила: «Вы – писательская организация, вот и лечите его. Может, в какой дом престарелых его примут!» Слава богу, Сашу Ананко приняли в дом престарелых, и он в относительном покое прожил последние месяцы. Правда, постоянно просил покурить и высказывал желание сбежать на волю.
Милосердная дочь часто навещала его, приносила фрукты, сигареты, минеральную воду. И заметила однажды, что отец теряет адекватность восприятия окружающего мира, путается в коридорах, не очень связно говорит.
Мой Макеев с юности дружил с Ананко. В 1966 году они оба стали участниками областного телевизионного конкурса молодых поэтов. Победил Макеев, но на дружбу это не повлияло. Саша ездил к Василию на родину, в Клеймёновку. Им даже с поезда пришлось прыгать. А когда я училась в Москве на ВЛК и присылала мужу с поездом продовольственные передачи, Ананко обязательно оказывался среди счастливчиков, встречающих посылку. Пировали они знатно на московских харчах! Однажды я спросила Василия, почему так произошло в жизни Ананко? Может, его мало в семье любили, женщины сторонились? Он рассмеялся: «Да ты что! Ананко был орёл, красавец. Дамочки по нему вздыхали тайком». В это верилось с трудом. Я чаще видела Александра не в лучшей форме. А в последние годы – и говорить нечего. Хотя на молодых фотографиях, в белой рубахе при бабочке, он выглядел очень импозантно. А если к этому прибавлялось «поэт» (в 60-е-то годы!), то можно себе представить… И ещё одна деталь: Саша в молодости занимался боксом, имел чуть ли не первый разряд.
Александра Семёновича Ананко проводили благородно. Семья постаралась. А после ко мне приехала Наталья и попросила помочь собрать все вышедшие книги отца: «Хочу, чтобы мои дети читали деда и гордились им».
Чем не достойный итог?
А жизнь… Куда же денешься! Она бывает разной, но итог всегда один. Лишь бы дети и внуки гордились и не забывали.
В подтверждение правоты многих, кто по достоинству ценил стихи Александра, видел его несомненный ум и несуетность натуры, кто не склонен подводить под общую черту высокий дар и низменные обстоятельства нескладной жизни, я привожу два его стихотворения, очень для него типичные.
Ковыли
1
Все та же здесь ветрам свобода,
Волнисто льются ковыли,
Но все-таки
Века и годы
Здесь не на цыпочках прошли.
Бывало, что земля дрожала,
Когда лилась клинков гроза,
И жала шашек остужала
Ночная сизая роса.
Земля курилась горьким прахом
В послевоенный год лихой,
И танк впрягался, точно трактор,
В упряжку ржавых лемехов.
Здесь робко будущие весны
Окликнул первый соловей…
Земля землею остается,
И человеком – человек.
Непросто вновь здесь жизнь возникла,
Но ясен день, и даль чиста.
И светится в траве гвоздика —
С папахи конника звезда.
2
То не белые снеги легли,
Не курятся поземкою заструги.
Снятся мне во степи ковыли,
Тень косая плечистого ястреба.
Чтоб я жил, понимая добро
Сердцем, не замурованным наглухо,
На судьбе моей выжгла тавро
Лиха послевоенного засуха.
Сединой,
Горькой солью земли,
Миражом отдаленной метелицы
Ковыли,
Ковыли,
Ковыли
По степи, зноем выжженной, стелются.
Снится степь, но не снится покой,
Снится зоркая высь соколиная.
Ковыли…
Возраст, видно, такой,
Что мне память виски заковылила.
Лили проливни,
Зной ли палил —
Жизнь сбывалась не щучьим велением.
Верю я, что не зря ковыли
Увенчали мое поколение.
Мир душе твоей, поэт Александр Ананко!
Март 2012
Волгоградец в Ашкелоне
Гуммер Иосиф Самуилович 15.09.1922 – 04.01.2011
Иосиф Гуммер стремился в Волгоград, чувствовал себя здесь по-домашнему, почти каждый год прилетая в гости из Ашкелона, и не скрывал, что скучает по городу на Волге, дорожит старыми знакомствами и дружбами. Его отъезд в Израиль по-человечески понятен: еще раньше Россию покинули дочь и внучка, и жизнь без них потеряла для него смысл.
Писатели-волгоградцы в большинстве своем спокойно отнеслись к смене Отечества одним из своих товарищей. Близких друзей, по причине ухода в мир иной, в писательском доме у Гуммера практически не осталось, а у более молодого поколения взгляд на эту ситуацию стал куда как либеральнее.
О жизни в Ашкелоне Иосиф Самуилович рассказывал охотно, не упуская случая похвастаться глянцевыми снимками красивого дома, где он обосновался, большой умной собаки у его ног, кактусов на открытой солнечной лоджии, а особенно – пенсионным обеспечением, в десяток раз превосходящим пенсии волгоградских стариков.
И мы искренне радовались, что хоть кому-то на белом свете живется вольно и сытно. Во всяком случае, Гуммер имел право на обеспеченную и защищенную жизнь в зрелые годы. О тех, кому такая жизнь не снилась – отдельный разговор.
Помню, в 2003 году я готовила литстраницу для февральского выпуска «Литературного Волгограда» при газете «Волгоградская правда». Показалось интересным свести на одной газетной полосе двух волгоградских прозаиков – Льва Колесникова и Иосифа Гуммера. Выбрав небольшие прозаические отрывки одного и другого, написала врезку к странице «Февраль, февраль – солдатский месяц…»
Привожу расширенную цитату из этой публикации.
«…Речь о писателях-ровесниках, фронтовиках – Льве Колесникове и Иосифе Гуммере. Первый родился 18 февраля 1923 года во Владивостоке, с детства бредил морем, мечтал стать капитаном дальнего плавания, но началась война, и военком направил его в летную школу.
Став летчиком-истребителем, Л. Колесников воевал, был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», отдал небу двадцать лет, а после войны в Корее уволился из армии и перебрался в Сталинград.
Герой Советского Союза М. В. Водопьянов посетовал по этому поводу: «…Отличный летчик, а сидит на земле».
Колесникову очень шло его гордое имя – Лев. Храбрец, галантный кавалер, дамский угодник, широкая душа, он был общей любовью нашей писательской организации и всех, кто его знал. Такие Львы сейчас на вес золота!
Писал в основном о небе: «Повесть о жизни авиаторов», «В первый самостоятельный полет», «Небо», «Линия поведения», «Крутой разворот», «Долина МИГов», «Летчица», «Прощание славянки», «На пути высоком», «Набор высоты», «Над уходящими тучами» и т. д.
Когда в феврале 1986 года Льва Петровича не стало (всего в 63 года!), я плакала так безутешно, словно понимала, что защитной отеческой силы в моей судьбе уменьшилось вдвое. А еще через несколько месяцев, и тоже шестидесятитрехлетним, умер мой отец. Это горькое совпадение поражает меня по сей день.
Зато с Иосифом Самуиловичем Гуммером я ссорилась по делу и без дела, пока он жил в Волгограде. И надо же такому случиться – стала скучать, даже горевать, когда в 1990 году он уехал с семьей в Израиль. На отдалении вдруг увиделось, понялось многое в этом необычном человеке – честность, прямота, чувство собственного достоинства, умение быть щедрым: с любой оказией из Израиля в Волгоград то духи пришлет, то косметику, то нездешней красоты серебряную подвеску. Думаю, не только по причине былой дружбы с моим мужем, но и по собственной душевной теплоте к некогда пожароопасной, а теперь остепенившейся Тане Брыксиной. Во всяком случае, в искренности Иосиф Самуилович отказать мне не может.
Иосиф Гуммер не воевал на Сталинградском фронте (его военные дороги были не менее опасными и горячими), но с 1929 года, с семилетнего возраста, всей жизнью оказалось связан с нашим городом, с его черными и светлыми днями. Связан и сегодня – памятью, родственными отношениями, литературной и журналистской судьбой, любовью к Волгограду.
15 сентября 2002 года Иосифу Гуммеру исполнилось 80 лет, а мы… забыли, не поздравили. В письме от 20 октября Иосиф Самуилович прощающее попенял нам за этакую «замотанную» забывчивость.
Хоть и с опозданием, что лучше, чем «никогда», я позволю себе официальное поздравление в адрес юбиляра от имени волгоградской писательской организации и газеты «Волгоградская правда»:
«Дорогой Иосиф Самуилович, будьте здоровы, будьте спокойны, не храните в сердце горьких обид на город, который вас помнит. Понимаем, что историческая родина стала главной для вас, но родина фактическая навечно остается вашей родиной. Волга жива и здорова, степь пахнет чабрецом и полынью; по улицам проносятся зеленоглазые такси, а во дворах ребятишки по-прежнему играют в казаков-разбойников. Они ваши по справедливости, и никто не в силах это изменить. Приезжайте в гости. Мы ждем вас.
Для читателей «Литературного Волгограда» была выбрана глава из книги И. Гуммера, изданной в Ашкелоне. Книга называлась
«Лучшее слово – дорога…» По сути, она о нас, о российском времени и пространстве – двадцать пятая книга в литературной биографии писателя.
И это замечательно, что Лев Колесников и Иосиф Гуммер, волгоградские писатели, ветераны Второй мировой, встретились на страницах «Литературного Волгограда», объединенные судьбой поколения, близкими датами восьмидесятилетий.
Дорогие друзья-читатели, вспомните тех, кого уже нет с нами, тех, кто волею судьбы далеко сегодня, но не разлюбил нас, обратите внимание на тех, кто живет рядом и во славу добра и гармонии поет высокую песню бытия.
Февраль – месяц солдатский, февраль – месяц короткий, февраль – последний месяц зимы. Самое время отдать душевные долги и улыбнуться теплеющему предвесеннему солнцу.
Все еще впереди. Все еще впереди…»
Да, тогда казалось, что у всех все еще впереди – жизнь, дорога, победы и свершения. Но для многих оказалось, как у поэта Бориса Примерова:
У меня впереди все что хочешь,
Даже смерть у меня впереди!
О том, что Иосиф Самуилович Гуммер в возрасте 89 лет умер в Ашкелоне 4 января 2011 года, я узнала в день похорон известного волгоградского фотохудожника Николая Антимонова 7 января. Стало еще более мучительно и горько, ибо в последние месяцы с белым светом распрощалось много близких нам людей. Гуммер был не последним из них. Во всяком случае, я всегда относила его к поколению писателей-отцов, родившихся в первые десятилетия XX века, прошедших нелегкий жизненный путь, ставших свидетелями и участниками глобальнейших событий новой истории нашего Отечества. Но! Не время принадлежит человеку, а человек времени. Оно по своему усмотрению выбирает очередного, оставляя живым скорби и размышления.
Вот не стало Иосифа Самуиловича Гуммера, и многое, связанное с ним, начинает видеться в ином свете, даже полный разрыв отношений, произошедший за несколько лет до этого дня. Но об этом позже. Сначала некоторый набор документальных сведений о нем – для справки.
В архивных бумагах писательской организации осталась тоненькая папка Гуммера. В ней полтора десятка пожелтевших листков: личная карточка учета, выписка из постановления секретариата Союза писателей РСФСР от 5 февраля 1971 года о приеме его в члены Союза писателей, характеристики, несколько фотографий, оставленная за ненадобностью в Израиле волгоградская трудовая книжка с весьма небольшим количеством «принят», «уволен».
Последняя датирована маем 1976 года: уволен из общества любителей книги при Волгоградском областном отделении ДОЛК по ст. 31 КЗОТ РСФСР по собственному желанию. Подпись: Н. Грудева.
Из автобиографии Гуммера вычитала, что с 1942 по 1946 год он учился в Военном институте иностранных языков Красной Армии, стал переводчиком со знанием итальянского языка. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР».
В справку о произведениях рукой Иосифа Гуммера записаны следующие книги: «На новых землях» – очерки, 1954, «Это было в Калаче» – повести, 1959, «Герои великой битвы» – очерки, 1960, «Останется добрый след» – повести, 1961, «Трамвайная остановка» – рассказы, 1964, «В нашем дворе» – повесть, 1967, «Уходят в ночь дозоры», «Железный ветер в лицо», «Молодость проживается дважды», «Всегда сначала», «Зеленые погоны», «Перекличка», «Пограничные сутки», «Спроси себя строго». Книг, изданных в Ашкелоне, в перечне, разумеется, нет.
Ловлю себя на мысли, что громкой писательской судьбой здесь, увы, не пахнет. Но это не в упрек писателю. Большие имена и большие книги вписаны в иные скрижали. В гуммеровские книги, к своему стыду, я внимательно не вчитывалась – отпугивали названия, очевидный дух и пафос советской эпохи. Насколько он искренен был в своих произведениях, судить не берусь. Пусть дотошные исследователи прошлого оспорят мои сомнения. Но из головы не идет иммигрантская горячность Гуммера в оценках прожитой им в России жизни. Эти оценки не льстят нашему Отечеству. Главная причина, надеюсь, понятна. Она и послужила следствием нашего взаимного отчуждения. В ответ на столярные упреки в плохом отношении российского общества к евреям я написала ему о судьбе моих предков-крестьян, живших беспаспортно в деревенских избушках с земляными полами и не имевших ни малейшей возможности выбиться в юристы, дантисты и скрипачи. Гонимость «Богом избранного народа» мне всю жизнь кажется гипертрофированной надумкой. Может, опять же, по крестьянскому малознанию?
Гуммер отреагировал более чем остро, даже издал в Ашкелоне брошюру с нарисованной на обложке паутиной, содержание – соответствующее. Многим там досталось, мне – по особой статье. На том и закончилась дружба. Но я не отрекусь ни от одного доброго слова в его адрес, ни от одной признательной мысли о нем. В любом случае, он волгоградский писатель, ровесник моего отца, фронтовик. Гуммеровские боли имели место быть. Сын своего народа – он его и защищал. Только при чем здесь все мы, не имеющие отношения к ужасам немецкого фашизма, к Бабьему Яру и кучке современных российских мерзавцев с бритыми головами и свастикой на рукавах? Я вроде бы как оправдываюсь? Да нет же! К Иосифу Гуммеру я относилась с искренним расположением, помнить его буду без принуждения, и эти страницы пишу ради общего братства писателей-отцов Волгограда, ставших волею судьбы и времени героями и обитателями книги «Небесный ковчег». Считаю, он имеет право занять свое место в этой книге. Бог даст – она дойдет каким-то образом до Ашкелона, до вдовы писателя, светлейшей русской женщины Ирмы Аркадьевны Родионовой, до дочери Тани, до внучки. Пусть они судят по-справедливости и не обижаются на нас.
Неожиданная мысль: в «Небесном ковчеге», как и в «ковчеге» надмирном, братья-писатели встретят Гуммера, пожмут руку, растолкуют что и как. Думаю, он не останется в большой обиде.