Читать книгу "Ролан Барт. Биография"
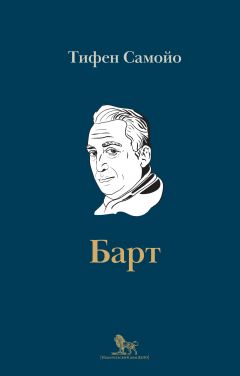
Автор книги: Тифен Самойо
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 6
Побеги
В предыдущей главе дана хронология лечения в санатории с 1942 по 1946 год с рецидивами, переездами из одного места в другое, медленным прогрессом, так что в конечном счете Барт не знает, сможет ли он полностью вылечиться. Теперь необходимо обратиться к материи того периода, определяющего для его мысли и письма, для разработки методов, которые со временем станут его собственными. Обособленное время санатория придает специфическую плотность существованию: ничего особенного не происходит, но опыт изоляции и уединения развивает автаркические практики отношения к себе и книгам, которые заставляют постоянно обращать внимание на знаки. Санаторий был еще и местом альтернативной социальной жизни – ни семейной, ни коллективной: это опыт маленького сообщества, где все живут вместе в обществе, отрезанном от остального мира. В эти годы Барт также публикует свои первые тексты в журналах. То, что его официальное вступление на стезю письма происходит именно здесь, не лишено интереса: это накладывает на публикацию, равно как и на приведшие к ней размышления, отчетливый отпечаток обособленности; с самого начала задает форму атопии, отсутствия постоянного места, что определяет его творчество и его оригинальность.
Больное тело
До того как Барт попал в санаторий, его тело был длинным и худым. Он думал, оно будет таким всегда, постоянно и неизменно. «Я был сверххудой конституции всю мою юность, меня даже в армию не взяли, потому что у меня не было положенного веса. И я всегда до этого момента жил с идеей, что буду худым вечно»[277]277
«Entretien [avec Laurent Dispot]», in Playboy, mars 1980 (OC V, p. 938).
[Закрыть].
В Лейзине после второго пневмоторакса он признался, что его телосложение полностью изменилось. «Был худым, а стал (или думал, что стал) полным»[278]278
Ролан Барт о Ролане Барте, Ad Marginem, 2002, с. 38.
[Закрыть]. Тревожная трансформация по ряду причин: меняется образ себя, приходится «заботиться» о себе. В течение всей жизни Барт следил за собой, регулярно взвешивался, придерживался диет. В ежедневниках каждый день, когда он ограничивал себя в еде, записано количество калорий, количество граммов, набранных или сброшенных. Диета – это измерительная система, подсчитывается все. Но диета – это еще и устав сродни религиозному:
Это религиозный феномен, «религиозный невроз». Сесть на диету – это почти как пройти обращение. С теми же проблемами рецидива, сопровождающегося возвращением. С определенными книгами, служащими своего рода евангелием, и т. д. Диета мобилизует острое чувство вины – она угрожает вам, она рядом в любое время дня[279]279
Процитированное выше интервью (OC V, p. 938). В тексте о Брилья-Саварене Барт возвращается к настоящей «аскезе», которую представляет собой диета для похудания («Lecture de Brillat-Savarin», OC IV, p. 817–818).
[Закрыть].
Это означает, что тело становится объектом анализа, его можно читать как текст. С началом болезни тело превращается в набор знаков. Его проверяют, взвешивают, измеряют, просвечивают рентгеном, вскрывают, разделяют. В 1902 году специалист по туберкулезу доктор Беро указывает на одержимость подобными измерениями:
Есть что-то оригинальное и иногда забавное в этой педантичной, почти религиозной одержимости самонаблюдением. Больные сами рисуют графики своей температуры, ждут, когда придет время «их температуры», с нетерпением наблюдают, поднялась она или снизилась, стабильно состояние или есть прогресс… Наряду с температурой взвешивание – важный психологический фактор для пациента туберкулезного санатория. Для него весы как второй градусник, представляющий цель одной или двух недель усилий, и их приговора ждут с нетерпеливым волнением[280]280
M. Béraud, Essai sur la psychologie des tuberculeux, thèse de médecine, Lyon, 1902, cité par Pierre Guillaume, Du désespoir au salut. Les touberculeux aux XIX-e et XX-e siécles, op. cit., p. 262.
[Закрыть].
Подпись к иллюстрации температурного графика в книге «Ролан Барт о Ролане Барте», гласящая: «Туберкулез в стиле ретро», в скобках иронически предлагает такой способ понимания тела и разворачивания его как пергамента: «Каждый месяц к старому листу подклеивали новый; к концу их накопилось несколько метров: гротескный способ вписывать свое тело во время»[281]281
Ролан Барт о Ролане Барте, с. 43.
[Закрыть]. Если температура как метроном, отмеряющий время, – мотив многих рассказов о санатории (пристальное наблюдение за ней связывается у Томаса Манна с хорошей интеграцией в жизнь санатория, где она становится главной метафорой времени[282]282
«Я ничего не имею против того, [сказал Иоахим], чтобы мерить температуру четыре раза в день. Тут только и замечаешь, какая, в сущности, разница – одна минута или целых семь, при том что семь дней недели проносятся здесь просто мгновенно» (Томас Манн, Волшебная гора, с. 89).
[Закрыть], надо признать, что Барт с самого начала гораздо больше педалирует аналогию между текстом и телом. Запись цифр для него не только возможность зафиксировать растянутое, циклическое и монотонное время изолированной жизни; это еще и знак, способ предъявить, фрагментировать и продлить себя. Она выявляет тело-историю и тело-текст. В первом тексте о Мишле, опубликованном в 1951 году в журнале Esprit и основанном на внимательном чтении его работ в санатории, развивается мысль об истории, в которой присутствуют смена и растекание, поддерживаемая идеей истощения, обострившегося по случаю болезни. «Порча для него – до такой степени знак исторического, что его История сохранила инертность как место распада, а следовательно, значения»[283]283
Michelet, l’Histoire et la mort, in Esprit, avril 1951 (OC I, p. 109).
[Закрыть]. Собственная история для Барта выражается через недомогания. «Он всегда жаловался на головную боль, тошноту, насморк, ангину», – рассказывает один из его друзей[284]284
Antoine Compagnon, «L’entêtement d’écrire», in Critique, «Roland Barthes», p. 676.
[Закрыть]. Неподвижное тело – это, таким образом, тело, которое лучше дает себя прочитать: его не затрагивают внешние противоречивые потоки, оно становится чистым местом наблюдения за движением, ведущим от жизни к смерти. Это «достоверное тело», как текст для арабских эрудитов, если верить «Удовольствию от текста», в котором с удовольствием воспроизводится это «восхитительное выражение»: не тело анатомов, говорящее о науке, не эротическое тело, преследующее собственные идеи; но тело, прочитываемое в разных разрезах, обменивающееся качествами с текстом, который есть «анаграмма тела»[285]285
«Удовольствие от текста», Избранные работы. Семантика. Поэтика, Прогресс, 1989, с. 473–474.
[Закрыть]. Итак, внимание к знакам, проявлявшимся в различных лечебных учреждениях, где Барт провел почти пять лет юности и где он частично сформировался, имело два главных следствия в мысли о теле: в первую очередь, это больше не одно тело. Оно сегментировано на несколько разных тел, которые отчасти определяют аналогию между телом и текстом. «Таким образом, существует несколько тел»[286]286
Encore le corps, телевизионное интервью с Тери Веном Дамишем 13 октября 1978 года, опубликовано в Critique, 1982 (OC V, p. 561).
[Закрыть]. И «Которое тело? Ведь у нас их несколько»[287]287
Ролан Барт о Ролане Барте, с. 71; «Удовольствие от текста», с. 473.
[Закрыть]. В книге «Ролан Барт о Ролане Барте» фрагмент «Косточка» рассказывает об этом рассеянии, о фрагментировании тела на несколько частей. Вспоминая об удалении небольшого куска ребра во время второго пневмоторакса в Лейзине в 1945 году, он размышляет о своем отношении к реликвии, одновременно отстраненном, ироничном – сказывается протестантское воспитание – и вызывающем смутное беспокойство. Бесполезно валявшаяся вместе с другими «ценными» вещами в ящике секретера, кость была однажды выброшена с балкона на улице Сервандони: само описание колеблется между романтичным образом развеянного праха и кости, брошенной собакам. Фрагмент тела – это одновременно объект благоговейной привязанности и излишек, отброс; или перебор, или недобор. Анекдот сообщает нам и о том (и это второе откровение мысли о теле), что тело – чистая внеположенность: знаки, видимые снаружи и со стороны, выходят за рамки больного нутра. Поразительно, например, что Барт не считает легкие важным органом. Обсуждая их роль в пении, он позднее назовет их «глупым органом (легкие кошек!)», которые «раздуваются», но «не эрегируют». Впрочем, он отвергает идею, что пение – это искусство дыхания[288]288
Ролан Барт, «Зерно голоса», НЛО, № 148, 2017. Текст – это еще повод превознести исполнение Панзера́ в пику исполнению Фишера-Дискау: «У Фишера-Дискау я слышу только легкие, но никогда не слышу язык, глотку, зубы, слизистые оболочки или нос. Все искусство Панзера́, напротив, – в буквах, а не в легких (простая техническая особенность: когда он делает паузу внутри фразы, его дыхания не слышно)».
[Закрыть]. Наконец, тело – это место фантазма, откуда происходит другая причина аналогии. Вот что понял Мишле, вознамерившись воскресить прошлые тела и сделать из Истории обширную антропологию. Находиться в этом месте, то есть в месте фантазма, означает одновременно отказываться занять место Отца, «мертвого по определению»[289]289
Ролан Барт, «Лекция», Избранные работы, с. 567.
[Закрыть], и входить в подвижное, изменяющееся, живое пространство. Стесненное тело, таким образом, – важный инструмент открытия тела. Сегментированное, разбросанное, рассеянное в пространстве, оно в то же время продолжается в историческом времени, становясь современником тела Ганса Касторпа, когда тот приезжает в санаторий в «Волшебной горе», и современником юных тел настоящего: его можно перекомпоновывать, так как можно разобрать на части.
Итак, больное тело – это первый объект исследования, оно благоприятствует самоописанию. Размышляя о «Лексике автора», Барт подумывал было написать раздел «Лекарства», где, как ему представляется, он мог бы восстановить портрет человека по его фармакопее, лекарствам, которым тот остается верен. Результат этой проекции тела на все, что призвано его лечить, принимает форму картины Арчимбольдо: «он воображает всего себя состоящим из лекарств, голову – из таблеток аспирина, желудок – из пакетиков бикарбоната, нос – из спреев и т. д.»[290]290
Le Lexique de l’auteur, p. 306.
[Закрыть] Такой автопортрет, составленный из того, что лечит, подчеркивает также и то, что отравляет. Здесь прочитывается парадокс болезни, которая приближает к телу, учиняя над ним жестокое насилие, одновременно освобождает и принуждает его. В то время как театр отдалял тело, подчеркивая голос, болезнь его приближает, нанося другие раны: разбросанное, фрагментированное тело, конечно, легко прочитывается, но от этого оно становится монструозным. Таким образом, это приводит к некоторому замыканию в себе, связанному с одержимостью смертью, которую влечет за собой внимание к знакам и разделение собственного тела на части. «Смерть = то, о чем думают, соблюдая табу на вербализацию»; «болезнь, созерцательное приближение к смерти»[291]291
Ролан Барт, Как жить вместе, Ад Маргинем Пресс, 2016, лекция 9 февраля 1977 года, с. 107.
[Закрыть]. В этом смысле «Волшебная гора» стала не просто вымыслом о позитивном опыте, но книгой, подходящей под категорию «Надрывности», «Душераздирающего», о которой Барт говорил на втором сеансе вводной лекции семинара «Как жить вместе»:
Во вступительной лекции я сказал о своем отношении к этой книге: а) оно проективное (ибо: «это – то самое»), б) на втором уровне – отчуждающее [по отношению к сегодняшнему дню]. 1907 / 1942 / сегодня – поскольку эта книга делает меня телесно ближе к 1907, чем к сегодняшнему дню. Я становлюсь историческим свидетелем этого вымысла. Для меня это – поразительная, мучительно тоскливая, почти невыносимая книга: очень сильная разработка человеческих взаимоотношений + смерть. Категория Надрывности. Мне было плохо все время, пока я читал этот роман – или перечитывал (так как прочел его перед болезнью и сохранил довольно смутное воспоминание)[292]292
Как жить вместе, лекция 19 января 1977 года, с. 64.
[Закрыть].
Опыт отделенности, так великолепно представленный в романе Томаса Манна, настолько ярок для того, кто реально его переживает, что плохо согласуется со временем «внизу» у подножия горы или со временем повседневной социальной жизни. Отсюда затруднение с возможностью хотя бы что-то сообщить об этом опыте, которое Барт описывает своим корреспондентам, столь печальное, пишет он, для тех, кто находится в добром здравии. «Ах, какая пропасть разделяет здоровых и больных», – сетует он в письме Роберу Давиду 16 января 1946 года. Отсюда ощущение потерянности в мире и жизни вполсилы. «Все печали происходят здесь от того, что чувствуешь себя более или менее отделенным от чего-то»[293]293
Письмо Филиппу Реберолю, 26 марта 1942 года. Фонд Филиппа Ребероля, IMEC. К этой теме он возвращается в курсе «Как жить вместе»: «(Ганс Касторп после нескольких лет санаторного лечения приходит к такой «мертвой точке»: не может больше вкладываться в болезнь – и даже в смерть), „быть на грани самоубийства“ […]: это мрачная безнадежность» (с. 71–72).
[Закрыть]. Прилагательное déchirant – «душераздирающий», «надрывный» часто встречается в переписке, особенно когда Барт упоминает «маман». «Ее письмо исполнено надежды, что я приеду. У меня сердце разрывается»[294]294
Письмо Роберу Давиду, 28 сентября 1945 года. Фонд Ролана Барта, BNF, NAF 28630, частный фонд.
[Закрыть]. Позднее это прилагательное (одно из ключевых слов в его творчестве) характеризует отношение к литературе: «Ведь, практикуя сверх всякой меры устарелую форму письма, я тем самым говорю, что люблю литературу, люблю до боли, тогда как она угасает»[295]295
«В раздумье», Ролан Барт о Ролане Барте, с. 260.
[Закрыть]. Так, от матери к литературе, от санатория к нескончаемому выздоровлению, которое следует за смертью Антриетты Барт, выписываются знаки двух душераздирающих любовей, может быть, одинаковых, а может быть, разных: эти две «душераздирающие любви» и их встреча – так или иначе, два самых мощных знака, организующих всю жизнь Барта.
Жизнь в санатории может, несмотря ни на что, быть насыщенной и глубокой, если быть совершенно открытым ко всему. «Надо упразднить внутренние воспоминания, эти мании души, обеспечивающие непрерывность существования. Надо избавиться от всех сравнений прошлого – дома, матери, друзей, парижских улиц, живого мира, где все возможно, – с настоящим, настоящим, наполненным людьми, с которыми придется долго жить, не будучи связанным ничем, кроме болезни, которая, впрочем, имеет совершенно разные нюансы и интенсивность»[296]296
Письмо Филиппу Реберолю, 26 марта 1942 года. Фонд Филиппа Ребероля, IMEC.
[Закрыть].
Склонность к мечтательности и восприимчивость к литературе от этого только усиливаются, особенно в периоды полной неподвижности, заставляющие переживать прошлое так спонтанно и ясно, что кажется, будто Пруст в буквальном смысле «проживается». Как писал Макс Блехер, еще один завсегдатай санаториев, страдавший болезнью Потта – туберкулезом позвоночника и потому большую часть своей короткой жизни прикованный к постели (несколько лет он провел в Берке, а потом в Лейзине), болезнь, затворничество в палате ведут к появлению трещины в тонкой перегородке, отделяющей определенности реального мира от неопределенностей. «Вещи были охвачены настоящей манией свободы; они раскрывали свою независимость друг от друга, независимость, которая была не просто изоляцией, но экзальтацией, экстазом. […] В высший момент развязка кризиса наступала следующим образом: я парил за границами мира – состояние, одновременно приятное и болезненное. Едва я слышал звук шагов, палата тут же возвращала свой прежний облик»[297]297
Max Blecher, Aventures dans l’irréalité immédiate, trad. roumain Marianne Sora, Maurice Nadeau, 1989 [1935], p. 33. См. также дневник, который он вел в санатории в Берке «Зарубцевавшееся сердце». О похожих изменениях восприятия можно прочесть в «Санатории под клепсидрой» Бруно Шульца.
[Закрыть].
Ролан Барт не пишет о параллельных мирах, рожденных постельным режимом и одиночеством, в этих категориях. Но, конечно, когда он говорит, что ему кажется, будто он «проживает» Пруста, он обращается не только к непроизвольной памяти, но и к ощущениям, испытываемым в промежуточных состояниях, например к ощущению порядка миров, которые удерживают вокруг себя, когда спят, или ощущению резких перемен в комнате в момент пробуждения. Комната на долгое время становится особым пространством, важным местом. «В самом деле, роскошь комнаты измеряется ее свободой: это структура, исключенная из требований нормы, власти; вопиющий парадокс: уникальное как структура»[298]298
Как жить вместе, лекция 16 февраля 1977 года, с. 119.
[Закрыть]. Даже уменьшенная до размеров кровати и столика рядом с ней, как в санатории, как в комнате тетушки Леонии из романа «В поисках утраченного времени», даже подчиненная власти метафоры наготы[299]299
Подчеркнуто Бартом через пример с комнатой аббата Фожа в «Завоевании Плассана» Золя: «Ни бумаг на столе, ни вещей на комоде, ни платья на стенах: голое дерево, голый мрамор, голые стены» (Там же, с. 118).
[Закрыть], комната – это тайное место (место первичной сцены) и место тайн, где вы прячете ваши сокровища. Она легко становится пространством интроспекции и соединения, по ту строну отделения. Когда комната общая, как в Сент-Илере, она способствует связям и укрепляет их; когда отдельная, как иногда в Лейзине, она дает убежище, располагающее к созерцанию. Уже тогда внимательный к «проксемии», к тому вниманию, которое уделяется отношению существа с его непосредственным окружением, к устройству рамки для самых обыденных жестов, Барт очень тщательно располагает предметы. «Я живу между двумя столиками, – пишет он Роберу Давиду в ноябре 1945 года, – с моей сумкой, моим Мишле, моими часами, моей коробкой карточек»[300]300
Письмо Роберу Давиду, 24 ноября 1945 года. BNF, NAF 28630, частный фонд.
[Закрыть]: все это элементы, организующие пространство и отмеряющие время. Комната – это также рамка для хорошей жизни внутри плохой, которая гарантирует определенную автономию, упорядочивает занятия, спасающие от безделья: чтение, написание писем, просто письмо.
«В санатории я был счастлив»
Несмотря на изоляцию и заточение, болезнь, отрезавшую его от мира и будущего, годы в санатории имели и положительную, светлую сторону. «В санатории, за исключением последних месяцев, когда я чувствовал, что система меня захлестнула, что я ею переполнен, я был счастлив: я читал, посвящал много времени и сил друзьям»[301]301
«Réponses», интервью, записанное с Жаном Тибодо, первая публикация в Tel Quel, 1971 (OC III, p. 1026).
[Закрыть]. Слово «счастье» часто повторяется в письмах, особенно в связи с чтением или чувством полноты самосознания: «Счастье, возможно, – это то, в чем я разбираюсь лучше всего на свете»[302]302
Письмо Роберу Давиду, 19 января 1946 года. Курсив Барта. – Т. С. BNF, NAF 28360, частный фонд.
[Закрыть]. Лечебные центры предлагают альтернативу социальной жизни, к которой Барт приспособился и о которой размышляет: «Если другие болезни вырывают из общества, то туберкулез загоняет в особое маленькое сообщество вроде племени, монастыря и фаланстера: со своими ритуалами, запретами, покровительством»[303]303
Ролан Барт о Ролане Барте, с. 43.
[Закрыть]. В переписке появляются первые мысли о «жизни вместе», еще не до конца сформулированные в этот период. Семейное одиночество очень трудно дается мальчику, который был так близок с матерью, а теперь с нею разлучен. Из-за оккупации Анриетте Барт нелегко навещать сына. Они переписываются почти каждый день, но письма не компенсируют ее отсутствия. Барт в связи с этим говорит об утраченном единстве. Но в санатории царит дружеская атмосфера, позволяющая завязывать другие связи, особенно с медицинским персоналом: мадам Ларданше, докторами Кляйном, Коэном, Дуади и Бриссо (который наблюдает его в Париже). Он обсуждает с товарищами сравнительные качества разных докторов, особенно часто с Георгом Канетти, который сам врач по профессии. Несмотря на несколько вынужденный характер этой общительности, заставивший Пьера Гийома написать: «В санатории жизнерадостность – коллективный императив, проявление группы»[304]304
Pierre Guillaume, Du désespoir au salut. Les tuberculeux aux XIX-e et XX-e siècles, op. cit., p. 264.
[Закрыть], многообразные развлечения, которые предлагало это место, воспринимаются позитивно, хотя Барт умеет подчеркнуть свое отличие, особенно в том, что касается одежды[305]305
Андре Лепёпль, товарищ по палате в Сент-Илере, рассказывает, что «в первый же вечер, во время отхода ко сну, раздевание Барта представляло захватывающий спектакль. Он появился одетый не в классическую пижаму, как у всех, а в широкую белую рубашку с длинными рукавами, воротничок и манжеты которой были вышиты красной нитью; рубашка заканчивалась двумя длинными фалдами. […] Я решил in petto, что он утверждает свое безразличие к заведенным порядкам, что мне показалось оригинальным и симпатичным» (André Lepeuple, «Chambre 18. Témoignage», in Revue des sciences humaines, № 268, 4 / 2002, p. 143–150, p. 144).
[Закрыть], а также чтения и непринужденной манеры в спорах. Он активно участвует в жизни группы, ходит смотреть кино по субботам и слушает радио. В июле 1943 года его избрали в Ассоциацию студентов санаториев, где поручили заниматься библиотекой. Ему нравились совместные трапезы, которые будут подробно проанализированы как «есть вместе» (общительность как сотрапезничество) в лекциях 1977 года о маленьких сообществах. Хотя практика перекармливания туберкулезных больных вышла из употребления в 1920-е годы и роскошные приемы пищи санатория-отеля в Давосе были больше не актуальны, особенно в контексте войны[306]306
Перекармливание было частью мифологии санаториев. Когда Кафка собирался поехать в санаторий в 1924 году, он боялся «ужасной навязываемой там необходимости принимать пищу». «Волшебная гора» буквально ломится от описаний роскошных обедов, почти отвратительных в силу своего изобилия.
[Закрыть], столовая способствует новым знакомствам. «Есть-вместе – криптоэротическая сцена, где много чего происходит», связанного с переменой места и сверхдетерминацией удовольствий. Совместная трапеза может быть знаком возрождения, vita nova. Каждое улучшение состояния измеряется набранным весом («у меня нет бацилл уже два месяца, и я начал регулярно полнеть»[307]307
Письмо мадам Ребероль, матери Филиппа, 23 января 1944 года. Фонд Филиппа Ребероля, IMEC.
[Закрыть]); согласно анализу, сделанному в курсе «Как жить вместе», больных в «Волшебной горе» закармливают, чтобы они могли родиться заново вне болезни, «буквально пичкают, чтобы сделать из каждого нового человека»[308]308
Как жить вместе, лекция 30 марта 1977 года, с. 206.
[Закрыть]. Это возрождение, образующее сюжетную линию многочисленных историй (начиная с «Силоама» [1941] Поля Гадена: герой романа, Симон, превратил санаторий, находящийся одновременно над и вне остального мира, в драматическое пространство изменения и пробуждения самосознания), пережил и сам Барт. В мае 1942 года, после всего нескольких месяцев, проведенных в Грезивудане, он описывает особое состояние, в котором смешались обостренное восприятие, воспоминание и полнота ощущений:
Я смотрел на долину, где, я знал, жили другие люди, где угадывал чудо тел и взглядов. Как описать тебе эту распыленную субстанцию, этот тяжеловесный свет, погрузивший в голубоватый сон долину? Как я тебе уже сказал, было жарко; ветер, свежий, как шелк, опьянял, под его действием перед моим мысленным взором проходили все лета прошлых дней, те, когда и я был ребенком, перебиравшим гравий под кустами гортензий в байоннском саду; те, когда я был молодым человеком, у которого в горле пересыхало от любви, совершенно, телом и душой, погруженным в приключение (я вкладываю в это слово страшную серьезность). В глубине моей комнаты тихо играл квартет. […] Я не знаю, могут ли живые – я имею в виду здоровых, поскольку сам я полуживой – настолько чувствовать жизнь, обнаженную, трепещущую, если хочешь, когда не надо ни действия, ни любви, чтобы заставить ее проявиться, обозначиться. Кресло, окно, долина, музыка – и вот оно счастье, жизнь входит в меня отовсюду, хотя я даже не пошевельнулся: мне было достаточно моих неподвижных чувств. И кажется, что, вынужденные прятаться из-за болезни, мои чувства меньше отпугивали жизнь, и она приходила к ним доверчиво, со своей рутиной, помпой, сокровенной красотой ее сути, возможно, невидимой тем, кто не настолько хрупок, кто сильнее, кто пытается ее схватить[309]309
Письмо Филиппу Реберолю, 22 мая 1942 года. Фонд Филиппа Ребероля, IMEC.
[Закрыть].
Компенсацией за затворничество и разлуку становится более острое осознание, придаваемое ими вещам, и это может служить утешением, отрадой, предполагая своего рода согласие с жизнью.
Два главных опыта Барта в санатории – это дружба и чтение. «Первый опыт – опыт дружбы: вы живете годами с людьми вашего возраста и часто делите комнату на двоих или на троих. Вы видитесь каждый день, и глубокая эмоциональность, которая развивается в этой среде с ее радостями, проблемами и даже со всем ее романическим аспектом, невероятно поддерживает»[310]310
«Entretien avec Jacques Chancel», 17 février 1975, первая публикация в Radioscopies, Laffont, 1976 (OC IV, p. 900).
[Закрыть]. Он познакомился с Франсуа Риччи, Георгом Канетти и, самое главное, с Робером Давидом, который будет значить для него бесконечно много. В Сент-Илере он живет в палате № 18 с Андре Лепёплем, студентом-медиком, и Дан Хок Ханом, студентом Высшей школы политических исследований. В Швейцарии он подружится с Андре Моссе, Розель Хатцфельд и Жоржем Фурнье, а семья Сиг постоянно приглашала его на выходные; с ними отношения были не такими близкими, основывались преимущественно на деньгах. Робер Давид, с которым они познакомились в Сент-Илере в 1943 году, постоянно навещал его в эти годы: первую реабилитацию он проходил в декабре 1944 года, затем присоединился к Барту в 1945 году в Лейзине, через некоторое время после того, как Барта туда перевели. 17 сентября 1945 года он уехал из Швейцарии в Нёфмутье, где проходил реабилитацию. Дружба с этим молодым человеком на восемь лет его моложе – Давиду только исполнился двадцать один год, когда они познакомились, – довольно быстро переросла в любовь и заняла свободное место в его сердце, в котором смерть Мишеля Делакруа оставила глубокую рану[311]311
Переписка с Георгом Канетти показывает, что до знакомства с Давидом Барт питал сильную и длительную любовь к другому молодому человеку.
[Закрыть]. Барт довольно быстро пригласил его стать соседом по палате, рассказал о своих любимых авторах и своих музыкальных пристрастиях. В периоды разлуки, когда лечение заканчивалось, начиналась активная переписка; из нее становится понятно, что любовь Барта сохранялась, хотя Робер Давид не отвечал на его страсть так, как ему хотелось. «Я не думаю, что ты любишь меня достаточно, чтобы принять мою любовь; ей суждено пропасть втуне. Я несчастен, мой дорогой; я выбрал тебя, привязался к тебе, в тебе мое счастье…»[312]312
Письмо Роберу Давиду, 5 декабря 1944 года. BNF, NAF 28630, частный фонд.
[Закрыть] Одна из постоянно повторяющихся тем его писем – сожаление, что столь сильные дружеские чувства, которые он испытывает к некоторым людям, не могут получить чувственного продолжения и найти себе социальное выражение. В ноябре 1943 года он пишет Филиппу Реберолю, имея в виду его самого, а также Робера Давида:
Пойми и прости то, что я тебе скажу, но я жалел тогда, охваченный чистой эмоцией, что такая прекрасная, такая сильная дружба между двумя юношами, такими как мы, по заповедям Господа, природы или общества, никогда не сможет возвыситься до любви, которая освободила бы нас от необходимости совершать ошибки, искать что-то другое в жизни, поскольку это вершина того, чего можно желать и для чего мы пришли на землю. В моей судьбе есть такие тяжкие невозможности, что я живу только ради одной-двух привязанностей, таких как твоя. Без этих связей только механика заставляла бы меня жить, и жить всегда среди таких потрясений, что рано или поздно она бы преждевременно сломалась.
Переписка с Робером Давидом очень отличается от переписки с Реберолем: Барт гораздо меньше обсуждает искусство и литературу, но в своих почти ежедневных многостраничных письмах на все лады говорит о чистоте и силе своих чувств. «Чем больше я знаю, тем больше чувствую, что люблю тебя без обмана, и чувствую, что в этом чувстве мое спасение»[313]313
Письмо Роберу Давиду, 8 декабря 1944 года. BNF, NAF 28630, частный фонд.
[Закрыть]. Скоро он начинает противопоставлять «дневного Давида», который держит его на расстоянии, и «ночного Давида», который умеет его понять и иногда откликнуться на его любовь. «И хотя ночной Давид вызывает во мне такое пронзительное движение дружбы, что я хотел бы, чтобы он принял меня в свои объятья до конца дней, целиком, со всем, что во мне есть, я понимаю, что дневной Давид, заставляющий меня страдать, тоже требует от меня любви и уважения, и я поручаю себя обоим – если они оба желают меня»[314]314
Письмо Роберу Давиду, 10 декабря 1944 года.
[Закрыть]. Едва ли это настоящий диалог; вся эта переписка образует как бы длинный монолог, тем не менее обращенный к тому, кто придает смысл его ослабевшей жизни.
Жизнь для меня имеет смысл, она стоит того, чтобы жить; есть цель, и эта цель требует усилий. […] Во-первых, хотеть выздороветь. Затем подготовить свое возвращение, то есть, например, неустанно работать, чтобы иметь возможность предложить тебе что-нибудь из плодов моего ума. […] Мишле наберет обороты, работа ускорится десятикратно благодаря постельному режиму, презрению других и любви одного-единственного[315]315
Письмо Роберу Давиду, ноябрь 1945 года.
[Закрыть].
Однако с несколькими другими молодыми людьми у Барта изначально установились более плотские отношения. Вокруг него складывается небольшой кружок, туда входят Федоров, музыковед сорока двух лет, Фремио, студент консерватории, Дешу, который готовился к агрегации по философии, и Пикмаль, студент Высшей нормальной школы. Их страстные споры касаются литературы и музыки, но также подталкивают и к выражению чувств. Тонкость границы, отделяющей любовь от дружбы, приводит к тому, что любовное увлечение предшествует образованию более интеллектуальной связи. Удовольствие от обольщения и желание подчинения – главные модальности этих исканий. Необузданная чувственность, приписываемая туберкулезным больным, давно являлась темой медицинских трактатов; в начале XX века говорили о теории воспламенения, подчеркивающей импульсивность сексуального желания в этих пациентах. «Лежание на спине, – пишет доктор Дельпра в 1924 году, – приводит к притоку крови в наклоненные органы, в частности в простату, и это вызывает эрекцию»[316]316
Цит. по: Pierre Guillaume, Du désespoir au salut. Les tuberculeux aux XIX-e et XX-e siècles, p. 294.
[Закрыть]. Эта теория стала популярна благодаря роману Мишеля Корде, который так и назывался: «Воспламенившиеся» (1902). Если сложные манипуляции, направленные на сближение мужчин и женщин (это описано у Гадена в «Силоаме» в санатории на пике д’Армена, где оба пола разделены, как и в Сент-Илере), становятся источником драматизма, не имеющим отношения к Барту, то он говорил о том, как сильно его волнуют молодые люди. Его сердце в смятении, его мучает желание. В этом смысле санаторий не только не сдерживал его устремления в этой области, но и обострял их, еще четче обозначая. Объяснение в некоторой степени состоит в том, что он находился далеко от семьи, особенно от матери: во-первых, лишенный ее сильной привязанности, он ждет еще большего от дружбы; во-вторых, отрезанный от всех, он не должен больше скрывать свои желания или поступки. Возможно, здесь мы встречаем одну из пружин сокрытия гомосексуальности, по крайней мере от матери, – это желание, чтобы она долгое время находила выражение в своего рода «специально отведенных» местах, как бы в ночи; эта тема вместе с темой молчания наполняет письма Роберу Давиду, написанные в периоды разлуки.
Это период оккупации. До ноября 1942 года почти непреодолимая граница между свободной и оккупированной зонами отрезает его от мира, от друзей и семьи. События лишь изредка стучатся в двери санатория, даже несмотря на то, что в Сент-Илере прятали детей, например Иветт Хейлбронн, Марселя Мюллера. Перемещения затруднены. Мишель Сальзедо, младший брат Барта, так и не сможет поехать в Изер. Филипп Ребероль приезжал навестить его в конце декабря 1943 года, но скобка открылась, чтобы потом еще сильнее захлопнуться. Мать сумела дважды приехать к сыну, жила у подножия фуникулера, в Кролле. Она привезла ему мыло, коричневый крем для обуви, бечевку и нотную бумагу. Барт восстанавливает связи в те редкие промежутки времени, когда не изолирован, с января по июль 1943 года, когда он находится на реабилитации на улице Катрфаж, и в июле – в Андае. Он видит, как тяжело приходится его семье, как выматывается мать на многочисленных работах и сколько усилий она прилагает, чтобы они могли выжить. Мишель не так трудолюбив, как брат, и его будущее беспокоит Анриетту. Когда война заканчивается, а Барта переводят в Швейцарию, ездить становится легче, и в сентябре 1945 года мать с братом, наконец, приезжают к нему в Лейзин. Но в целом разлука была вполне ощутимой и болезненной. «Четыре года я провел в мрачных дырах, вдали от тех, кого любил; я хочу немного пожить с мамой»[317]317
Письмо Филиппу Реберолю, 12 июля 1945 года. Фонд Филиппа Ребероля, IMEC.
[Закрыть]. Редкие короткие встречи оставляют мучительное чувство, «образ надрыва, от которого я поклялся избавиться как можно быстрее»[318]318
Письмо Роберу Давиду, 15 февраля 1946 года. BNF, NAF 28360, частный фонд.
[Закрыть]. Этот образ обостряет тревогу о будущем, о своем положении и чувство бесполезности. Хотя в начале 1944 года Барт собирался было заняться медициной – стремление, понятное и нередкое среди молодых людей, охваченных больничной меланхолией, чья жизнь полностью медикализирована, – по его словам, он решил отказаться от этого из-за продолжительности обучения, так как в этом случае его матери пришлось бы жить в нищете, чего он бы себе не простил. Барта особенно беспокоит, что его близкие тревожатся за него, и его состояние здоровья, отражающееся в этой тревоге, заставляет его замкнуться в обезоруживающем солипсизме.
Вначале Барт не собирался защищать диплом, но, сходив на несколько лекций, в 1944 году записался на получение подготовительного диплома по медицине. Социальная жизнь в Сент-Илере также основывалась на обучении, и он использует все ресурсы этого заведения, новаторского в области образования: театр, музыку, библиотеку и киноклуб, концерты, в которых он принимает участие как исполнитель или музыкальный критик. Он регулярно занимается английским «с чудесным Грюнвальдом, превосходным учителем, увлеченным и деликатным. […] За последний месяц я значительно продвинулся вперед, что доставляет некоторое удовольствие»[319]319
Письмо Георгу Канетти, 23 апреля 1944 года. Частная коллекция.
[Закрыть]. В марте – июне 1943 года он посещает лекции Андре Франсуа-Понсе (незадолго до его ареста гестапо в августе 1943 года), преподавателя драматического искусства Беатрис Дюссан, богослова и члена Сопротивления отца Анри де Любака, Мориса Дени, философа Жана Лакруа, прочитавшего доклад на тему «дружбы». Что касается развлечений, студенты даже имели право посетить сольный концерт Мориса Шевалье и несколько концертов классической музыки. Музыка продолжает занимать главное место в жизни Барта. В его распоряжении несколько фортепиано для занятий, включая концертное; он ходит на лекции своих друзей Федорова и Фремио о Моцарте: начиная с октября 1943 года он предлагает провести технический семинар по музыке, в основном сосредоточенный на гармонии. Библиотека Сент-Илер-дю-Туве, в которой он также занимается в это время, очень хороша: до войны туда поступали 23 парижские ежедневные газеты, 13 провинциальных газет, 20 французских еженедельников и 47 журналов. В журнале Existences регулярно выходил обзор полученных книг и журналов, что дает возможность поблагодарить издателей, чьи посылки особенно ценны в условиях войны. Барт много читал, что, конечно, не новость, потому что он много читал в свободное время, еще будучи подростком. Изменились процедуры чтения, которые находят продолжение в письме. Он продолжил практику, начатую в путешествиях, но теперь, поскольку не мог передвигаться, стал делать заметки на полях книг, разрабатывая систему пользования карточками, которую будет совершенствовать в течение всей жизни. Первое потрясение в 1942 году – Достоевский, чей мир кажется резонирующим с его собственным. Особенно это касается «Идиота»: в романе в целом и в характере главного героя, похоже, кристаллизовалась вся его суть. Он рекомендует эту книгу всем друзьям, как и «Бараганский чертополох» Панаита Истрати. Затем появился Жид, о «Дневнике» которого он пишет несколько заметок, хотя Барту трудно его ухватить, выразить. «Вскоре после нашего приезда в санаторий, – рассказывает Андре Лепёпль, – Барт оставил свою Библию и погрузился в новую книгу. Он сообщил мне, что речь идет о „Дневнике“ Андре Жида. […] Он посвящал чтению этой книги (совершенно мне неизвестной) все время отдыха, который назывался у нас „процедурами“, и казался таким увлеченным, что я не осмеливался его побеспокоить, чтобы расспросить о предмете его интереса. Во „внелечебное“ время – периоды относительной свободы – он садился за стол в палате, открывал тетрадь для заметок, какими мы пользовались еще в начальной школе, брал обычное школьное перо, обмакивал его в чернильницу Уотерман и принимался исписывать страницу за страницей замечательно ровным почерком, без малейших помарок»[320]320
André Lepeuple, «Chambre 18. Témoignage», p. 147.
[Закрыть]. Но его основным чтением, долгим, активным, пристальным, которое продолжалось все годы пребывания в санатории, чтением маниакальным, порой страстным, порой доводящим до отчаяния, был Мишле. Когда Барт окунулся в его творчество, он заговорил о «методе чтения в высшей степени плодотворном»[321]321
Письмо Филиппу Реберолю, 4 апреля 1942 года. Фонд Филиппа Ребероля, IMEC.
[Закрыть], установившемся с начала его болезни и состоявшем в том, чтобы читать, делая заметки.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































