Текст книги "Каббала"
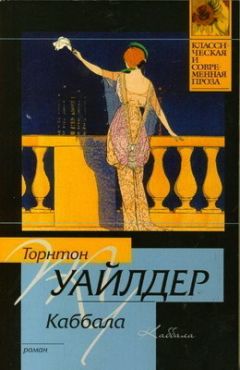
Автор книги: Торнтон Уайлдер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Часть вторая
Маркантонио
Герцогиня д’Аквиланера происходила из рода Колонна, из того консервативного его крыла, которое никак не могло забыть, что семья эта традиционно давала миру кардиналов, пап и царствующих особ. Муж ее принадлежал к представителям Тосканского дома, возвысившегося еще в тринадцатом веке, – это его превозносил в своей истории Макиавелли и хулил Данте. На двадцать два поколения семьи не пришлось ни одного мезальянса, и даже двадцать третье запятнало ее позором не большим, чем брак с незаконнорожденной «племянницей» Медичи или кого-то из пап. Герцогиня никогда не забывала – среди прочих подобных же подвигов чести, число коих приближалось к тысяче, – что дед ее деда, Тимолео Нерон Колонна, князь Веллетри, посылал оскорбительные послания предкам нынешнего короля Италии, относившимся к старинному, но ведающему за собой немало провинностей Савойскому дому; что ее отец отказался от звания гранда Испанского двора, поскольку это звание было отнято у его отца; и что сама она принесла бы своему сыну титулы камерария Неаполитанского двора (если бы таковой существовал), князя Священной Римской империи (если бы только уцелело это замечательное политическое учреждение) и герцога Брабантского, каковой титул, к сожалению, значится также среди притязаний королевских фамилий Испании, Бельгии и Франции. Она обладала всеми правами на то, чтобы люди, обращаясь к ней, произносили «ваше высочество» и даже «ваше королевское высочество» или по меньшей мере именовали ее «светлейшей», ибо ее мать была последней среди отпрысков королевской фамилии Крабург-Готтенлинген. Человека, равного ей по количеству родственных связей, удалось бы найти разве что среди буддийских монахов. Герольды европейских дворов, сознавая, что в этой женщине по какому-то странному совпадению сошлось множество разнообразных высоких генеалогических линий, склонялись перед ней с особой почтительностью.
Когда я познакомился с ней, это была пятидесятилетняя, малорослая, темнолицая женщина с двумя аристократическими бородавками на левом крыле носа, с грязновато-смуглыми руками в стразовых изумрудах (намекавших на ее португальские притязания: она была бы эрцгерцогиней Бразилии, когда бы Бразилия осталась португальской), прихрамывающая, совершенно как Делла Кверча – подобно тому как ее тетушка страдала эпилепсией, присущей истинным Вани. Она жила во дворце Аквиланера на площади Арачели, в крохотной квартирке, из окон которой наблюдала за пышными брачными церемониями геральдических своих соперников, – она получала на них приглашения, надменно оставляемые без внимания в предвидении, что место, которое ей придется там занимать, окажется ниже ее притязаний; смириться же с неприметностью означало – допустить возможность отказа от множества самой историей освященных прав. Ей уже не раз приходилось стремительно покидать важные празднества, обнаружив, что стул ее стоит позади стула кого-нибудь из ее же двоюродных братьев, махнувших рукой на аристократическую разборчивость и сочетавшихся браком с актрисой или американкой. Она отказывалась сидеть за колоннами, среди обладателей сомнительных неаполитанских титулов – и это в двух шагах от усыпальниц представителей ее рода; она не желала застревать среди ливрейных лакеев в дверях музыкальной залы; не желала принимать приглашений, присланных в последнюю минуту; не желала томиться в ожидании по передним. Она почти не покидала своих неказистых и душных комнат, предаваясь грустным размышлениям о забытом величии своей семьи и завидуя роскоши, в которой живут ее более богатые родичи. В сущности, с точки зрения итальянца среднего класса, она была далеко не бедна; но она не могла позволить себе лимузина, ливрейных лакеев и развлечений на широкую ногу; а обходиться без всего этого означало – при ее претензиях – быть беднее последнего безымянного бедолаги, выловленного из Тибра.
Впрочем, в последнее время ей на долю выпало неожиданное и приятное признание. Как бы редко ни случалось ей выходить, но когда она появлялась в свете, ее суровое лицо, величавая хромота и удивительные драгоценности производили сильное впечатление. Люди, коих мнение о первенстве одного рода перед другим почитается решающим, набрались наконец смелости и намекнули многочисленным Одескальчи, Колонна и Сермонета, что эта одетая чуть ли не в отрепья маленькая женщина, которую они унижали, не подпуская к себе, будто какую-нибудь полоумную бедную родственницу, обладает неоспоримыми правами предшествовать им на любых официальных празднествах. Во французских кругах, еще не утопивших феодальной почтительности в трясине республиканизма, ее ультрамонтанские родственные связи получили высокую оценку. Заметив, что принимать ее стали лучше, она, хоть и несколько озадаченная, поспешила подставить паруса неожиданно повеявшему ветерку. У нее был сын и была дочь на выданье, ради них она решилась пожертвовать гордостью. При первых же признаках восстановления в правах герцогиня заставила себя выйти в свет и, обнаружив, что выше всего она котируется среди живущих в Риме иностранцев, принялась с отвратительным ощущением униженности наносить визиты американским женам своих родовитых знакомых и наследницам южноамериканских семейств. Прошло немного времени, и ее уже можно было встретить на полуночных ужинах мисс Грие. Отраженный свет уважения, с которым герцогиню принимали в подобных домах, в конце концов достиг и ее соплеменников, мало-помалу избавив ее от наиболее явственных унижений.
Теперь ей пришлось расстаться с прежними подругами, унылыми, всем недовольными старухами, еще более скорбными, чем она, хоть и имеющими для скорби куда меньше причин, – подругами, с которыми герцогиня в привычном раздражении коротала послеполуденные и вечерние часы за опущенными шторами дворца на площади Арачели. Равным образом пришлось ей расстаться и с презренной привычкой, не менее прочно соединявшей ее с предшествующими столетиями, а именно с обыкновением затевать судебные тяжбы. Столь удивительное приложение нашла для себя в ту пору, когда эта женщина пребывала в забвении, присущая ей от природы склонность к любовным интригам. Словно бы ведомая неким чутьем, она отыскивала давние иски и судебные постановления, обнаруживала промахи торговцев и мелкие упущения законников. Поднимаясь на защиту своих более робких подруг, становившихся жертвами обмана, она всегда выигрывала дело, и зачастую с немалой для себя выгодой. Она прибегала к услугам никому не известных молодых адвокатов, и когда те вызывали ее для дачи свидетельских показаний, она, пользуясь случаем, подытоживала дело в целом, благо знала, что при ее знатности прервать ее никто не посмеет. Прочитав в утренней газете, что ее светлейшее высочество Леда Матильда Колонна герцогиня д’Аквиланера обратилась в суд с иском против властей города Рима, обвинив последние в неверной оценке расположенной близ железной дороги недвижимости, или что она намеревается опротестовать счет, полученный от какого-нибудь известного фруктовщика с Корсо или от книготорговца, средний итальянец с готовностью высиживал несколько часов на неудобном сиденье в зале суда, чтобы увидеть эту злоязыкую и решительную женщину и услышать ее едкие сарказмы вкупе с излагаемым ею неопровержимым резюме свидетельских показаний. При всем том ее родня, презрительно посмеивавшаяся над этой страстью, никак не могла взять в толк, что в герцогине – куда более ярко, чем в них самих – представлены качества, по которым всегда узнается аристократ.
* * *
Вот с этой женщиной мы и столкнулись, вернувшись к полуночи в старый дворец, куда нас пригласили в третий за этот день раз. Ужин был сервирован в самой большой и ярко освещенной комнате, в какой я когда-либо бывал. Пройдя сквозь огромные двери, я первым делом увидел странную женскую фигуру и сразу понял, что предо мной одна из каббалисток. Малорослая, смуглая, некрасивая женщина сидела, держа между коленями трость и уставив на меня исполненный величия и неистовства взгляд. Следом за платьем с корсажем и орлиной головой в глаза мне бросились ее драгоценности, семь висевших на шее громадных грубых аметистов на золотой нити. Меня представили этой ведьме, умевшей с помощью черной магии заставить человека мгновенно проникнуться к ней приязнью. Услышав, что Блэр вскоре уезжает из Рима, она сосредоточила все свое внимание на мне.
Несколько секунд герцогиня сидела, нервно водя по полу кончиком палки, покусывая нижнюю губу и напряженно глядя мне прямо в глаза. Потом спросила, сколько мне лет. Двадцать пять.
– Я герцогиня д’Аквиланера, – начала она. – На каком языке мы станем говорить? Пожалуй, на английском. Я не очень хорошо им владею, но мы будем говорить без затей. Нужно, чтобы вы вполне меня поняли. Я близкая подруга мисс Грие. Мы часто обсуждаем с ней большую проблему – горе, мой юный друг, – возникшую в моем доме. Вдруг сегодня в семь она позвонила по телефону и сказала, что нашла человека, способного мне помочь, – она имела в виду вас. Теперь послушайте: у меня сын шестнадцати лет. Все, что с ним связано, очень важно, потому что он человек не простой. Как это у вас называется? Значительная особа. Мы принадлежим к старинному роду. Представители нашей семьи всегда были в Италии на передних ролях, и в ее победах, и в ее печалях. Впрочем, вы у себя в Америке не питаете симпатии к подобного рода величию, нет? Но вы, должно быть, читали историю, не так ли? Древние времена, средние времена и все такое? Вы должны понимать, как важны великие фамилии... как они всегда были важны... для стран...
(Тут она совсем разволновалась, на губах появились пузырьки слюны, и красноречие покинуло ее, провожаемое восхитительным итальянским жестом, выражающим и затруднение, и, быть может, тщетность любых попыток с ним справиться, и смирение пред невозможным. Я поспешил заверить ее, что питаю большое уважение к аристократическому принципу.)
– Возможно, питаете, возможно, нет, – сказала она наконец. – Во всяком случае, отнеситесь к моему сыну как к князю, в жилах которого течет кровь множества королей и знатных особ. Ну вот, а теперь я должна сказать вам, что он пошел по дурному пути. Им завладели женщины, я его больше не узнаю. Все наши итальянские юноши проходят через это в шестнадцать лет, но Маркантонио, мой Бог, я не понимаю, что на него нашло, я сойду с ума. Вы там, в Америке, все происходите от этих ваших пуритан, не так ли, у вас совершенно иные представления. Сделать можно только одно: вы должны спасти мальчика. Вы должны с ним поговорить. Вы должны играть с ним в теннис. Я с ним уже разговаривала, священник разговаривал с ним, и мой добрый друг, кардинал, он тоже с ним разговаривал, но мальчик все равно занимается только тем, что ходит в то ужасное место. Элизабет Грие сказала мне, что большинство американских юношей вашего возраста просто... просто по природе своей... добродетельны. Вы какие-то vieilles filles[6]6
Старые девы (фр.).
[Закрыть]; вы воздержанны, как я не знаю кто. Очень странно, если это правда, конечно, потому что мне как-то не верится; во всяком случае, это неразумно. Во всяком случае, вы должны поговорить с Маркантонио и заставить его держаться подальше от этого ужасного места, иначе мы все сойдем с ума. У меня такой план: в следующую среду мы собираемся уехать на неделю за город, на нашу прекрасную виллу. Самая прекрасная вилла в Италии. Вы должны поехать с нами. Маркантонио вас полюбит, вы можете играть в теннис, стрелять, плавать, а потом у вас начнутся длинные разговоры, и вы сможете его спасти. Итак, неужели вы не сделаете этого для меня, потому что никто еще не обращался к вам в таком горе, в каком я обратилась сегодня?
Вслед за этим, охваченная внезапным страхом, что все ее усилия оказались напрасны, она замахала палкой, чтобы привлечь внимание мисс Грие. Последняя, не перестававшая уголком глаза следить за нами, уже приближалась, почти бегом. Герцогиня разразилась потоком слез, восклицая сквозь носовой платок:
– Елизабетта, скажи ему. О мой Боже, я не сумела его уговорить. Мы не нужны ему, все погибло.
Я, раздираемый сразу и гневом, и желанием рассмеяться, забормотал на ухо мисс Грие:
– Буду рад познакомиться с ним, мисс Грие, но не могу же я давать этому юноше наставления. Я бы чувствовал себя дураком. И кроме того, что там мне делать целую неделю?..
– Она вам неправильно все объяснила, – ответила мисс Грие. – Давайте на сегодня оставим этот разговор.
При этих словах Черная Королева начала раскачиваться в кресле, приготавливаясь подняться. Ткнув палкою в мой башмак и обретя таким образом точку опоры на скользких полах, она встала:
– Нам следует помолиться Господу, чтобы он указал нам иной путь. Я просто дура. Молодого человека винить не в чем. Он не может понять значения нашей семьи.
– Глупости, Леда, – перейдя на итальянский, твердо сказала мисс Грие. – Угомонись на минуту. – И, повернувшись ко мне: – Хотите вы провести уик-энд на вилле Колонна-Стьявелли или не хотите? Безо всяких условий относительно чтения князю наставлений. Если вы с ним сойдетесь, вам, так или иначе, захочется с ним поговорить, а не сойдетесь – милости просим, предоставьте его самому себе.
Каббалистки уговаривали меня посетить самую прославленную из вилл Возрождения, да еще и ту, в которую публику упорно не допускали, так что разглядывать виллу приходилось с проходящей в полумиле от нее дороги. Я повернулся к герцогине и с низким поклоном принял ее приглашение. Она в ответ поцеловала плечо моего пиджака, пробормотала, озарясь прекрасной улыбкой: «Христиане! Христиане!», – пожелала нам приятной ночи и, клонясь набок, покинула комнату.
– В воскресенье мы увидимся в Тиволи, – сказала мисс Грие, – там я вам все и расскажу.
* * *
Несколько следующих дней меня одолевали страхи перед двумя предстоящими мне испытаниями: уик-эндом на вилле Горация и миссионерским предприятием на вилле Колонна. Подавленный, я сидел, читая, в своих комнатах или отправлялся в долгую прогулку по трастеверинским трущобам, думая о Коннектикуте.
В машине, заехавшей за мной в пятницу утром, уже сидел один из гостей, как и я, приглашенных на виллу. Он представился, назвавшись мсье Лери Богаром, добавив, что мадемуазель де Морфонтен предложила прислать за нами две разные машины, но он взял на себя смелость попросить, чтобы нас привезли в одной – не только потому, что пересекать Кампанью в каком угодно обществе все же лучше, чем в одиночку, но и потому еще, что слышал обо мне много такого, из чего заключил, что мы с ним родня по духу. На языке, заставляющем всякую любезность казаться идущей от самого сердца, я ответил, что оказаться родней по духу столь блистательному члену академии и столь глубокому ученому – это честь, много большая той, на какую я смел рассчитывать. Подобные увертюры отнюдь не имели целью сообщить нашим отношениям какую-то холодность. Мсье Богар представлял собой хрупкого, пожилого, безупречно одетого господина с лицом, нежные краски которого свидетельствовали об изысканном чтении и употреблении дорогой пищи, – лиловато-розовым вокруг глаз, с бледными, отчасти сливового оттенка щеками, на фоне которых выделялась чуть желтоватая, напоминающая слоновую кость, белизна носа и подбородка. Он казался человеком мягким и смирным, впечатление это создавалось по преимуществу движениями его глаз и рук, трепетавших в унисон, подобно лепесткам цветка, готовым осыпаться при легком дуновении ветра. Я с некоторой неуверенностью заговорил об удовольствии, доставленном мне чтением его трудов, в особенности их чуть заметно приправленных ядом страниц, посвященных истории церкви. Однако он сразу воскликнул, прерывая меня:
– Не напоминайте мне о них! Юношеское безрассудство! Ужасно! Чего бы я не отдал, чтобы они исчезли! Но неужели эта нелепица добралась и до Америки? Вы должны непременно уведомить ваших друзей, молодой человек, что эти книги больше не отражают моих взглядов. Со времени их написания я обратился в послушного сына церкви, и ничто не утешило бы меня сильнее сознания, что книги эти сожжены.
– Какие же книги я могу указать моим друзьям, сказав, что они выражают ваши истинные взгляды? – спросил я.
– Да зачем вообще меня читать? – в притворной горести вскричал он. – На свете и так уже слишком много книг. Давайте не будем больше читать, сын мой. Давайте будем искать себе настоящих друзей. Давайте усядемся вкруг стола (роскошного, черт возьми, стола!) и станем беседовать о нашей церкви, о нашем короле и, может быть, о Вергилии.
По-видимому, на моем лице отчасти отразилось удушье, охватившее меня при мысли о подобной жизненной программе, ибо мсье Богар мгновенно остыл.
– Земля, по которой мы едем, – сказал он, – знавала неспокойные времена...
И он принялся читать мне полную полезных сведений лекцию, словно я был неким бестолковым знакомцем, скажем, сыном нашей хозяйки, а он отроду не имел ровно никакого отношения к выдающемуся ученому, каковым он, безусловно, являлся.
По приезде на виллу нас встретил и развел по комнатам дворецкий. Долгие годы здесь размещался монастырь, и мадемуазель де Морфонтен, купив виллу, стала заодно и владелицей примыкающей к ней церкви, по-прежнему служившей живущим на склоне холма крестьянам. Мадемуазель считала, что это та самая вилла, которую Меценат подарил Горацию: местное предание подтверждало ее сведения; фундаментом виллы служил превосходный opus reticulatum[7]7
Решетчатое сооружение (лат.).
[Закрыть]; а местоположение отвечало довольно туманным требованиям, предъявляемым классическими аллюзиями; даже звуки, которыми полнятся окрестности виллы, и те свидетельствуют об этом, провозглашала наша хозяйка, уверявшая, что из ее окна буквальным образом можно услышать, как водопад шепчет:
Обставляя свой монастырь, мадемуазель де Морфонтен пыталась, как могла, сочетать приятность эстетического воздействия со стремлением к аскетизму. Длинное, приземистое, бестолковое строение, оштукатуренное и лишенное какого бы то ни было благородства линий, – вот что представляла собою вилла Горация. Беспорядочно разбросанные розарии с намеренно запущенными гравиевыми дорожками и выщербленными мраморными скамьями окружали ее. Войдя внутрь, вы попадали в длинный проход, на дальнем конце которого спускалось в библиотеку несколько ступенек. По обеим стенам его через равные промежутки располагались двери, ведшие в комнатушки, которые были прежде кельями, но ныне, соединясь, превратились в гостиные. Днем эти двери по большей части стояли раскрытыми, и на выложенные красновато-коричневой плиткой полы долгого коридора из них падали солнечные полосы. Основным тоном отделанных кессонами и, подобно дверям, чуть отливавших темной зеленью и позолотой потолков был густой кирпично-красный цвет, цвет неаполитанских черепиц. Изжелта-белые стены покрывала неровная, крошащаяся штукатурка, и красота оставляемого коридором общего впечатления, дополненного оптической иллюзией протяженности, глубины и светозарности библиотеки, представлявшейся издали неким колоссальным золотисто-зеленым колодцем, взывала к чувству соразмерности и тактильному воображению, уподобляясь видам на полотнах Рафаэля, секрет очарования которых, как полагают, кроется именно в этом. Налево помещались гостиные, устланные коврами одного цвета, увешанные дарохранительницами и картинами итальянских примитивистов, гостиные, в которых огромные подсвечники, большие вазы с цветами и покрытые парчой столы с покоившимися на них неотшлифованными драгоценными камнями и хрусталем оживляли суровость оставшихся нетронутыми стен. Ближе к концу коридора можно было, свернув направо, подняться в трапезную, самую голую из комнат дома. Днем трапезная, утрачивая свое назначение, обращалась в подобие заурядной клубной залы. Завтраку на вилле особого значения не придавали; интересные разговоры полагалось приберегать на вечер, к обеду; во время завтрака люди едва смотрели друг на друга и говорили лишь о последнем дожде да ближайшей засухе или обсуждали что-то еще, ни в малой мере не связанное с темами, страстно занимавшими обитателей дома, – с религией, ролью аристократии и литературой. Красотой своей трапезная была обязана освещению – в восемь часов вечера все величие этой комнаты сосредоточивалось в заводи винно-желтого света, заливавшего красную скатерть, темно-зеленые, украшенные коронами блюда, золото и серебро, хрустальные бокалы, регалии и наряды гостей, орденские ленты послов, фиолетовое облачение кардиналов, затянутых в атлас лакеев, маленькая армия которых возникала неизвестно откуда.
Последним, кто в день моего приезда появился на вилле – уже перед самым обедом, – был кардинал, сразу прошедший в трапезную, где мы стоя ожидали его. Лицо кардинала хранило ласковое, пожалуй, даже лучезарное выражение. Пока он благословлял еду, мадемуазель де Морфонтен стояла на коленях, приминая подол чудесного желтого платья; мсье Богар также опустился на одно колено и прикрыл ладонью глаза. Благословение было английское – странный отрывок, обнаруженный нашим эрудированным гостем среди литературных опытов, оставленных одним разочарованным кембриджским пастором:
О, пеликан вечности,
Разрывающий сердце свое, дабы дать нам пищу,
Нам, птенцам твоим, не дано ведать твоих скорбей.
Благослови сей призрачный и мнимовидный хлеб
тела нашего,
Коего последним пожирателем станет червь,
И напитай нас взамен животворящим хлебом
Мечтаний и благодати.
Кардинал, хотя и сохранивший бодрость тела и ясность разума, выглядел в точности на свои восемьдесят лет. Выражение сухой умиротворенности никогда не покидало его желтоватого лица, длинные усы и бородка которого придавали ему сходство с прожившим сто лет китайским мудрецом. Он родился в крестьянской семье, жившей между Миланом и Комо, и первые начатки образованности получил из рук местного священника, вскоре открывшего в нем поистине гениального латиниста. После этого мальчик переходил из одной школы в другую, всякий раз более чтимую, собирая по пути все награды, какие имелись в распоряжении иезуитов. Постепенно на него обратило внимание немалое число влиятельных деятелей церкви, и ко времени, когда он стал выпускником большого колледжа на площади Санта-Мария-сопра-Минерва (представив не знающую себе равных по блеску и бесполезности диссертацию, трактовавшую сорок два случая, в которых самоубийство является допустимым, и двенадцать ситуаций, в коих священник вправе прибегнуть к оружию, не подвергая себя опасности стать убийцей), ему предложили на выбор три великолепные карьеры. Подробности каждой были разработаны на самом верху: он мог стать модным проповедником; он мог стать одним из секретарей Ватиканского двора; наконец, он мог стать ученым-преподавателем и диспутантом. К изумлению и огорчению профессоров, он объявил вдруг о своем намерении следовать путем, по их понятиям, гибельным – он пожелал стать миссионером. Приемные отцы юноши гневались, плакали и призывали Небо в свидетели его неблагодарности, но он не желал слышать ни о чем, кроме опаснейшего из церковных постов – в Западном Китае. Туда он и отправился в должное время, едва ли даже получив благословение от учителей, уже обративших взоры на иных, более послушных, пусть и менее блестящих учеников. Двадцать пять лет проработал молодой священник в провинции Сычуань, повидав за это время пожары, голод, мятежи и даже пытки. Следует, однако, сказать, что его миссионерский пыл имел своим источником не одно только благочестие. Юноша, сознававший свои огромные возможности, питал в молодые годы высокомерное презрение и к учителям своим, и к товарищам. Он хорошо знал и ни во что не ставил все разновидности священников, какие можно встретить в Италии, ему ни единого раза не довелось увидеть, чтобы они толково справились хоть с каким-нибудь делом, и теперь он мечтал о таком поле деятельности, в котором ему не придется отчитываться перед глупцами. Во всех землях, на которые церковь распространила свое влияние, имелась лишь одна область, удовлетворявшая этим требованиям: в Сычуани одного священника от другого отделял месяц езды в грубо сколоченной повозке. Туда он и отправился, пережив по пути кораблекрушение, несколько месяцев рабства и иные испытания, о которых миру поведали его туземные помощники, ибо сам он никогда о них не упоминал. Прибыв на место, он поселился в харчевне, переоделся в местное платье, отрастил косичку и так прожил среди крестьян шесть лет, ни словом не обмолвившись о своей вере. Он проводил время, изучая язык, классическую литературу, манеры, изыскивая способы расположить к себе чиновников, и с течением лет столь совершенным образом вписался в жизнь города, что почти утратил ореол чужеземца. Когда он наконец объявил о своей миссии тем торговцам и чиновникам, в чьих домах он стал почти ежевечерним гостем, работа у него пошла быстро. Будучи, возможно, величайшим из миссионеров, каких церковь знала со времен Средневековья, он сумел достичь компромисса, которому суждено было глубоко потрясти Рим. Ему удалось сочетать христианство с верованиями и традиционными представлениями китайцев, создав гармоничное целое, сравнимое разве что с дерзновенными толкованиями, обнаруженными Павлом в кругу его палестинских приверженцев. Сочетание оказалось столь безупречно точным, что первым из его обращенных даже в голову не приходило, будто они отрекаются от старой веры, пока наконец, после двадцати бесед, он не показывал, как далеко они ушли и до каких угольев сожжены мосты, оставшиеся у них за спиной. И при всем том, окрестив их, он мог предложить им лишь горчайший из хлебов: построенный его усилиями кафедральный собор крепко покоился на двух десятках мученических могил, однако, возведенный, он уже не претерпевал новых напастей и разрастался, медленно и неотвратимо. В конце концов чистая статистика достигла того, чего не смогла предотвратить даже зависть, – он получил сан епископа. На исходе пятнадцатого года, проведенного им на Востоке, он возвратился в Рим и был принят с холодной неприязнью. Здоровье, отчасти подорванное, позволило ему получить годичный отпуск, который он провел, работая в Ватиканской библиотеке над диссертацией, никак не связанной с Китаем, но посвященной Константинову дару. В миссионерской среде такое поведение сочли возмутительным, и после публикации диссертации ее ученость и беспристрастность снискала ей кислый прием у священников-рецензентов. Папские придворные смотрели на него свысока; косвенным образом они приписывали ему собственные представления об итоге его великих трудов в Западном Китае: низкий, сложенный из необожженных глиняных кирпичей домишко и конгрегация нищих, притворяющихся обращенными в новую веру, чтобы получить немного еды. Он так и не потрудился описать им каменный собор с двумя нескладными, но высокими башнями, огромную паперть, школы, больницу, библиотеку; праздничные шествия, вступающие в Храм словно в гигантский грот, несущие слишком яркие, но пылко почитаемые хоругви и распевающие безупречно георгианские гимны; не стал он рассказывать ни об официальных почестях, ни о налоговых льготах, ни об уважении, проявляемом военными во время восстаний, ни о дружеской помощи, оказываемой городскими властями.
Наконец он вернулся назад, довольно охотно, и еще на десять лет сгинул в недрах далекой страны. Посещение Рима не изменило его юношеского отношения к собратьям. Он услышал странные истории о собственной персоне – о том, как он сколотил необъятное состояние, собирая взятки с китайских купцов, как он перелагал Писание, прибегая к буддистской терминологии, как допустил напечатление языческих символов на самом Теле Христовом.
Надо полагать, что почести, по прошествии времени оказанные ему церковью, были вызваны заслугами и впрямь непомерными, ибо он получил их без каких-либо просьб с его стороны или со стороны друзей. Должно быть, Ватикан лицом к лицу столкнулся с достоинствами столь совершенными, что почувствовал, как у него сами собой рвутся из рук награды, коими он привык наделять лишь подателя прошения, под которым стоят десять тысяч подписей, или носителя богатства и власти. Получив новые отличия, епископ после десяти лет отсутствия вновь возвратился в Рим. На этот раз он намеревался осесть в Италии, решив, что в дальнейшем труд его жизни лучше оставить в руках туземцев. Духовенство ожидало его приезда с немалым трепетом, ибо возвращался муж сведущий и пылкий в дебатах по вопросам доктрины; служители церкви страшились, что его присутствие выставит на всеобщее обозрение их равнодушие и скудость познаний; если он явится перед ними как критик практической проповеди, всем им грозит беда. Они с опаской наблюдали, как епископ в обществе двух китайцев и нелепой крестьянки, которую он упорно именовал сестрой, обживает крохотную виллу на холме Джаниколо, как он вступает в Папское археологическое общество, как проводит время, читая и копаясь в саду. Прошло пять лет, и его отстраненность стала для церкви источником замешательства куда большего, нежели то, какое могли бы вызвать его памфлеты. Слава его среди католиков, живущих вне Рима, была безграничной; каждый сколько-нибудь заметный визитер прямо с вокзала несся к холму Джаниколо, дабы представиться затворнику; даже папу несколько утомило рвение этих приезжих, воображавших, будто у его святейшества только и радости, что обсуждать труды, болезни и скромность Строителя китайского храма. Английские католики, католики американские и бельгийские, которые ничего не смыслили в этих исключительно тонких материях и которым лучше было бы и вовсе их не касаться, один за другим восклицали: «Но неужели нельзя для него что-нибудь сделать?» Он смиренно отклонил предложенную ему честь занять чрезвычайно высокий пост Хранителя библиотеки Ватикана, однако отказ принят не был, и имя его украсило собой издания Библиотеки; то же самое произошло и с комитетом по вопросам Проповеди Учения: он не появлялся на заседаниях, но ни одна из произносимых там речей не имела такого влияния, как сообщение о нескольких словах, оброненных им в беседе с учениками на маленькой вилле Вэй-Хо. Само отсутствие в нем честолюбия пугало служителей церкви, полагавших, что оно имеет своим источником чувства, схожие с теми, которые заставляли Ахилла угрюмо отсиживаться в шатре, и опасавшихся мгновения, когда он наконец восстанет, размахивая своим могучим престижем, и сокрушит их за то, что они по скупости своей не воздали ему должных почестей; в конце концов особый комитет, образованный из членов конклава, предложил ему кардинальскую шапочку, обливаясь потом от страха, что он и ее не примет. Однако на этот раз он принял предложенное и исполнил все положенные формальности, строго следуя этикету и соблюдая мельчайшие частности традиции, которые приходилось тщательно объяснять его ирландско-американским коллегам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































