Текст книги "Каббала"
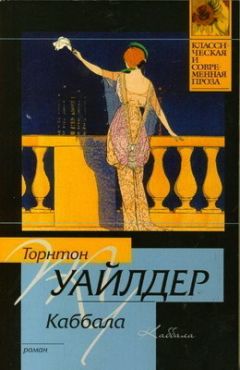
Автор книги: Торнтон Уайлдер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Я посоветовал ему уехать из города.
Да, но как же? У него в самом разгаре одна работа, которая... работа, которая... А, будь оно проклято... Ладно, придется уехать.
Я упрашивал его до отъезда один-единственный раз пообедать со мной и с княгиней. Нет-нет. Все, что угодно, только не это. Тут уж и я разозлился. Я подробно объяснил ему, какой он дурак – не просто дурак, а собрание дураков всевозможных их разновидностей. Час спустя я еще говорил, втолковывая ему, что сам факт любви к тебе – в состоянии ты ответить на эту любовь или нет – налагает на тебя определенные обязательства. Обязательства проявлять не просто доброту, но благодарность. Этого Блэр не понял, но в конце концов согласился снизойти к моим просьбам, связав меня, однако, тяжелым для выполнения обещанием: мне надлежало утаить от княгини, что сразу после обеда он уедет в Испанию.
Княгиня, разумеется, пришла раньше условленного и в таком очаровательном платье, что я с трудом выпутался из речи, произнесенной ему в похвалу. Она принесла билеты в оперу; «Саломеей» сейчас никого, конечно, не удивишь, но следом за ней, в половине одиннадцатого, давали «Петрушку». Поезд Блэра уходил в одиннадцать. Блэр появился вовремя и с изяществом отыграл свою роль. Мы и в самом деле были счастливы, все трое, пока сидели у открытого окна, покуривая и ведя длинный разговор над превосходным zabiglione[13]13
Итальянское блюдо, подобие гоголя-моголя с добавлением красного вина.
[Закрыть] Оттимы и резким трастеверинским кофе.
Я всякий раз удивлялся тому, какой гордой и неприступной аристократкой выглядит она в обществе Блэра. В самих ее неуловимо ласковых замечаниях не было ничего, способного обратить на себя внимание кого бы то ни было, кроме тайного возлюбленного. Изощренная гордость заставляла Аликс даже преувеличивать изображаемое ею безразличие к Блэру: она поддразнивала его, притворяясь, будто не слышит, как он обращается к ней, притворяясь, что влюблена в меня. Лишь в отсутствие Блэра ею овладевала уничиженность, едва ли не раболепие; только тогда ей могла прийти в голову мысль явиться к нему незваной. Наконец она встала, сказав:
– Пора отправляться на русский балет.
Блэр, словно оправдываясь, произнес:
– Простите, я не смогу, меня ждет работа.
– Но три четверти часа со Стравинским – разве это не часть вашей работы? Моя машина стоит у дверей.
Он оставался неколебимым. У него на этот вечер имелись свои билеты.
На миг лицо ее опустело. Ей никогда еще не приходилось наталкиваться в подобных обстоятельствах на столь упрямый отказ, она не знала, как поступить. Однако миг миновал, она склонила голову, отодвигая от себя кофейную чашечку.
– Прекрасно, – беспечно сказала она. – Не можете – значит, не можете. Мы пойдем вдвоем с Сэмюэлем.
Прощание их было угрюмым. На всем пути до театра «Констанци» княгиня хранила молчание, перебирая складки плаща. Пока продолжался балет, она сидела в глубине ложи, думая, думая, думая, глядя прямо перед собой сухими глазами. Потом в коридоре театра ее окружили десятка два знакомых, и она повеселела.
– Поедемте в кабаре, к русским эмигрантам, – сказала она.
У дверей кабаре она отпустила шофера, попросив передать горничной, чтобы та ее не ждала. Долгое время мы танцевали – молча, поскольку ее вновь обуяло уныние.
Когда мы вышли наружу, улицу заливал самый неприветливый лунный свет, какой я когда-либо видел. Отыскав экипаж, мы поехали к ее дому. Дорогой мы разговорились, то был самый искренний наш разговор за все время знакомства, и мы увлеклись им настолько, что не заметили, как доехали, не заметили даже того, что экипаж уже какое-то время стоит.
– Послушайте, Сэмюэль, вы ведь не заставите меня сию минуту лечь спать. Давайте я забегу домой и быстренько переоденусь. А потом покатаемся, посмотрим, как солнце встает над Кампаньей. Вы не рассердитесь на меня за подобное предложение?
Я заверил ее, что не желал ничего лучшего; она поспешила в дом. Заплатив извозчику, пьяному и сварливому, я отпустил его, и когда она возвратилась, мы побрели по улицам, разговаривая; дремота, отступившая было, вновь понемногу одолевала нас. В кабаре мы отведали водки и под воздействием ее скоро впали в настроение, схожее с тем, какое свет луны сообщал льдистому шарику Пантеона. Мы забрели во двор Канчелериа и раскритиковали его арки. Кончилось тем, что мы зашли ко мне домой за сигаретами.
– Вчера вечером мне было так страшно, – сказала она, откидываясь в темноте на софу. – Я была в отчаянии. Это еще до того, как пришло ваше приглашение. Могу я пойти повидаться с ним или не могу? Я его уже неделю не видела... Я все задавалась вопросом, не почувствует ли он себя... ну... оскорбленным, что ли, если к нему в дверь в десять вечера постучится дама? Было около десяти. Хотя, в сущности, что уж такого странного, если дама является к вам в половине десятого с совершенно невинным визитом? Ведь вот сижу же я здесь, у вас, Сэмюэль, и никакого стеснения не испытываю. И потом, у меня имелся замечательный повод навестить его. Он спрашивал мое мнение о «La Villegiatura»[14]14
«Отдых на даче» (иm.).
[Закрыть], а я как раз дочитала ее. Ну скажите, мой милый друг, выглядело бы это смешным – с точки зрения американца, – если бы я?..
– Прекрасная Аликс, вы никогда не выглядите смешной. Но не показалась ли вам сегодняшняя встреча с ним более освежающей, более счастливой, и все потому, что вы так долго его не видели?
– О, вы такой умный! – воскликнула она. – Бог послал вас ко мне в моем горе. Подойдите, присядьте, я хочу подержаться за вашу руку. Вам не стыдно за меня, что я так страдаю? Хотя, пожалуй, это мне нужно стыдиться. Вы видите меня утратившей всякое достоинство. Но у вас добрые глаза, мне перед вами не стыдно. И еще я думаю, что вы, наверное, любили, потому что принимаете как должное все глупости, которые я совершаю. Ах, мой дорогой Сэмюэль, временами мне начинает казаться, что он презирает меня. У меня полно всех тех недостатков, которых он лишен. Когда мне снится, что он не только не любит меня, но смеется надо мной, да-да, смеется, у меня останавливается сердце и краска ударяет в лицо и не сходит потом несколько часов. Тогда я спасаюсь лишь тем, что вспоминаю, как много добрых слов он мне сказал, как он послал мне ту книгу, как спрашивал обо мне у знакомых. И я обращаюсь к Богу с простой молитвой, прошу ниспослать ему хоть чуточку уважения ко мне. Чуточку уважения к тому... к тому, что вроде бы нравится во мне другим людям.
Мы посидели немного в молчании, горячая ладонь ее утонула в моей, блестящие глаза смотрели во тьму.
– Он хороший, рассудительный человек. Когда я вот так раскладываю все по полочкам, я сознаю, что он не может меня любить. Я должна научиться быть простой. Да, вот именно. Послушайте, вы столько сделали для меня, можно, я попрошу вас еще об одном одолжении? Поиграйте мне немного. Я, должно быть, слегка обезумела от той чудесной музыки, помните, когда Петрушка борется с собой?
Играть перед ней, игравшей много лучше любого из нас, мне было стыдно, однако я вытащил нотную папку и начал прямо с «Армиды» Глюка. Я надеялся, что мое неумелое музицирование пробудит в ней эстетическое раздражение, способное изгнать удрученность, но спустя какое-то время обнаружил, что она заснула. Доиграв длинное, замысловатое диминуэндо, я закрыл рояль, выключил горевшую рядом с ней настольную лампу и на цыпочках прокрался к себе в комнату. Здесь я переоделся и прилег, готовый отправиться на прогулку, если мы все же решим посмотреть, как восходит солнце. Я дрожал от странного радостного подъема, вызванного отчасти любовью и состраданием к ней, а отчасти редким переживанием – возможностью подслушать жалобы прекрасной души, достигшей последних пределов гордости и страдания. Так я и лежал, счастливый и гордый выпавшей мне ролью опекуна, вдруг сердце мое замерло. Она плакала, не просыпаясь. Из глубин ее сна, следуя один за другим, поднимались вздохи, хриплые протесты, настойчивые возражения. Внезапно прерывистое дыхание замерло, я понял, что она пробудилась. С полминуты все было тихо, затем послышался негромкий призыв:
– Сэмюэль...
И едва я появился на пороге, как она закричала:
– Я знаю, что он презирает меня. Он избегает меня. Он считает меня назойливой дурочкой. Он велит слугам говорить, что его нет дома, а сам стоит за дверью и слушает, как я ухожу. Что же мне делать? Лучше не жить. Мне больше не хочется жить. Сэмюэль, милый, самое правильное – это уйти прямо сейчас, по собственной воле, оборвать все заблуждения, все эти бессмысленные страдания. Вы понимаете?
Она поднялась, нащупывая шляпу.
– Сегодня мне храбрости хватит, – бормотала она. – Он слишком добр и прост, чтобы я так его изводила. Я просто исчезну...
– Но, Аликс! – воскликнул я. – Мы так вас любим. Вас любит столько людей.
– Какие люди! Люди любят, когда я прихожу к ним в гости. Им нравится слушать меня и смеяться. Но никто никогда не простаивал часами в ожидании под моим окном. Никто не пытался вызнать тайком, чем я занималась весь день. Никто...
С мокрыми, вспыхнувшими щеками она снова откинулась на софу. Я заговорил, обращаясь к ней, и говорил долго. Я говорил, что ее дар состоит в служении людям, что она создана для того, чтобы доставлять им радость, что она облегчает людям бремя уныния, бремя тайной ненависти к самим себе. Я уверял, что она еще найдет счастье, нужно только развивать свой талант, упражняя его. Я видел лишь влажную, отвернутую от меня щеку, но знал, что мои слова утешают ее, ибо присущее ей дарование было из тех, за которые их обладателя никогда не хвалят в лицо. Понемногу она успокоилась и после недолгого молчания заговорила, словно во сне.
– Я оставлю его в покое. Больше я его не увижу, – начала она. – Знаете, Сэмюэль, в детстве, мы тогда жили в горах, у меня был козлик, Тертуллиан, я очень его любила. И вот он умер. Меня никак не могли утешить. Я возненавидела всех и никаких уговоров не слушала. Монахини в школе ничего не могли со мной поделать; когда приходил мой черед отвечать урок, я молчала, не желая говорить. У нас была замечательная мать-настоятельница, в конце концов она призвала меня в свою келью, но я даже с ней вела себя дурно поначалу. Однако когда она стала рассказывать мне о своих утратах, я обняла ее и впервые за все это время расплакалась. В наказание она велела мне останавливать каждого встречного и дважды повторять ему: «Господь всеведущ! Господь всеведущ!»
Помолчав немного, она добавила:
– Конечно, кого-то это должно утешать, но я все равно до сих пор скучаю по Тертуллиану. Когда я наконец исчерпаю ваше терпение, Сэмюэль?
– Никогда, – ответил я.
В окна стал пробиваться первый свет зари. Внезапно совсем близко ударил небольшой колокол, отзванивая, словно чистейшее серебро.
– Тише! – сказала она. – В какой-то церкви начинается ранняя месса.
– Здесь, прямо за углом, Санта-Мария-ин-Трастевере.
– Скорее!
Выйдя из дворца, мы полной грудью вдохнули холодный и серый воздух. Казалось, туман висит совсем низко над улицей, голубые клубы его лежали на углах. Кошка прошла мимо нас. Дрожащие, но охваченные ликованием, мы вошли в церковь, присоединившись к рабочему и двум старухам в стеганых одеждах. Потолки базилики нависали над нами, пламя свечей бокового придела, в котором мы остановились, отражалось в удивительных мраморных с золотом мозаиках ее огромной, наполненной мраком пещеры. Месса служилась споро и точно. Когда мы покинули церковь, млечный свет уже растекался по площади. Ставни немногих ее магазинов оставались закрытыми; несколько сонных прохожих, спотыкаясь, пересекали ее наискось; женщина спускала с пятого этажа корзинку с курами, которым предстояло до самого вечера рыться в земле.
Мы направились к Авентину и перешли Тибр, извивавшийся в нежной дымке, словно огромный желтоватый канат. Остановились, чтобы выпить по стакану кислого, иссиня-черного вина, заедая его персиками из бумажного пакета.
По крайней мере на время княгиня, судя по всему, решила окончательно похоронить даже самую призрачную надежду когда-либо опять увидеться с Блэром. Сидя на мраморной скамье угрюмого Авентина, под солнцем, проталкивающимся сквозь толпу стремительно летевших навстречу ему оранжевых облаков, мы задумались каждый о своем. Мне показалось, что она вновь приуныла, и я вновь принялся с нарастающим пылом перечислять доводы, в основе которых лежал ее дар.
Внезапно она гордо выпрямилась:
– Хорошо. Я сделаю попытку, чтобы вам угодить. Надо же чем-то себя занять. Вы сегодня куда-нибудь собираетесь?
Я забормотал, что мадам Агоропулос устраивает подобие музыкального вечера, что к ней зван молодой соотечественник, открывший, как он утверждает, секрет музыки древних греков.
– Пошлите ей записку. Позвоните. Спросите, можно ли и мне прийти. Я тоже хочу узнать про музыку древних греков. Слушайте, Сэмюэль, раз вы утверждаете, что мой талант именно в этом, мне следует познакомиться со всеми обитателями Рима. Я умру, служа обществу: «Здесь лежит женщина, не отвергнувшая ни одного приглашения в гости». Я буду заводить по две тысячи знакомых каждые десять дней. Радовать, так уж всех сразу. Но только имейте в виду, Сэмюэль, если и это не утешит меня, придется, сами понимаете, оставить попытки...
Радость обуяла мадам Агоропулос, когда та услышала, что ее собирается посетить недостижимая княгиня – мадам и мечтать об этом не смела. Не являясь рабыней социальных условностей, мадам Агоропулос тем не менее всей душой устремлялась к Каббале, как некоторые устремляются к Царству Небесному. Она полагала, что в этом сообществе царят мир, любовь и взыскательный ум. Уж здесь-то не встретишь ни глупца, ни завистника, ни вздорного человека. Княгиню д’Эсполи она видела лишь однажды и навсегда уверилась, что именно такой стала бы и сама, будь она немного красивее, худощавее и имей побольше времени для книг, – ей и в голову не приходило, что все это куда более в ее власти, нежели во власти княгини, и что главной препоной на пути ее преображения является ее же ленивое мягкосердечие – великое, но ленивое.
В пять часов вечера княгиня заехала за мной на машине. Описывать ее наряд я бы не взялся – довольно сказать, что она обладала невероятной способностью выдумывать новые изгибы, оттенки и линии, отвечавшие складу ее натуры. Это умение лишь способствовало ее шумному успеху в Италии, ибо итальянки, зачастую куда более красивые, уступали ей и по части фигуры, и по части вкуса. Они лихорадочно тратили в Париже несусветные деньги, достигая лишь того, что богатые ткани топорщились, или, свисая, волоклись за ними, или вздувались, создавая малоудовлетворительное впечатление, которое дамы, смутно его сознававшие, норовили исправить, обвешиваясь драгоценностями.
Мы проехали милю или две по виа По и остановились у самого уродливого дома на ней, образчика современной немецкой архитектуры, более всего уместной при строительстве фабрик. Пока мы поднимались по лестнице, она все бормотала: «Вот увидите! Вот увидите!» В холле мы обнаружили горстку запоздавших гостей, стоявших прижав пальцы к губам, меж тем как из гостиной неслись звуки страстной декламации, сопровождаемой звоном лирных струн, неутешным moto perpetuo[15]15
Вечное движение (ит.).
[Закрыть] восточной флейты и ритмичными хлопками в ладоши. Иными словами, мы пришли слишком рано; кампанию по обзаведению двумя тысячами знакомых за десять дней пришлось застопорить в самом ее начале. Раздосадованные, мы прошли в сад за домом. Трагическая ода еще отдавалась у нас в ушах, когда мы присели на каменную скамью и углубились в представление, которое невдалеке от нас давал укутанный в яркие разноцветные шали старый господин, сидевший в кресле-каталке. Это был Жан Перье. Я рассказал княгине о том, как мадам Агоропулос отыскала безгрешного старого поэта в жалкой пизанской гостиничке, где он, завернувшись в шали, дожидался скорой смерти, и как она, одарив его нежным участием, обеспечив деревенским молоком и окружив целой стаей домашних животных, вновь привела к нему музу и наполнила покоем его последние годы, что способствовало в дальнейшем его избранию во Французскую академию. В настоящую минуту он обращался с речью к кружку внимавших ему кошек. Шесть серых, как сигаретный пепел, ангорских кошечек то и дело принимались вылизывать шелковистую шкурку, бросая на своего благодетеля вежливые взгляды. Уже прочитав последнюю книгу поэта, мы знали их имена: имена шести королев Франции. Сказать по правде, мы задремали – жаркое солнце, хоры из «Антигоны» за нашей спиной и ораторские периоды Жана Перье, обращенные к французским и персидским королевам, вогнали бы в сон и того, кто не провел ночь, перемежая исповедь слезами.
Когда мы очнулись, концерт уже завершился и общество, после музыки шумное вдвойне, громогласно выражало свое одобрение. Мы возвратились в дом, мечтая о знакомствах и пирожных. Море шляпок, множество неуверенных, шарящих вокруг в вечном поиске новых приветствий глаз, обладатели которых, приметив княгиню, спешили сами разразиться приветствиями; кое-где – обширное чрево посла или сенатора, обтянутое саржей и перечеркнутое золотой цепочкой.
– Кто та дама в черной шляпе? – прошептала Аликс.
– Синьора Давени, жена великого инженера.
– Подумать только! Вы ее ко мне подведете или меня к ней? Нет, я к ней сама подойду. Вперед.
В облике синьоры Давени, маленькой женщины из простонародья, прежде всего привлекали внимание высокий гладкий лоб и ясные глаза юноши-идеалиста. Она была замужем за одним из самых выдающихся инженеров Италии, изобретателем множества удивительных мелочей, без которых невозможно самолетостроение, и оплотом консервативных методов агитации в набирающем силу рабочем движении. Сама синьора состояла во всех существовавших в стране сколько-нибудь приметных благотворительных комитетах, а во время войны руководила бесчисленными начинаниями. Сознание своей ответственности в соединении с решительной прямотой, порожденной скромностью происхождения, то и дело заставляло ее вступать в короткие, всегда победоносные стычки с тем или иным кабинетом министров или составом сената; немало рассказывали также о резких отповедях, которыми она встречала неуверенное и добронамеренное вмешательство в ее дела представительниц царствующего Савойского дома. Впрочем, известность привела лишь к тому, что манеры синьоры Давени стали еще проще, а живая ее сердечность неизменно лишала оказываемое ей уважение оттенка лести. Одежда и походка синьоры не отличались изяществом: казалось, крупные ступни обгоняют ее, как у какой-нибудь деревенской девушки, взбирающейся с кувшином по горной тропе. Пока она носила форму, такая поступь выглядела даже привлекательной, но теперь синьоре Давени пришлось снова вернуться к шляпкам, платьям и кольцам, и понимание, что ей недостает грациозности, сильно ее удручало. Дом синьоры находился в Турине, однако она подолгу жила в Риме, на виа Номентано, и знала здесь всех и вся. С непредсказуемостью, составляющей самую природу гения, княгиня завела с ней разговор о торфяном мхе, применяемом в хирургических повязках. Казалось, будто совершенства двух этих женщин, разнообразные и несхожие, окидывают друг дружку быстрым узнающим взглядом; княгиня с изумлением обнаружила столь разительные достоинства в женщине, перед именем которой отсутствует «де», а синьора Давени дивилась наличию подобных же качеств в представительнице благородного сословия.
Я отошел в сторонку, но княгиня вскоре присоединилась ко мне:
– В ней все настоящее, в этой женщине. В пятницу я обедаю у нее; вы тоже. Найдите мне кого-нибудь еще. Вон та громогласная блондинка, кто она?
– Вам с ней будет неинтересно, княгиня.
– Она должна представлять собой нечто значительное, с таким-то голосом; так кто же?
– Это, может быть, единственная в мире женщина, во всем противоположная вам.
– Тогда я обязана с ней познакомиться. Она сможет напоить меня чаем и познакомить с дюжиной других людей?
– О да, безусловно, сможет. Но у вас с ней нет ничего общего. Это узколобая англичанка, княгиня. Ее интересует только одно – Протестантская церковь. Она живет в маленькой английской гостинице...
– Но откуда в ней такая величавость? – И княгиня сделала жест, в совершенстве имитирующий оригинал.
– Видите ли, – наконец сдался я, – она достигла высших почестей, о которых может мечтать англичанка. Она сочинила духовный гимн, и ее возвели в рыцарское достоинство, наградив орденом Британской империи.
– Боже, как интересно. Я должна немедленно с ней познакомиться.
И я подвел ее к леди Эдит Стюарт, госпоже Эдит Фостер Причард Стюарт, автору гимна «Блуждая вдали от Твоих путей», величайшего из всех, написанных со времен Ньюмена. Дочь, жена, сестра – и так далее – пастора, она всю свою жизнь плескалась в освежающих струях англиканского вероисповедания. Разговоры ее сводились по преимуществу к порицанию праздной жизни, к обсуждению какого-нибудь многообещающего молодого человека из Шропшира и к рассуждениям о редакционных статьях в последних номерах «Стяга святого Георгия» и «Клича англиканца». Большую часть времени она проводила, сидя на митинговых платформах, собирая подписи и выслушивая обидную брань. Создавалось впечатление, что ее до скончания дней будет окружать кордебалет из вдов и викариев, которые, по ее выражению, едва восстав, клонились и раздавали хлебы ячменные. Ибо она сочинила величайший из духовных гимнов нашего времени, и, глядя на нее, оставалось только гадать, какой, собственно, дух и когда осенил эту горластую и самовлюбленную женщину, нашептав ей восемь строк, пронизанных отчаянием и смирением. Такой гимн мог сочинить Купер, нежная душа, раскрывшаяся навстречу пламени евангелизма, слишком жаркому даже для негров. Должно быть, на какое-то из мгновений ее мучительного девичества в ней воссоединилась вся искренность, неравномерно распределенная по многим поколениям пасторов, и поздно ночью, исполнясь непонятного ей уныния, она доверила дневнику душераздирающую исповедь. Потом приступ прошел, и уже навсегда. То был наглядный пример великой загадки: огромная глубина, которую порой раскрывают в мелком человеке вера и артистическое переживание. Будучи представленной княгине, леди Эдит Стюарт явственно приосанилась, давая понять, что титулом ее не проймешь. Аликс же вновь изумила меня, со всей прямотой попросив разрешения сослаться на новую знакомую как на рекомендательницу в ходатайстве о приеме ее, Аликс, племянника в Итон. Племянник, правда, живет в Лионе, но если леди Эдит позволит, княгиня была бы рада заглянуть к ней как-нибудь под вечер и принести несколько писем мальчика, фотографии и иные свидетельства, которые смогут убедить ее, что мальчик достоин рекомендации. Они договорились встретиться в пятницу, и княгиня подошла ко мне, ожидая, что я познакомлю ее с кем-нибудь еще.
Так продолжалось около часа. У княгини не было метода, каждая новая встреча ставила ее перед новой проблемой. За три минуты встреча переходила в знакомство, а знакомство в дружбу. Вряд ли кто-либо из ее новых подруг догадывался, насколько странным все это ей представлялось. Она то и дело спрашивала у меня, чем занимаются их мужья. И страшно радовалась, узнавая, что мужья чем только не занимаются; она никогда не думала, что может встретить таких людей, и улыбалась изумленно, будто девушка в предвкушении знакомства с настоящим поэтом, стихи которого попали в печать. Супруга врача, супруга фабриканта резиновых изделий, как интересно... Ближе к вечеру энтузиазм ее начал ослабевать.
– Я чувствую себя какой-то пыльной, – прошептала она. – И совершенной мадам Бовари. Надо же, сколько всего происходит в Риме, я и не знала. Пойду попрощаюсь с мадам Агоропулос, – tiens[16]16
Вот как (фр.).
[Закрыть], а это что за красавица? Она американка, верно? Скорее.
В тот вечер, единственный раз в жизни, я увидел прекрасную и несчастную миссис Даррел, пришедшую попрощаться со своими римскими друзьями. Когда она появилась в комнате, все примолкли; было нечто античное, платоновское во впечатлении, которое производила на людей ее красота. Она лелеяла в себе это качество с долей того тщеславия, которое мы прощаем великому музыканту, подчеркнуто вслушивающемуся в собственную безупречную фразировку, или актеру, который, забыв и об авторе, и о товарищах по сцене, и о самой пьесе, импровизирует, растягивая последние мгновения сцены смерти. Бросаемые ею взгляды, ее наряды, жесты и разговор могла позволить себе лишь неоспоримая красавица: она тоже возрождала давно утраченное искусство. К этой виртуозно используемой артистичности ее облика болезнь и страдания добавляли черту, которую даже она не могла вполне оценить, – волшебство потаенной печали. Но все ее совершенства оставались неприкасаемыми, никто из ее ближайших друзей, включая даже мисс Морроу, не осмелился бы ее поцеловать. Она походила на одинокую статую. Душа ее, уже пережив страдания близкой смерти, бросала последней вызов. Она ненавидела каждый атом мироздания, в котором возможна подобная несправедливость. На следующей неделе ей предстояло затвориться на своей вилле на Капри, чтобы в обществе неверного ей любовника прожить среди полотен Мантеньи и Беллини еще четыре месяца и умереть. Однако в тот вечер она обводила гостиную невидящим взором в умиротворенной самовлюбленности, бывшей источником и ее совершенства, и ее болезни.
– Будь я такой, он полюбил бы меня, – выдохнула мне в ухо Аликс и, опустившись на оставленный кем-то стул, прикрыла ладонью рот.
Мадам Агоропулос, испуганно взяв Элен Даррел за кончики пальцев, подвела ее к лучшему из стульев. Казалось, никто не в состоянии выговорить ни слова. Луиджи и Витторио, сыновья хозяйки, подошли и поцеловали новой гостье руку; американский посол приблизился к ней, чтобы сказать комплимент.
– Она прекрасна, прекрасна, – негромко повторяла, обращаясь к самой себе, Аликс. – Она владеет всем миром. Ей никогда не приходилось страдать так, как мне. Она прекрасна.
Я не утешил бы княгиню, открыв ей, что Элен Даррел, непомерно обожаемая еще с колыбели, ни разу не сталкивалась с необходимостью развивать, дабы не лишиться друзей, свой ум и что рассудок ее, да будет позволено мне сказать это со всем уважением к ней, остался рассудком школьницы.
По счастью, флейтист еще не ушел, он заиграл, и во время исполнения музыки из «Орфея», сопровождающей сцену в Элизиуме, в гостиной едва ли сыскалась бы пара глаз, оторвавшихся от лица новопришедшей. Она сидела, сохраняя безупречную прямизну осанки и не позволяя себе предаться ни одному из преходящих настроений, которые музыка внушает подобным ей людям: ни самозабвенному вниманию, ни уходу в мечтательные грезы. Я, помню, подумал, что она сознательно подчеркивает свою несентиментальность. Когда отзвучала музыка, она попросила провести ее ненадолго к Жану Перье, попрощаться. Через окно я смотрел на них, оставленных наедине друг с другом, – вокруг бесцельно слонялись серые кошки, французские королевы. Можно было только гадать, о чем говорили эти двое, пока она стояла на коленях близ его кресла. Поэт сказал впоследствии, что они любили друг дружку, потому что оба были больны.
Аликс д’Эсполи не шелохнулась, пока ей не стало ясно, что миссис Даррел покинула и сад, и дом. На нее вновь навалилась подавленность. Делая вид, что занята чаем, она изо всех сил старалась совладать с собой.
– Теперь я понимаю, – неслышно бормотала она. – Господь не предназначил меня для счастья. Другие могут быть счастливы друг с другом. Но только не я. Теперь я это знаю. Пойдемте отсюда.
Так началось то, что впоследствии получило у Каббалы название «Аликс aux Enfers[17]17
В аду (фр.).
[Закрыть]». Она могла начать день с завтрака в крохотном пансионе с какими-нибудь старыми девами из Англии; провести некоторое время в мастерской художника на виа Маргутта; мелькнуть в толпе на дипломатическом приеме; протанцевать до семи в отеле «Россия», куда ее пригласила жена какого-нибудь парфюмерного фабриканта; пообедать с королевой-матерью; выслушать, сидя в ложе Маркони, последние два акта оперы. И даже после этого она могла еще испытывать потребность закончить день в русском кабаре, возможно, добавив к его программе собственный монолог. Времени на встречи с каббалистами у нее больше не оставалось, и те в ужасе следили за происходящим. Они умоляли ее вернуться, но Аликс только усмехалась, блестя лихорадочными глазами, и снова ныряла в вихрь новых для нее удовольствий. Долгое время спустя, когда в разговоре каббалистов всплывало имя какой-либо римской семьи, все хором вскрикивали: «Аликс их знает!», – на что она холодно отвечала: «Разумеется, знаю», – вызывая одобрительный хохот. Знакомства, ныне приобретаемые ею рассеяния ради, сам я приобрел уже довольно давно – в целях исследовательских или просто по склонности к обзаведению знакомствами, – впрочем, вскоре у нее их насчитывалось на несколько сот больше, чем у меня. Время от времени я сопровождал ее к новым друзьям, но гораздо чаще мы с нею сталкивались, независимо друг от друга попав в какое-нибудь смехотворное окружение; повстречавшись, мы тут же удалялись и затем обменивались сведениями о том, как мы здесь оказались. Стоило коммендаторе Бони пригласить нескольких человек на Палатинский холм, Аликс была уже тут как тут. Стоило Бенедетто Кроче устроить для узкого круга чтение своей статьи о Жорж Санд, как мы уже всматривались друг в дружку сквозь торжественный воздух. Она лишилась гребенки, отстаивая реализм на бурной премьере Пиранделловой «Sei Personaggi in Cerca d’Autore»[18]18
«Шесть персонажей в поисках автора» (ит.).
[Закрыть]; а на приеме, который Казелла дал в честь Менгельберга, превзошедшего самого себя на сцене «Аугустео», добрый старик Босси наступил на шлейф ее платья, и звук рвущегося атласа резанул слух дюжине упоенных органистов.
Когда буржуа обнаружили, что Аликс принимает любые приглашения, поднялся шум паче шума вод многих. Большинство приглашавших ее полагало, что она не снизошла бы до них, если бы перед нею не начали закрываться двери домов почище, но, беленькую или черненькую, они все равно готовы были ее принять. И они получили лучшее, что Аликс могла им дать: чуть приметная примесь безумия лишь делала ее дар более ослепительным. Люди, всю жизнь смеявшиеся над убогими шутками, наконец услышали нечто и вправду смешное. Ее упрашивали показать ту или эту сценку, ставшую знаменитой.
– Вы слышали, как Аликс изображает говорящую лошадь?
– Нет, но в прошлую пятницу она показала нам Кронпринца во «Фраскатти».
– О, это вам повезло!
Впервые в жизни она начала водиться с художниками и имела у них наибольший успех. Созданный горем фон, по которому она живописала свои картины и который в те дни сообщал ее искусству особое волшебство, они видели гораздо ясней, чем фабриканты. Художники неизменно примечали его, и любовь к княгине подталкивала их к тому, чтобы делать ей удивительные подношения, хотя великое оцепенение души и не позволяло Аликс в ту пору по достоинству их оценить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































