Читать книгу "Манчестерский либерализм и международные отношения. Принципы внешней политики Ричарда Кобдена"
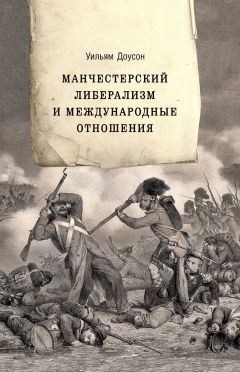
Автор книги: Уильям Доусон
Жанр: Зарубежная деловая литература, Бизнес-Книги
сообщить о неприемлемом содержимом
Еще в 1839 г. Кобден пришел к убеждению, что Пальмерстон политически «неизлечим», и написал одному адресату: «Он пребывает в заблуждении, что живет в 1808 г., и пока он жив, избавить его от этого заблуждения невозможно». Тем не менее Кобден никогда не прекращал попыток наставить Пальмерстона на путь истинный, но временами вел себя скорее слишком резко, нежели целесообразно. Следует, пожалуй, признать, что стойкая антипатия к Пальмерстону-политику порой приобретала оттенок личной неприязни. Остроту этой антипатии и неприязни лучше всего передают уничижительные прозвища, которыми Кобден обильно приправлял критику неугодного ему министра в опрометчиво откровенных письмах. «Старый недоумок», «неисправимый старый пройдоха», «шут гороховый», «этот слишком успешный шарлатан», «почтенный политический жулик», «мошенник», «злой гений нашего поколения», «старый греховодник» – эти и им подобные эпитеты свидетельствуют о предельном нарастании враждебности и гнева.
Даже в официальной парламентской критике своего противника Кобден не особо старался смягчать выражения, но, впрочем, почти никогда не выходил за рамки приличий. Он без колебаний повторял в Палате общин порицания, которые излагал в частной переписке, и даже сказал в лицо Пальмерстону, что тот является дорогой роскошью, которую страна не может себе позволить. Выступая в Палате 1 августа 1862 г., Кобден заявил: «Я не раз пытался подсчитать, в какую сумму благородный лорд обошелся нашей стране. Если начать с 1840 г., с той операции в Сирии, после которой наши государственные расходы начали непрерывно расти (и кстати, он вместе с покойным адмиралом Нейпиром постоянно упрашивал и убеждал сэра Роберта Пиля их повышать), если учесть китайские войны, афганскую и русскую войну, его траты тут, там и повсюду, его фортификационный план, который, я полагаю, нам придется теперь принять со всеми неизбежными последствиями увеличения военных расходов, – то по самой скромной оценке благородный лорд обошелся нам в 100 млн ф. ст. Иначе говоря, при всех его заслугах он, на мой взгляд, стоит слишком дорого». Столь необычный способ оценки стоимости государственного деятеля полностью отвечал привычке Кобдена подвергать практические вопросы соответствующей проверке. Однако на этот раз он не одержал победы в дебатах, поскольку палата отказалась оценивать своего героя по такой чисто бухгалтерской методике.
Возмущение, как и любое дурное настроение, опасно тем, что мешает здравому суждению и нарушает чувство меры. Чем больше Кобден нападал на Пальмерстона, которого искренне считал врагом мирной жизни страны, тем больше в нем росло негодование. В конце концов наступило время, когда недостатки своевольного государственного деятеля, какими они представлялись Кобдену, стали для него нездоровой навязчивой идеей. Они настолько занимали внимание Кобдена, что не позволяли ему видеть хорошие и достойные похвалы качества противника, который, конечно, не был тем сварливым и драчливым интриганом, каким его изображал Кобден. Время от времени Пальмерстон давал жесткий отпор, но чаще позволял Кобдену размахивать кулаками, сколько угодно, ибо прекрасно знал, что в случае необходимости магнетическая власть над общественным мнением позволит ему добиться своего. Однако самое замечательное в этой истории, что в общем и целом ни один из противников не воспринимал нападки другого как личное оскорбление и в конечном итоге они не держали зла друг на друга. Как мы уже говорили, Пальмерстон великодушно пригласил Кобдена в свой второй кабинет, а Кобден, со своей стороны, несомненно, почувствовал нечто большее, чем неосознанное уважение к противнику.
В той же самой парламентской речи, отрывок из которой мы привели выше, Кобден изменил своему правилу и воздал должное искренности министра, чью политику столь часто и сурово порицал: «Когда я говорю о политике благородного лорда, я совершенно убежден, что он совершенно искренен, ибо чем дольше я живу, тем больше верю в человеческую искренность. Я убежден, что люди часто обманывают сами себя, часто совершают ошибки по причине прискорбного невежества». Такие слова Палата общин встречает с одобрением, и они повышают уровень политической жизни. В данном случае Кобден этим великодушным жестом ослабил свою позицию, но зато укрепил свою репутацию объективного полемиста и порядочного человека. Однако Пальмерстон до самого конца возглавлял составленный Кобденом черный список угроз для государства. В декабре 1862 г. Кобден написал в одном письме: «Будьте уверены, если бы я мог отстранить от дел этого старого пройдоху, я совершил бы тем самым акт благочестия по отношению к небесам и акт милосердия по отношению к людям».
Кобден постоянно сетовал на то, что люди не разбираются в делах страны, и считал, что именно по этой причине страна позволяет втягивать себя в бесполезные и опасные заграничные авантюры. Невежество масс объяснялось не только отсутствием широкого политического представительства. К сожалению, в то время отсутствовала развитая газетная периодка, возникшая во второй половине столетия. Поэтому общественное мнение редко получало возможность высказаться по важным политическим вопросам решительно, быстро и от имени многих. Под прессой ранневикторианской эпохи следует понимать отнюдь не тот замечательный механизм печатной пропаганды, который в наши дни охватывает всю страну и доносит свое воздействие до самых удаленных деревушек и уголков трех королевств, а сравнительно малочисленные столичные и провинциальные газеты, слишком дорогие для масс и набиравшие по большей части лишь десятки тысяч читателей. Дешевая пресса со всеми ее достоинствами и недостатками была делом будущего. Еще в 1836 г. за каждый экземпляр газеты взимался налог в 4 пенса; в том же году он был снижен до пенса и еще полпенса за приложение (обычная газета тогда представляла собой один лист большого формата), и хотя в 1855 г. марки были заменены почтовыми штампами, налог был формально отменен лишь в 1870 г., и почта стала доставлять газеты за полпенса. Когда Кобден начал заниматься общественной деятельностью, влияние прессы было весьма ограниченным. В 1830 г. совокупный тираж облагаемых налогом газет составлял всего лишь 30 млн экземпляров, – меньше, чем сейчас выходит за неделю; в наши дни месячный тираж некоторых лондонских газет превышает совокупный годовой тираж всех ежедневных и еженедельных газет Соединенного Королевства в середине прошлого века.
Кроме того, во времена Кобдена столичная пресса формировала общественное мнение в несравненно большей степени, чем впоследствии, а влиятельные редакторы из стана тори всегда принимали сторону правительств и министров иностранных дел, поддерживая их старания заработать престиж за счет вмешательства в дела иностранных государств. Даже лорд Пальмерстон не преминул воспользоваться услугами газетчиков. Кобден цитирует одну лондонскую газету 1834 г., метавшую громы и молнии на тогдашний кабинет за то, что тот оставил нерешенными многие континентальные споры и проблемы, поскольку не имел решимости проводить влияние Англии за рубежом: «Голландский вопрос не решен, – писал этот разгневанный автор. – Французы до сих пор в Анконе, Дон Карлос сражается в Испании, Дон Микель и его сторонники готовятся к очередному противоборству в Португалии, Турция и Египет на ножах друг с другом, Швейцария бранится с соседями из-за итальянских беженцев, Франкфурт оккупирован пруссаками в нарушение Венского договора, Алжир стал большой французской колонией в нарушение обещаний 1829 и 1830 гг., 10 тыс. польских дворян по-прежнему остаются вне закона и скитаются по всей Европе, французские тюрьмы переполнены политическими заключенными. Одним словом, ничто не закончилось». И все это происходило потому, что Англия недостаточно сознавала свою обязанность поддерживать порядок в мире. Приведенная цитата, как зеркало, отражает превратный склад ума политиков интервенционистского толка, с которыми Кобден боролся на протяжении целого поколения.
Еще один немаловажный политический факт, отличающий эпоху Кобдена от нашей, – это отношение Англии к Франции. Вплоть до середины столетия не изгладившиеся болезненные воспоминания о французских войнах досаждали обеим странам, создавая на вид безнадежную атмосферу отчужденности. Франция не забыла унизительного поражения и не простила державы, которые в 1815 г. вынудили ее сжаться до пределов старых границ, в результате чего после 20-летней борьбы она потеряла не только честь и славу, но еще территории и богатство.
С другой стороны, большинство англичан традиционно считали Францию непримиримым врагом своей страны и постоянной угрозой ее безопасности. «Если бы еще совсем недавно, – сказал Кобден, выступая 17 июня 1851 г. в Палате общин по вопросу вооруженных сил, – в наших маленьких городках или деревнях кто-нибудь заговорил на иностранном языке, все равно на каком, грубые и неотесанные местные жители назвали бы его французом и, весьма возможно, начали бы оскорблять». И действительно, вряд ли найдется такое обвинение или такой упрек в адрес страны (а не только ее правительства или правящего класса, в адрес страны, вынесшей основную тяжесть недавней войны в числе держав Антанты), которые на протяжении большей части прошлого столетия не предъявлялись бы французам, – с неизменной решительностью и порой не без оснований. Для большинства англичан всех классов французы были народом, примиряться с которым непатриотично. Даже среди рассудительных государственных деятелей мало кто верил, что сосед, который столь часто оказывался явным или тайным врагом, может когда-нибудь стать надежным другом. Вплоть до середины столетия без малейшего перерыва в отношении Франции сохранялось стойкое предубеждение: ее считали наиболее вероятным возмутителем спокойствия, и страх перед французским вторжением дважды вызывал у англичан настоящую панику.
Одним из самых серьезных недостатков английского национального характера Кобден был склонен считать то, что англичане не могли делать двух вещей одновременно. Они не могли даже ненавидеть две страны одновременно. Враждебность к Франции ослабела в начале 1850-х годов, когда внезапно обострились медленно набиравшие силу антироссий-ские настроения. Провинность России состояла не в совершении каких-либо явных недружественных актов по отношению к Англии, а в агрессивных намерениях по отношению к Турции, целостность и независимость которой неизменно входила в число важнейших европейских приоритетов. Великобритания и Франция объединились в интересах насущно необходимого политического равновесия и вступили в Крымскую войну на стороне Турции. Но как только это бесполезное столкновение закончилось, вновь вспыхнуло старое недоверие, и в третий раз наступило паническое ожидание вторжения, – теперь уже на обоих берегах Ла-Манша.
Пальмерстон всегда относился к Франции с подозрением и не позволял себе терять бдительность. Еще в 1834 г. он писал: «Париж – вот основной объект моей внешней политики»; на этой позиции он стоял до конца. Ссоры с Францией были для него обычным делом, и при содействии таких же горячих голов на другой стороне он не однажды ставил две страны на грань открытого столкновения. К Луи Филиппу Пальмерстон питал такое недоверие, что когда произошла революция 1848 г., всеми силами помогал созданию Второй республики. Но французская демократия, все еще пребывавшая под обаянием бонапартизма, быстро объявила Луи Наполеона ниспосланным свыше восстановителем величия прежних дней. Пальмерстон честно пытался наладить дружеские отношения с первым президентом Франции, но вскоре оставил эту затею. Бледная тень гигантской исторической личности, Луи Наполеон, возможно, и не был столь вопиюще безнравственным, каким предстает в изображении хорошо знавших его людей, но все же был человеком достаточно скверным. Как свидетельствуют его собственные министры и его собственные поступки, он был прирожденным заговорщиком, мастером хитрых уловок и вдохновлялся, несомненно, далеко идущими честолюбивыми замыслами, но вероломность и лживость выдавали всю неприглядность его натуры. Свою революционную деятельность Луи Наполеон начал совсем молодым человеком, в 20 с небольшим лет, и вся его карьера вплоть до получения императорского титула в 1852 г. была вакханалией беззакония. Один из его министров, историк Гизо, в письме лорду Абердину дал ему такую откровенную характеристику: «Он всегда выступает в двух ролях – в роли императора и в роли заговорщика. Он мечется между своими мечтами и своим эпикурейством, между прошлыми страстями и текущими интересами» (24 января 1850 г.). Будучи человеком предельно честным, открытым и прямым, Пальмерстон не терпел хитрых уловок и, как только составил представление о Луи Наполеоне, раз и навсегда потерял к нему доверие. Последние десять лет жизни Пальмерстон с беспокойством следил за каждым ходом Франции на политической шахматной доске Западной Европы, ибо прекрасно понимал, что неугомонный император жаждет перекроить свои восточные границы.
Сейчас излишне напоминать, что в середине прошлого столетия Англия потому вооружалась против Франции, что эта последняя агрессивно вела себя в Германии. Подобно тому как Цезарь разделил Галлию, Луи Наполеон тоже разделил Германию на три части, – Австрию, Пруссию и Рейнланд. От Австрии он ничего не требовал, но зато решил переместить восточную границу Франции на Рейн или за Рейн и долго строил разные козни, прежде чем оставил эту затею как безнадежную. Пальмерстон хотел видеть Пруссию или Германию сильными не потому, что питал к ним любовь. Его заботил только расклад сил и только с точки зрения английских интересов. Для решения задачи, считал он, требовалась достаточно сильная Германия, способная служить бастионом против России на востоке и Франции на западе; за двумя этими агрессивными державами следует бдительно следить и быть наготове, чтобы в случае необходимости решительно нейтрализовать их.
Кобден считал предвзятость по отношению к другим странам позицией неблагородной и необоснованной. Если в 1836 г. он написал свое второе сочинение с целью сдержать нараставшие в то время антироссийские настроения, то в 1853 г. он взялся за перо, чтобы защитить Францию от неприязни и недоверия. Кобдена коробили бывшие в ходу искаженные трактовки политических событий, не позволявшие необразованным людям узнать правду. «Нашу современную историю необходимо переписать», – заметил он в одном из ранних писем. В работе «1792 и 1853 годы в трех письмах» он изложил свою версию одного эпизода из недавней истории Англии, предложив новый взгляд на возникновение французских революционных войн и участие в них Англии. Версию Кобдена нельзя принять без оговорок, но все же он заполнил многое важные пробелы и в описании мотивов, побудивших правительство Питта объединиться с восточными державами, ушел от истины как минимум не дальше, чем апологеты Пита с их объяснениями. Если же говорить о решительном осуждении ревности и подозрительности между странами, гонки вооружений, войны и воинственного духа, столь часто вспыхивавшего в святых и мирских местах, то позиция Кобдена нисколько не утратила силу и актуальность. Позднее он посвятил другую работу проблеме более разумных и взвешенных отношений между Англией и Францией.
Общественная деятельность Кобдена совпала по времени с великим пробуждением национально-государственного самосознания в континентальной Европе, и этому пробуждению он целиком и полностью сочувствовал. Брожение было заметно всюду. В 1831 г. Бельгия добилась выхода из унии с Голландией, в Италии движение за объединение было уже на прямом пути к победе, венгры и поляки жаждали прежней независимости. Даже в Турецкой империи появились многообещающие признаки перемен. По Адрианопольскому договору 1829 г. Молдавия и Валахия получили автономию по гарантии России, а Греция после четырех веков турецкого владычества сбросила ненавистное иго. В 1832 г. и в 1842 г. Сербия приобрела существенные элементы государственной самостоятельности. Затем пришел 1848 г., и бурная волна политических потрясений захлестнула всю Западную Европу. Во Франции она смыла Орлеанскую ветвь династии Бурбонов, правившую после революции 1830 г., и заменила монархию Второй республикой, а в Германии пошатнула троны, но пока их не опрокинула их. Она подняла движение за национальное единство и вынесла его далеко на берег, где оно, когда воды спали, ожидало нового и более сильного подъема национального самосознания, которому предстояло нахлынуть через два десятилетия. Это бурное время не обошло стороной и Австрию; в Вене и в Венгрии вспыхнули восстания. Деспотичному Меттерниху, 40 лет подавлявшему либеральные движения, пришлось покинуть страну и искать убежище в Англии – спокойной, потому что свободной. Правда, в Германии и Австрии революция вскоре была подавлена, и с восстановлением порядка репрессивный механизм стал работать более жестко, чем раньше. Для этих стран великая трагедия заключалась в том, что правители и народы забыли свои унижения и не извлекли из них никаких уроков.
Все подобные национальные устремления, поскольку они возникали стихийно и не были опосредованы вмешательством извне, в высшей степени отвечали убеждениям Кобдена – его любви к свободе и его преклонению перед независимостью, будь то независимость отдельного человека или народа. События укрепили его убежденность в том, что лучшая услуга, которую столь могущественная страна, как Англия, может оказать своим соседям, – это оставить их в покое и позволить им самим решать свои проблемы. Конечно, Кобден понимал, какие силы подталкивают к широким политическим агломерациям, но тогда и до последних дней его сердце было на стороне малых наций. «Я могу показаться утопистом, – писал он впоследствии, – но я не питаю симпатии ни к великим нациям, ни к тем, кто хочет возвеличить народ расширением империи. То, что я хочу видеть, – это рост, развитие и возвышение отдельного человека».
Если задаться вопросом, какую роль в разработке внешней политики играл народ в те времена, когда правительства и даже отдельные министры могли брать на себя столь большую ответственность, то неизбежен вывод, что Англия была страной народоправия только по видимости. Правда, незадолго до появления первого сочинения Кобдена была проведена парламентская реформа, значительно расширившая реальную аудиторию, к которой могли обращаться общественные деятели. После большой войны люди редко сразу успокаиваются; у них возникают новые стремления, новые ожидания, и в конечном итоге массы почти неизбежно делают шаг или два (а порой и несколько) по пути к конечной цели любого государства – к равенству возможностей и равенству гражданскому. История войн – это история насилия, а также несправедливости и неправых действий одной из сторон или, что бывает чаще, обеих сторон. Но в этой истории встречаются эпилоги, повествующие о приходе политической свободы и социального раскрепощения, и во многих случаях только они служат возмещением за все мерзости и ужасы войны.
После того как англичане столько сделали ради свобод континентальных стран, они подумали, что будет правильно сделать что-нибудь для самих себя в этом направлении. Сразу после завершения Наполеоновских войн началось движение за парламентскую реформу. Особенно заметно оно развернулось на севере, где дело народной свободы привело к ряду серьезных конфликтов. Находившиеся у власти тори противодействовали этому движению вплоть до 1830 г., когда их сменили виги. Возглавивший кабинет граф Грей обещал, что приоритетами политики его партии будут сохранение мира, невмешательство в дела других стран и решительное сокращение государственных расходов. Однако долгое владычество лорда Пальмерстона в министерстве иностранных дел, которое как раз тогда и началось, сделало эту программу невыполнимой. Вместе с тем новое правительство взялось, наконец, за долго ждавшую своего часа проблему парламентской реформы. Хотя по сравнению с последующими шагами это первое новшество было очень скромным, некоторые противники реформы категорически отвергали ее как предвестницу падения монархии. В результате реформы были упразднены многочисленные «карманные» и «гнилые» избирательные округа с незначительным населением. Однако введенный ценз – не менее 10 ф. ст. годового дохода для избирателей-домовладельцев в городских и поселковых округах и такая же сумма годовой арендной платы для арендаторов в графствах – ничего не значил для всех промышленных и сельских рабочих, которым пришлось ждать еще целое поколение, прежде чем они получили хотя бы частичное представительство. Палата лордов отклонила законопроект 1831 г. и, вполне возможно, отклонила бы законопроект следующего года, поскольку хорошо понимала, что результатом будет разбавление аристократического парламента значительным притоком плебейской крови. Так что управление страной по-прежнему оставалось в руках титулованных дворян и крупных землевладельцев, их жен и наперсниц, которые держали блестящие салоны или инструктировали своих избранников письменно. Поэтому в целом для страны не имело значения, какая из двух партий находится у власти: правящие политики, будь то виги или тори, представляли практически один и тот же класс со всеми его традициями, идеями, предрассудками и интересами. Таким образом, аристократия продолжала сохранять не только право первого выбора лакомых должностей в метрополии и в колониях, но и более ценную привилегию облагать налогом массовые продукты питания простых людей.
Неудивительно, что люди, которые неохотно одобрили парламентскую реформу 1832 г. и сочли свое дело сделанным, оказались неспособными ни возглавить, ни даже правильно понять силы, послужившие причиной частичного раскрепощения, и новые силы, получившие теперь свободу. Биограф Кобдена, писавший в то время, когда его стойкие индивидуалистические предпочтения еще не были скорректированы практическим опытом работы в правительстве, утверждал, что многие социальные устремления, пробужденные и подстегнутые парламентской реформой три поколения тому назад, «остаются совершенно вне сферы внимания любого правительства»[9]9
Life, I, p. 89.
[Закрыть]. Однако, по сути, это утверждение означает лишь следующее: правящие политики и партии тех дней не поняли (как очень часто не понимали и их преемники), что сфера действия и функции государства не могут быть жестко зафиксированы раз и навсегда, но должны оставаться максимально гибкими, легко адаптирующимися к новым социальным и экономическим условиям, к более высоким представлениям о человеческом и гражданском достоинстве, которые распространяются благодаря образованию и культуре, а также к моральным стандартам, принятым в любую данную эпоху.
Дело было в том, что старая эпоха подошла к концу, как исчерпавшая себя система ценностей, и на смену ей пришла новая эпоха, открывшая такие задачи и обязанности государственного руководства, которые были неведомы ни вигам, ни тори традиционной закваски. Эти люди ничему не научились и ничего не забыли со времен луддитских бунтов 1812–1818 гг. и резни в Питерло в 1819 г. Тогда правительство лорда Ливерпуля с подлинно аристократическим представлением о нуждах общества выделило 1 млн ф. ст. на строительство церквей, думая таким образом удовлетворить социальные чаяния и стремления беспокойной и неуравновешенной эпохи. Для этих людей самоцелью было получить политические голоса, и когда голоса им великодушно отдавали, они считали, что свое дело сделали. А те слои, которые впервые получили право голоса, и в еще большей мере те, которые по-прежнему оставались вне пределов полноценного гражданства, видели в праве голоса лишь средство для достижения определенных целей и теперь двигались к этим целям нетерпеливой поступью. Великому пробуждению, с которым были связаны представления о доселе неведомых обязанностях, предстояло затронуть обе традиционные партии, но время для этого еще не пришло. Неспособность обеих партий решительно обратиться к надвигающимся новым проблемам сделало эти проблемы более сложными, а их решение более трудным и в конечном итоге более болезненным. Наступили «голодные сороковые»; они принесли с собой более настойчивую и на сей раз успешную агитацию против налога на хлеб бедняков, возобновление попыток расширить границы объединений рабочих, дальнейшие и более активные фазы чартистского движения.
В это же самое десятилетие социализм и коммунизм перешли со стадии чисто книжной теории на стадию серьезной публичной полемики. Если в Англии рабочий класс в общем и целом довольствовался прежним политическим статусом бедного пасынка либерализма, то за границей возникло сильное левое движение, и с политических трибун зазвучали таинственные слова «классовое сознание» и «рабочая солидарность».
В то время социального брожения быстро поднималось сословие промышленников и торговцев; обладая большой сметкой и прозорливостью, они много могли сделать для промышленной революции, которая шла теперь полным ходом разумными и надежными путями. Но на беду свою эти люди были, как правило, плохо образованны, а потому равнодушно и пренебрежительно относились к интеллектуальным и социальным проявлениям духа времени; впоследствии это невнимание плохо сказалось на них самих и на обществе в целом. Правда, следует признать, они были слишком заняты добыванием богатства (которое в середине прошлого столетия доставалось легче, чем когда-либо раньше или позже) и строительством городов, в которых это богатство можно было приобретать и хранить; поэтому им не хватало времени думать о новой Англии. К тому же нередко случалось, что состояние, приобретенное отцами с молниеносной быстротой, проматывалось или терялось сыновьями; в Ланкашире, к примеру, ходила пословица (не утратившая актуальности и по сей день): «От одних деревянных башмаков до других два поколения». Эта неуемная и особенно характерная для Севера гонка за богатством была проявлением инстинктивного, типа sauve-qui-peut, стремления вырваться из нищей массы. Такая схватка, естественно, не могла быть опрятной и благопристойной, а тем более учитывающей альтруистические соображения. Сильные неизменно выходили вперед, слабые оставались позади, а самых слабых просто затаптывали. За полнейшее невнимание к социальным обязанностям, проявленное всеми правительствами того переходного времени, последующие поколения заплатили крупный штраф, и долг все еще далеко не погашен.
Как мы видели, каприз судьбы забросил Кобдена, потомка земледельцев, в класс промышленников, но сам Кобден никогда не симпатизировал всепоглощающим сугубо материальным интересам этого класса. Он не попрекал новых завоевателей страны их богатством, но его сильно огорчало, что они были равнодушны к культуре, лишены чувства собственного достоинства, в любой момент могли отбросить лестницу, поднимавшую их из безвестности к вершине, и с готовностью заискивали перед аристократическим обществом, в котором, как они понимали, у них не было ни малейшей надежды быть принятыми на равных[10]10
Насколько можно судить, в Германии Кобден встретил таких промышленников и торговцев, которых, к своему сожалению, не находил дома. «Мне стыдно подумать, – писал он брату Фредерику во время первой поездки по Германии в 1838 г., – что у нас почти нет культурных и образованных людей, каких я видел на континенте, когда знакомился с производством машин, прядильным производством и т. д.» С последней четверти прошлого столетия немало представителей немецкого торгово-промышленного класса, который удостоился похвал Кобдена, селились в Англии и становились достойными ее гражданами. Однако по странной социальной иронии многие их потомки предпочли перейти от традиционной коммерческой деятельности к свободным профессиям и даже пойти на государственную службу, которая сейчас, хорошо ли это или плохо, стала настолько многонациональной, что не имеет аналогов в мире.
[Закрыть]. Настало время, когда вера в коммерческий класс, почти безграничная в разгар агитации Кобдена за беспошлинные продукты питания, стала слабеть; Кобден видел, что все помыслы этого класса сосредоточены на деньгах как единственном средстве достижения более высокого социального положения. По мере того как эта вера исчезала, Кобен все больше связывал свои надежды с трудовыми массами промышленных городов и сельской местности. Именно в них он стал видеть силу, способную совершить великий национальный переворот, который окончательно сбросит феодальный гнет, столь долго отягощавший дух и жизнь Англии.
Человек из народа в самом прямом и лучшем значении этих слов, Кобден, однако, никогда не льстил народу и никогда не скрывал от людей правду, которую считал необходимой для их блага. В этом отношении он полностью разделял демократические настроения тех времен. Он искренне симпатизировал политическим чаяниям рабочего класса и в этом плане был гораздо прозорливее, чем большинство его образованных современников. Выступая за дальнейшее расширение избирательного права, Кобден считал, что участие более широких слоев населения в управлении государством не только является законным правом этих людей, но и отвечает подлинным интересам страны в целом. В дальнейшем он не переставал удивляться, почему рабочие, которые могли бы объединиться и приобрести огромную силу, если бы только задумались об этом, так безропотно и так долго терпят свое унизительное положение. «Неужели среди них нет Спартака, – писал он в одном письме, – который возглавил бы восстание порабощенного класса против его политических мучителей?»
Однако сколь бы искренним другом рабочих ни был Кобден и сколь бы важным ни считал просвещение народа, нельзя сказать, что он в полной мере понимал всю сложность проблемы положения масс, которая уже громко стучалась в двери страны и на неотложность которой настойчиво указывали Рёскин, Карлейль, Кингсли и многие другие прозорливые умы того поколения. Сомнительно также, что Кобден яснее, чем средний класс в целом, видел, в каком направлении разворачиваются массовые движения того времени. Наконец, нет никаких свидетельств, что он когда-либо размышлял о социалистических идеях, хотя слова «социализм» и «коммунизм» пользовались особой популярностью в кругу передовых социальных реформаторов середины столетия, а к числу современников Кобдена принадлежали Роберт Оуэн (тоже текстильный промышленник), который много писал о социализме и проводил социалистические эксперименты, и Луи Блан, о чьих «общественных мастерских» Кобден не мог не слышать, когда бывал в Париже.
Но Кобден все яснее понимал одну вещь: рабочий класс непременно должен фигурировать в общих схемах международной политики. Признание этого обстоятельства побудило Кобдена рассматривать рабочий класс как необходимого и естественного помощника в любой попытке придать внешней политике такой дух и такую направленность, которые обновят ее, сделают ее более широкой и человечной.






























