Читать книгу "Манчестерский либерализм и международные отношения. Принципы внешней политики Ричарда Кобдена"
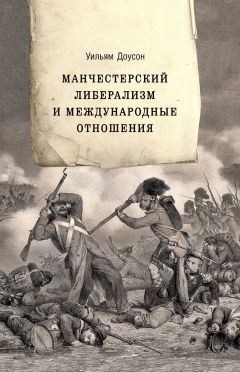
Автор книги: Уильям Доусон
Жанр: Зарубежная деловая литература, Бизнес-Книги
сообщить о неприемлемом содержимом
Кобден был одной из тех редких натур, которые, по словам Паскаля, «ищут истину со слезами». Сильные переживания и даже душевные муки придают страстность и возвышенность многим местам в его сочинениях и особенно в письмах, когда он излагает убеждения, сложившиеся в результате добросовестных исследований и размышления. Таким он был и другим быть не мог. Можно сказать, в его личности воплотились те черты, которые он видел в Линкольне, когда писал: «Великие нравственные качества… в конечном счете влияют на судьбы мира больше, чем чистый интеллект». Можно также сказать, что по тем здравым, непреходящим и стойким добродетелям – по честности, прямоте, мужеству, правдивости, – которые Кобден демонстрировал в общественной жизни, он был образцом добропорядочного, достойного «буржуа», чем всегда гордился; вместе с тем по тактичности и благородству поведения Кобден был (сознавал он это или нет) подлинным аристократом духа.
Общественная жизнь стала для Кобдена чередой взлетов и падений, успехов и неудач, поскольку в большинстве случаев он отстаивал цели, которые общество не поддерживало и плохо понимало. Но даже перед лицом самого жесткого отпора мужество его не покидало. Когда после выборов 1857 г. Пальмерстон вернулся в политику, имея подавляющее большинство, политические перспективы Кобдена представлялись самыми незавидными, и добрые люди посылали ему ободряющие письма, полагая, что он «совершенно пал духом и нуждается в утешении». По этому поводу Кобден заметил: «Вряд ли есть хоть кто-то на всем свете, чьи жизнерадостность и удовлетворенность так мало зависят от внешних обстоятельств, как у меня. Поскольку моя задача в общественной жизни – это продвижение к целям, которые, как я считаю, истинны и, следовательно, непременно восторжествуют, я после временной неудачи никогда не переживаю того упадка духа, который обязательно настигает людей, преследующих исключительно личные цели».
Но, конечно, ни один человек, каким бы оптимистом он ни был, не смог бы сохранять неизменную твердость духа при такой напряженной жизни, какой жил Кобден. У него, как и у всех борцов за дело прогресса, бывали минуты уныния, когда он видел, насколько медленно идет дело, насколько скромны успехи и сколько еще предстоит совершить, видел, что энтузиазм союзников испаряется и их рвение уступает место апатии и равнодушию, видел, что партии отходят от прежних четких принципов. Именно в минуты такого настроения он, выступая в Рочдейле, позволил себе посетовать вслух: «Боже мой! Я порой сожалею о прошлых временах и чувствую стыд за нынешнюю Палату общин, вспоминая о тех годах, когда я впервые вошел в это собрание. Тогда между двумя крупнейшими партиями существовала четкая демаркационная линия, цели были достаточно велики и достойны умственных усилий, достойны того, чтобы ради них стоило стареть и седеть! А что сейчас может соответствовать честолюбивым планам общественного деятеля? Я наметил задачу в общих чертах, а детали пусть теперь додумывает молодежь, если желает процветания своей стране» (26 июня 1861 г.). Впрочем, депрессия была лишь временной, и еще четыре года Кобден работал с прежним пылом, пока не пал в полном вооружении.
Следует остановиться и на общих чертах общественной деятельности Кобдена. Он был политиком в широком смысле этого слова и в целом (сознавал он это или нет) принадлежал к школе Бентама. Впрочем, он никогда не пытался сформулировать собственную политическую философию, поскольку не имел склонности к отвлеченным доктринам и любого рода абстракциям. Вместе с тем нельзя отрицать, что из разрозненных элементов его позиции, его принципов практического действия и максим здравого смысла вполне можно было создать целостную систему политической мысли и эта система была бы разновидностью альтруистического утилитаризма. «Наибольшее благо наибольшего числа людей» – именно эта формула точнее всего описала бы взгляд Кобдена на задачу любой политической деятельности. Однако важнее всего для него были базовые принципы вкупе с конкретными фактами жизни. Исходя из того что мир лучше войны, дружба между народами лучше вражды, процветание лучше бедности, устойчивый общественный порядок лучше опасного хаоса, он задавал вопрос: как добиться этого лучшего и избежать худшего? Ответ был таков: нужно полностью изменить отношения между народами, поставить перед внешней политикой более высокую и гуманную цель. Решению именно этой задачи Кобден посвятил свою просветительскую работу как общественный деятель и свои усилия в Парламенте. Он стремился находить союзников во всех социальных слоях, ибо отвергал убеждение правящего класса, согласно которому политика как таковая и особенно внешняя политика – это предмет сложный для понимания и доступный лишь людям образованным и хорошо начитанным. Кобден, напротив, считал политику простым и повседневным делом, вполне понятным самому неискушенному уму, и, следовательно, в первую очередь заботой простых людей. Главные принципы внешней политики он видел в том, что моральный закон един и неделим, вследствие чего морально предосудительное не может быть политически правильным, в том, что действия, правильные или неправильные для отдельно взятого человека, в такой же мере правильны или неправильны для стран, и наконец, в том, что в своих взаимоотношениях страны обязаны просто-напросто вести себя справедливо и достойно, по тем же правилам, которыми регулируются отношения людей в обществе.
Подобное представление о международных отношениях свидетельствует о подлинно «интернациональном сознании», и никто во времена Кобдена не обладал в большей мере, чем он, таким сознанием, – свободным от предвзятости, нетерпимости и ограниченности. Заграничные поездки и знакомства с людьми многих стран и народов укрепили это замечательное свойство его натуры; ведь большой ум – это качество врожденное, а не приобретаемое, и замечательная широта и исключительное благородство взглядов были присущи Кобдену от природы. Вглядываясь в будущее, он представлял человечество как как великое сообщество, связанное воедино свободными и ничем не стесненными материальными и интеллектуальными отношениями, как сообщество, каждая часть которого вносит свой вклад в благополучие и счастье целого. Он не уклонялся от критики других стран, но делал это чрезвычайно сдержанно и осмотрительно, всегда старался понять чужой склад ума и судить о чужих проблемах и трудностях с точки зрения этого ума. В своей критике он никогда не позволял себе показаться «снисходительным», – поскольку снисходительность подразумевает превосходство, свидетельствует о высокомерии, самомнении и, следовательно, об отсутствии подлинной терпимости.
В полемике Кобден использовал сократический метод: настаивал на точных определениях, отвергал голую софистику, подчеркивал важность знания в отличие от просто сведений и тем более от заявлений с чужих слов, боролся с невежеством как с главным врагом истины и считал здравый смысл самым надежным основанием справедливости и добродетели. Недомыслие глупцов – важный материал для мудрости мудрых. Кобден не мирился с глупцами. Он, можно сказать, выворачивал их ум наизнанку, демонстрировал всю его узость и пустоту, не оставлял камня на камне от благовидных банальностей, опровергал фикции, легкомысленно выдаваемых за факты; на этом фоне его здравые и основательные суждения становились еще более убедительными и впечатляющими.
А как хорошо он знал соотечественников – со всеми их недостатками и достоинствами! Он не отказывался похвалить их, если считал, что похвала пойдет во благо, но был убежден, что лучше послужит и поможет своему поколению, если станет обращать внимание на слабости национального характера. Собранные вместе, отрицательные черты представляли собой поистине удручающий список. В числе главных таких черт соотечественников Кобден выделял «врожденную готовность подраться по любому поводу», склонность поучать другие страны и (пусть не слишком явно) навязывать им свою волю, высокомерное отношение к «иноземцам», мечтательность и легковерие, отсутствие преданности общим принципам, невосприимчивость к новым идеям, недостаток общей культуры, столь характерный для значительной части того класса, к которому принадлежал сам Кобден, и массовую неграмотность как в городах, так и в сельской местности, которая препятствовала развитию людей, не давала им осознать свои лучшие качества и делала их игрушкой в руках правящих классов. Он не упускал возможности упомянуть эти недостатки при каждом подходящем случае, нисколько не опасаясь, что горькая правда повредит его репутации.
Масштабы невежества масс порой приводили Кобдена в отчаяние. Он наблюдал это невежество с первых дней своей общественной деятельности, которая, как мы знаем, началась с попытки наладить начальное образование в его деревне. «Не дайте вашему демократическому энтузиазму, – писал он в 1838 г. одному знакомому автору, – обмануть вас в том, что касается вопиющего невежества, в котором погрязло большинство английского народа. Если вы станете писать для масс на политические темы, писать основательно и честно, в данный момент они не смогут оценить вас по достоинству и, стало быть, вас не поддержат… Подавляющее большинство английского крестьянства ни на йоту не продвинулось в интеллектуальном развитии со времен древних саксонских предков». Через несколько лет, когда Кобден уже приобрел опыт работы в Парламенте, он, для соблюдения баланса, заметил, что если взять одинаковое количество рабочих Северной Англии и представителей тори в Палате общин, то у первых он никогда не наблюдал такого невежества, как у последних. Правда, в одном из своих последних публичных выступлений он вновь вернулся к прежним сетованиям: «Я не знаю, пожалуй, больше ни одной страны во всем мире, где народные массы столь необразованны, как в Англии».
Одной из свойственных соотечественникам иллюзий, которые Кобден тщетно пытался рассеять в надежде подвигнуть людей к размышлению, было убеждение, что англичане – единственный демократический народ на всем свете. Мнение Кобдена на сей счет не менее справедливо в наши дни, чем 90 лет назад, когда оно было сформулировано, – настолько медленно меняется национальный характер. «Демократия, – писал он в 1835 г., – совершенно не присуща английскому характеру. Англичанин по природе своей аристократ. Вне зависимости от своего общественного положения или происхождения, финансового состояния или профессии он является аристократом или желает и надеется им стать. Неутолимая любовь к кастовости, которой в Англии, как и в Индии, покорны все сердца, не ограничена какой-либо частью общества, а пронизывает все его слои от высших до низших». Англичанин, не признающий справедливости этих слов, плохо знает самого себя. А в середине прошлого столетия Кобден испытывал своего рода нравственное отвращение, наблюдая, как ставший новым влиятельным сословием промышленный средний класс, принадлежностью к которому он гордился, всеми способами пытается пролезть в высшее общество, но с ростом своего богатства утрачивает независимость и мужественность.
Как правильно было замечено, не может внушать почтения тот, кто сам никого не уважает. Соответственно только по-настоящему нравственный человек может оказывать нравственное влияние и добиваться нравственных целей. Кобден был именно таким человеком. Огромное значение он придавал совести, ее требованиям и запретам в общественной жизни и, в частности, во внешней политике; вряд ли кто прислушивался к ним столь внимательно до Кобдена и мало кто после него. Однако свои моральные принципы он никогда не выставлял напоказ без нужды и за рамками частной переписки редко с кем делился размышлениями о тайнах бытия. Впрочем, он был достаточно старомоден, а потому верил, что человеческие и мировые судьбы вершит некая Сила (он называет ее Моральным законом, Провидением и Богом), которая всегда действует с благой целью; человеческая глупость, человеческие ошибки и преступления могут препятствовать достижению этой цели, но в конечном счете, как он был убежден, правое дело непременно восторжествует над неправым, и все бедствия приведут к благу.
В одном письме Кобден писал: «Правое дело обладает необоримым свойством добиваться своего даже вопреки противодействию всех сил и властей в мире». Именно эта вера примиряла его с Гражданской войной в Америке, хотя он глубоко сожалел о войне. «По всей видимости, нечто большее, чем простая случайность, – писал он в разгар войны, – в конечном счете способствует победе правого дела в этом порочном мире, и я не сомневаюсь, что мы можем дожить до того времени, когда увидим вознаграждающее все бедствия торжество человечности как результат этой самой гигантской из гражданских войн». Он даже верил, что все штаты, наученные горьким опытом, в конце концов «поставят самозащиту на нравственную основу».
Безнравственность войны как таковой заботила Кобдена гораздо сильнее, чем ее материальные издержки. После успешного завершения кампании против хлебных законов он начал кампанию против вооружений и в письме к шотландскому френологу Джорджу Комбу (5 января 1849 г.) изложил свою позицию так: «Вы знаете, у меня уже давно сложилось стойкое предубеждение против вооружений и войны. Именно это моральное предубеждение, а не финансовый аспект, в первую очередь побуждает меня выступать за сокращение наших военных сил. Я умру счастливым, если смогу ощутить удовлетворение от того, что в какой-то мере содействовал хотя бы частичному разоружению мира».
Но как бы сильно Кобден ни верил в человечество, он остро сознавал его нравственное несовершенство и склонность возвращаться к безжалостному праву силы; он понимал, что пройдет много времени до тех пор, когда общество примет моральный закон в качестве нормы государственной политики. В другом письме к Комбу он писал: «Вы спрашиваете меня, готово ли общественное мнение действовать согласно моральному закону в наших государственных делах. Боюсь, в природе англичан (да и людей вообще) животное начало пока преобладает слишком сильно, чтобы мы могли надеяться стать свидетелями торжества желанных высших побуждений в пределах отведенной вам или мне жизни. Наши международные отношения – это вооруженное перемирие; каждая страна намерена защищать себя с помощью физической силы. В семейном кругу мы можем проповедовать христианство и нравственность, но как народ мы, боюсь, по-прежнему повинуемся животным наклонностям».
Все сказанное до сих пор, по всей видимости, свидетельствует в пользу Кобдена. Поэтому справедливо будет посмотреть, что можно поставить ему в упрек. Например, не страдал ли он отсутствием патриотизма, как порой утверждают его критики? Здесь, сказал бы он сам, необходимо точное определение патриотизма. Тот, кто считает патриотизмом исключительно заботу о том, что обозначается невнятным термином «национальные интересы», может быть уверен: такого рода патриотом Кобден не был. Он отстаивал равенство всех наций в плане справедливости и права, морального закона и моральных принципов. Он постоянно говорил о взаимозависимости человечества, указывал, что подлинные и долговременные интересы человечества – это интересы, связывающие людей воедино, и что никакое общество, большое или малое, не может жить само по себе, не принося этим вреда всему роду человеческому. Поэтому все, что отчуждает людей и народы, он считал противоестественным и дурным, считал помехой взаимопониманию, которую следует устранить; напротив, всему, что сближает их, следует содействовать и к этому стремиться. Позицию Кобдена можно рассматривать как «широкий патриотизм» того свойства, который на текущей стадии развития человечества, скорее всего, не вызовет сочувствия и интереса у большинства людей. Тем не менее именно к нему все мы должны прийти, если хотим, чтобы ошибки прошлого не повторялись и человечество шло вперед не урывками и не в отдельных местах, а равномерно и синхронно.
Говоря современным языком, Кобден был «хорошим европейцем» и, пожалуй, одним из лучших, но это не мешало ему быть одним из лучших англичан. Друин де Люи называл Кобдена образцовым «человеком мира»; мало кто возвел широту и возвышенность своих взглядов на такой уровень понимания других стран и народов и симпатии к ним. Кобден прекрасно сознавал, насколько сильно различаются национальные особенности, и все хорошее, что находил в этих особенностях, готов был приветствовать. Он понимал, например, что главное отличие англичанина от француза состоит в следующем: француз поклоняется равенству, а англичанин предан свободе. Здесь Кобден был полностью согласен с соотечественниками и утверждал, что «предпочел бы жить в стране, где ревностно поддерживается любовь к индивидуальной свободе, чем жить без нее в полном согласии со всеми принципами французского учредительного собрания».
Желание содействовать благу каждой нации и видеть результаты этого содействия превращало Кобдена в космополита, но не мешало пылко любить собственную страну. Он резко критиковал английские правительства, которые активно занимались делами других стран, не наведя порядок у себя дома, и вмешивались в международные конфликты, когда только могли. Вновь и вновь в речах и сочинениях Кобден приводил доводы в пользу более широкого понимания человеческого содружества, более широкой перспективы и большей ясности; он стремился показать, что пылко любит свою страну и что «вселенское сознание» не только не противоречит здравому патриотизму, но дополняет его. В одном месте он пишет: «Мы защищены от отчаяния, когда основой надежды служат усилия наших соотечественников», – и смело заявляет: «Пусть англичане знают: с какой бы опасностью им ни предстояло столкнуться и какие бы трудности ни предстояло преодолеть, нет ничего такого, что вообще в силах человеческих, чего они не смогли бы совершить».
Один из многочисленных французских друзей Кобдена, Эмиль де Жирарден, совершенно справедливо заметил: «Ричард Кобден был англичанином, был этим счастлив и горд; он любил свою страну и ее традиции, но не безотчетно и не безоговорочно. Оставаясь англичанином в свои привычках и пристрастиях, он твердо верил, что здесь, в земной жизни, человек имеет две отчизны, – то сообщество, в котором он появился на свет, и мир в целом как общее достояние рода человеческого». Именно из поездок в страну Жирардена искушенный путешественник Кобден возвращался в убеждении, что «порода мужчин и женщин на Британских островах в чисто физическом плане лучшая на свете; хотя у них много нравственных недостатков и есть ряд малоприятных черт, в целом, я думаю, англичане – самые открытые и правдивые люди в мире, и это достоинство составляет основу их политического и коммерческого величия». Нелепо было бы обвинять человека, способного так говорить и писать, в отсутствии национальной гордости и патриотизма. Если не считать широту его симпатий и свободу от иррациональных предрассудков, он был истинным англичанином, и вряд ли найдется патриот, который посвящал себя служению своей стране с большей преданностью, гордостью и решительностью, чем Кобден.
Далее, Кобдена упрекали в чрезмерно материалистическом понимании цивилизации. Применительно к одной фазе его карьеры эта критика, пожалуй, кое в чем справедлива. Следует учесть, что Кобден был сыном своей эпохи, эпохи пара, механизмов, фабрик, первых железных дорог, пароходов и телеграфа. Одним словом, он был детищем духа эпохи, который выражал себя в стремлении победить время и пространство. Поэтому вполне естественно, что в первую очередь его должна была привлекать (во всяком случае, в начале общественной карьеры, когда он еще сочетал бизнес с политикой) именно материальная сторона современной ему жизни. В первых прославлениях всепобеждающей торговли у Кобдена проглядывает нечто большее, чем коммерческое классовое сознание, чем гордость человека, который всем обязан только самому себе, и даже чем национальное тщеславие, которое он впоследствии регулярно критиковал. Он писал: «В наши дни коммерция – это великая панацея, которая, подобно грандиозному медицинскому открытию, будет прививать всем народам мира здравый и спасительный вкус к цивилизованности. Каждая партия товара, покидающая наши берега, несет с собой семена осведомленности и плодотворной мысли, предназначенные для членов менее просвещенного общества. Каждый иностранный торговец, посещающий наши фабрики, возвращается в свою страну носителем идеалов свободы, мира и достойного правления. А наши пароходы, заходящие теперь во все порты Европы, и наши удивительные железные дороги, о которых только и говорят повсюду, служат свидетельством и ручательством высокого достоинства наших просвещенных институтов».
Можно представить, какой язвительной сатирой отозвался бы на это излияние меркантильного энтузиазма Мэтью Арнольд, если бы оно попало в его руки. А если бы оно дошло до склонного к философствованию Арминия[15]15
Главный герой сочинения Мэтью Арнольда «Friendship’s Garland» (1871). – Прим. ред.
[Закрыть], то послужило бы для него прекрасным примером идеала «канонизации целого народа с помощью трескучей болтовни», который удовлетворял тогдашних любителей выпить, но противоречил его собственной идеалу «возвышения всего народа с помощью культуры». Арнольд, должно быть, опрокинул бы на эту неуместную вспышку эмоций поток язвительных насмешек и увенчал его уничтожающим заключением «Эффектное пустословие!». Парадокс, конечно, в том, что вскоре после появления этого панегирика торговле его автор выступил против законов, которые, как он их представлял, попирали бедных и вынуждали трудовых людей города и деревни жить жизнью илотов.
Нужно помнить также, что особая миссия Кобдена, начиная с кампании против хлебных законов и далее, сводила его главным образом с аудиторией, принадлежавшей к коммерческой сфере, – с торговцами и промышленниками, лавочниками и рабочими. Эти слои он, вероятно, знал лучше всего и если в обращениях к ним считал уместным выделять материальные аспекты поставленных задач, то делал это по одной причине: он понимал, что таким образом лучше донесет до них свои доводы и убеждения. Однако когда стало ясно, что ранние представления Кобдена о «прогрессе» и «цивилизации» были неадекватными и что в горячке первой общественной кампании он явно переусердствовал в обращении к чисто материальной стороне, он, следует признать, начал – по мере того как шло время и он лучше узнавал людей – понимать, что хотя создание материальных ценностей и является в известной мере законным объектом национальной политики, оно само по себе не может служить достаточной или надежной основой национальной жизни.
Чтобы представить, как далеко Кобден отошел от первоначального превознесения материального благополучия, достаточно вспомнить его последующие суждения, – например, такое: «Народы пока еще не научились жить в условиях процветания, свободы и мира. Этому они научатся на более высокой ступени цивилизации. Мы считаем себя образцом для грядущих поколений, тогда как на самом деле нас в лучшем случае можно сравнить с маяками, которые помогут им избежать скал и мелей». В его собственной стране процветание укрепляло тела людей, но морило голодом их души. Когда Кобден обращал взгляд на поколение процветающих промышленников торговцев, которое росло на Севере благодаря свободе торговли, он видел, насколько легко и быстро они накапливают богатство, оставаясь при этом не облагороженными образованием, уважением к собственному достоинству и какой-либо гражданской ответственностью, видел, как по мере роста социальных амбиций они пытаются выйти из своего сословия и отбросить лестницу, поднимавшую их из безвестности к вершине, – и это зрелище наполняло его смешанным чувством скорби и презрения.
Уж конечно не ради такого «прогресса» Кобден положил столько сил, чтобы разбить барьеры, сковывавшие свободу торговли! Пришло время, когда он перестал превозносить «могучее влияние, ныне неразрывно связанное с обладанием торговыми и промышленными позициями в обществе», и отказался от утверждения, что этот класс представляет собой «великий и независимый слой общества».
Собственный класс Кобдена не оправдывал его ожиданий, и это было тем более прискорбно, что пока он не видел ему замены. Аристократия, по-прежнему обладавшая социальным и политическим влиянием, была образованной и рафинированной; но варваров, как начинал подсказывать ему Арнольд, просвещение еще не коснулось. Люди физического труда, как ни симпатизировал им Кобден, оставались стадом без пастуха, не имели никаких чаяний и стремлений; обреченные на угодничество и раболепие, они представляли собой готовую добычу для корыстного эксплуататора или умелого демагога. Тем не менее в конечном счете Кобден пришел к выводу, что надежда на будущее связана с лучшими представителями рабочего класса и история, возможно, подтвердит его предсказание, – хотя гений истории всегда неохотно произносит последнее слово. А пока он больше всего удивлялся тому, что рабочие, которые могли бы объединиться и приобрести огромную силу, если бы только задумались об этом, готовы столь покорно терпеть презрительное и уничижительное отношение к себе, от которого страдают.
Следует упомянуть еще один пункт обвинений, выдвигавшихся против Кобдена как наставника. Ему предъявляли упрек в недостаточной образованности – традиционный довод рафинированных личностей, если им больше нечего сказать. Конечно, не по-рыцарски делать такой упрек человеку, который в течение всей своей общественной жизни пропагандировал дело народного образования. И в данном случае вновь нужно уточнить, о какой образованности идет речь. Невозможно отрицать, что Кобден вошел в жизнь, не имея университетского или иного так называемого «высшего» образования; об этом своем недостатке он никогда не забывал. Однажды он с неуместной, вероятно, запальчивостью публично сказал о себе, что ничем не обязан «рождению, родителям, покровителям, связям и образованию»; эти слова вызывают в памяти упрек Платона в адрес Диогена, который гордился чем-то подобным. Верно также и то, что когда Кобден вольно или невольно затрагивал классические реалии, он часто в них путался, а самые терпимые его поклонники, видимо, не могли простить ему поверхностного знакомства с современной литературой[16]16
Так, например, 30 декабря 1863 г., за год с небольшим до смерти, он написал одному своему корреспонденту: «Не можете ли вы достать мне адрес Карлейля? В придворном адрес-календаре я его не нашел. Его ведь зовут Томас, не так ли?» К тому моменту Карлейль писал уже 30 лет, его «Французская революция» вышла 26 годами ранее, «Оливер Кромвель» появился 18 годами ранее, а монументальный труд «Фридрих Великий» был почти завершен.
[Закрыть]. Но если люди с классическим образованием, хорошо изучившие Грецию и Рим, превосходили Кобдена в знании некоторых мертвых вопросов, то он превосходил их в знании многих живых вопросов. К тому же Кобден замечательно пользовался своим энергичным, живым, простым и выразительным английским языком; поэтому на какую бы тему они ни выступал, он тут же завоевывал умы и сердца слушателей (что редко удается ораторам классического толка) и на протяжении целого поколения мог оказывать глубокое и неповторимое влияние на общественное мнение и практические дела. Его ум был исключительно удачно и целесообразно укомплектован, – не тем обширным набором отвлеченных и обособленных сведений, которые фигурируют в школьных экзаменах, а тем концентрированным знанием, которое делает человека компетентным гражданином. Кобдена нельзя, конечно, назвать ученым в традиционном смысле этого слова; однако он прилежно изучал историю, практическую экономику и жизнь в целом, а потому мастерски владел нужными ему предметами (по крайней мере в основных чертах).
Правда, как-то раз, задетый критическими высказываниями интеллектуалов, Кобден с насмешкой отозвался об Оксфорде и тамошних ученых; однако после посещения этого средоточия учености и знакомства с ним он любезно извинился. «Побывав на некоторых экзаменах, – несколько простодушно писал он, – я склонен думать, что для прохождения этого трудного испытания нужно больше усилий, чем мы привыкли считать». В своей последней речи (23 ноября 1864 г.) Кобден с достоинством и благородным смирением воздал должное учености. Сначала он говорил о том, насколько плохо в Англии знают Америку даже те люди, которые прекрасно разбираются в истории, географии и литературе Греции и Египта, но вместе с тем дал понять, что нисколько не умаляет достоинств классического образования как такового. И продолжил: «Я выступаю в защиту любого рода культуры и спрашиваю: где можно найти таких людей, как профессор Голдуин Смит или профессор [Торольд] Роджерс из Оксфорда, которые не только обладают глубокими классическими познаниями, но и прекрасно разбираются в современных проблемах, являются не только учеными, но и мыслителями? Я признаю, что эти люди имеют передо мной большое преимущество, и почтительно склоняю голову перед их превосходством».
Тем, кого все еще не устраивает культурный уровень Кобдена, я посоветую обратить внимание на замечательную интуицию, побуждавшую его протестовать против варварского перенесения памятников египетской истории на людные улицы северных столиц. «Какая глупость и несправедливость, – писал он в 1836 г. из Египта после посещения Игл Клеопатры[17]17
Название четырех древнеегипетских обелисков, из которых в Египте сейчас остался только один (в Луксоре), а три остальных находятся в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. – Прим. ред.
[Закрыть], – переносить эти реликвии прошлого из мест, где они изначально находились и где связанные с ними ассоциации придавали им весь их подлинный интерес, в Лондон или Париж, где они становятся предметами одного лишь пустопорожнего любопытства. Остается надеяться, что хороший вкус или хотя бы соображения экономии, которые сейчас занимают мысли наших правителей, воспрепятствуют перемещению этих памятников эпохи фараонов». Когда Кобден писал эти слова, один из обелисков по-прежнему стоял на своем месте; другой, давно упавший и занесенный песком, был вывезен в Лондон в 1878 г. О том, насколько возросли впоследствии почтительность, уважительность и хороший вкус, пожалуй, лучше всего свидетельствует торжественное вскрытие гробницы Тутанхамона.
Таким был Ричард Кобден. С кем и в чем можно сравнить человека, обладавшего столь богатой и разносторонней натурой? Он был Измаилом среди политиков, был сильной личностью, которая шла своим путем и не сходила с него, будь он легким или трудным, до самого конца. Кобден – борец с условностями и традициями, сдержанный в словах, но способный наносить очень чувствительные удары; он – подражавший Сократу глашатай разума, который беспощадно разоблачал софистику и ложность и докапывался до внутренней сути вещей; он – безупречный рыцарь, носивший на плече белый крест незапятнанной репутации; факелоносец, чей притягательный светоч указывал направление растерянным и заплутавшим путникам; вестник мира, но вместе с тем неустрашимый и неутомимый борец с любой несправедливостью и неправдой. Действительно, Кобден предстает не единичным человеком, а многими людьми, слитыми воедино; однако из его разнообразных качеств сложилась та замечательная цельность мощной личности, которую он «страшно боялся потерять», поскольку она была для него «самим существованием».






























