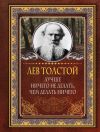Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Лев Николаевич всюду в своих сочинениях о морали и нравственности упорно старается скомпрометировать принцип половой жизни. Он выдвигает против него ряд доводов от рассудка и довод от чувства. Он потому, кажется, только и прибегает к последнему, что сам чувствует недостаточность первых.
Каковы эти доводы «от рассудка»? Толстой утверждает, что мы – не животные и что это только для животных обязателен закон размножения. Плотская любовь и брак являются будто бы «во всяком случае» препятствием для служения Богу и людям. Вместо того чтобы рожать новых детей, надо воспитывать детей уже родившихся, хотя бы и чужих. «Стремление к целомудрию, – говорит, наконец, Толстой (буквально), – должно уравновесить численность населения» и т. д.
Он выдвигает также довод методологический: целомудрие, конечно, не заповедь, а идеал, но этот идеал обязателен и очень полезен, именно: «надо стремиться метить дальше цели, чтобы попасть в цель», – иначе говоря – стремиться к идеалу полного целомудрия, чтобы не впасть в крайний разврат и, так сказать, задержаться на «честном браке».
Все это звучит не слишком убедительно, и против каждого из этих доводов нетрудно выдвинуть какой-нибудь не менее сильный логический контрдовод.
Но далее следует довод от чувства, состоящий в том, что половое соединение мужчины и женщины само по себе мерзко, скверно, нечисто, отвратительно, и потому человек, уважающий себя и ценящий свое духовное достоинство (все равно, мужчина или женщина), должен, по возможности, совершенно избегать этого соединения.
Но, не говоря уже о различии и сложности эмоциональных суждений, связанных с совершением полового акта у разных лиц и в разных случаях, мне казалось, что довод о нечистоте, омерзительности полового акта всецело покрывается и побеждается простым указанием на то, что этот акт, влечение к нему, возможность его – не выдуманы человеком, а даны самой Природой. Отвратительным, нечистым может быть только неестественное. Все естественное и закономерное в жизни природы, в том числе и в области половых отношений, не может быть само по себе ни омерзительным, ни нечистым.
Разве дети – самое святое в жизни, залог нравственного прогресса человечества, плод любви и полового единения мужчины и женщины – приходят в мир «нечистым путем», в результате какого-то огреха, какой-то ошибки Провидения?! Нет, этого не может быть! Недаром и в чистейшей из чистейших книг, в Евангелии, мы находим эти слова: «Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их… Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, а одна плоть; итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»11.
Полное воздержание от полового общения – например, у монахов, католических священников – тоже, как уже достаточно общеизвестно, на деле далеко не всегда является осуществлением идеала целомудрия. «Что такое блуд? – спрашивает Мережковский в своей книге о Толстом и Достоевском – и мудро отвечает: – Это – запуганный, загнанный в самый темный угол души и тела и здесь разлагающийся пол; это – пламя, которое гасят, но не могут погасить, и которое, тлея, превращается в чад…»[39]39
Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский. Ч. 2. Гл. 4.
[Закрыть] И разве девять из десяти искренних и стремящихся к целомудрию молодых «толстовцев» не подтвердят в душе справедливость этого патолого-психологического наблюдения Мережковского?..
Нам, молодежи, указывали на «Крейцерову сонату» и на пример Позднышева, как на нечто, что неминуемо должно было отвратить нас от влечения к любви и к половой жизни. Я хорошо понимаю, что весь буржуазный и мещанско-интеллигентский мир ошеломлен был «Крейцеровой сонатой», как стая лягушек брошенным внезапно в пруд булыжником. Но я никогда не мог понять, почему «Крейцеровой сонате» придавалось многими, или хотя бы некоторыми, а в том числе и самим Львом Николаевичем, значение «евангелия целомудрия». В этой повести дан совершенно конкретный, индивидуальный, отдельный случай (casus, как говорят юристы) испорченного с детства, в высшей степени неуравновешенного и развращенного мужчины, Позднышева, – человека определенной среды, и притом человека, не только лишенного духовного взгляда на жизнь, но и вообще каких бы то ни было признаков того или иного устойчивого, самостоятельно миросозерцания. Естественно, что такой человек, ничего не видевший в браке, кроме удовлетворения похоти, под влиянием чувства ревности убивает свою жену. Такие случаи случались, случаются и будут случаться. Но почему же, почему этот случай, случай Позднышева, может считаться чуть ли не единственным в своем роде, адекватным отображением процессов влюбленности, половой связи мужчины и женщины, брака, семьи и т. п.? Почему случай этот возводится в общее явление?
Мне возразят, что «Крейцерова соната» – художественное произведение и потому ее образы обладают внутренней и общей правдой. Допустим, но ведь в мировой литературе есть образы не менее яркие и, однако, представляющие нам любовь мужчины и женщины совсем в другом свете. Молодежь ведь читает не одну «Крейцерову сонату». Как же должны влиять на нее и как она должна оценивать такие образы, как образы Наташи, Долли, Кити, Левина, Андрея, Пьера, героини рассказа «За что?» у самого Толстого? Как выкинуть из мировой литературы образы Ромео и Джульеты, Фердинанда и Миранды, Вертера и Лотты, Германа и Доротеи, Онегина и Татьяны, Ракитина и Лизы, Инсарова и Елены, князя Мышкина и Аглаи12, Адама Бида и его возлюбленной в одноименном романе Джордж Элиот, признающемся Л. Толстым за одно из немногих подлинных произведений искусства? Ведь все эти образы живут и дышат убедительностью, ведь и в них отражается правда жизни. Однако их смысл – совсем другой, чем смысл «Крейцеровой сонаты».
Вот какие мысли и сомнения обуревали мою душу как раз в тот период, когда судьба послала мне величайшее счастье непосредственного и постоянного общения с Л. Н. Толстым.
Я уже говорил, что Лев Николаевич вообще относился с большим доверием к своим помощникам и обыкновенно поручал мне отвечать на некоторые письма совершенно самостоятельно, даже не подсказывая основной мысли ответа. В таких случаях я всегда находился в некотором затруднении и сомнении относительно своих сил и степени моего понимания всей глубины и всех сторон учения Льва Николаевича. Правда, Лев Николаевич обычно утверждал и одобрял мои ответы. Но затруднение и сомнение особенно увеличивались, когда приходилось касаться полового вопроса.
Однажды при мне было получено письмо о половой связи брата с сестрой, мучившей обоих. Лев Николаевич поручил мне ответ. Но что я, в свои 23 года, мог ответить на это письмо?!
– Напишите о необходимости целомудрия, – сказал мне Лев Николаевич.
«Написать о необходимости целомудрия»!.. По письму я видел, что оба захвачены преступной страстью, втянулись в нее и не знают способов, как от нее освободиться; так сблизились, привыкли один к другому, что не решаются даже на время расстаться друг с другом… Вот он – Эрос!.. «Этот неумолимый закон слепого бога-младенца, играющего смертью и разрушением, Эроса, эта жестокость сладострастия, которая делает любовь похожей на ненависть, телесное обладание похожим на убийство, – сказывается и в самых страстных ласках любовников…»[40]40
Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский. Ч. 2. Гл. 3.
[Закрыть] – читал я в книге Мережковского, – читал, вспоминал и, вспоминая, прикидывал к трагическому случаю любви между братом и сестрой. Я мог жалеть несчастных, но какой же чудодейственный способ для немедленного освобождения от неотвязной, опутавшей по рукам и ногам страсти мог я им указать?
Если бы я написал людям, оглушенным, захваченным, обезволенным страстью – просто: «необходимо стремиться к целомудрию», – то этот голос, неживой голос прописной морали, прозвучал бы впустую. Это была бы только отписка, смысл которой не дошел бы до их сознания, – я чувствовал это.
Написать же от души, написать с силой, с проникновением в их психологию, с искренней надеждой увлечь и захватить их каким-то новым для них и ярко выставленным перед ними путеводным огоньком, – я не мог. Не умел. Случай был слишком сложный, ответственный и трудный. Только Толстой мог сделать это. И я отказался писать, заявив Льву Николаевичу, что «не считаю себя компетентным советовать в этой области».
– Да, да! – будто спохватываясь и добродушно покачивая головой, сказал Лев Николаевич.
Тем самым снималась с меня обязанность отвечать на письмо. Уж не помню, ответил ли на него сам Лев Николаевич, и если ответил, то что именно.
Но, увидав, что отговорка моя не встретила возражений со стороны Льва Николаевича, я еще раз или два после того употребил ее, чтобы мотивировать свой отказ отвечать на письма, связанные с половым вопросом.
Кажется, Толстой почувствовал все-таки в моей уклончивости недостаточную уверенность в том, что его решение полового вопроса – единственное и справедливое.
Около того же времени у нас как-то зашел вопрос о браке, и я сознался Льву Николаевичу, что мечта о счастливом браке меня не покидает, чем, конечно, никакой радости своему строгому наставнику не доставил. Я не уверен, что все это не накладывало в первое время некоторого отпечатка не отчужденности, но взаимной сторожкости на наши отношения.
Но эта сторожкость, которую я мог только подозревать в обычном, ровном и добром отношении ко мне Льва Николаевича, как мне показалось, окончательно исчезла после одного случая с ответом одному из бесчисленных корреспондентов Толстого.
Лев Николаевич получил однажды письмо опять о половом вопросе, но не требовавшее практического совета, а просившее лишь об изложении его принципиальной точки зрения на этот вопрос. Ответ был поручен мне, и на этот раз я не мог отклонить поручения, так как моя прежняя отговорка не шла к делу: мне не нужно было никому давать советов.
Лев Николаевич обычно перед отсылкой прочитывал все мои ответы. Я знал, что он прочтет и этот. Положение мое было очень трудное: я не разделял в глубине души точки зрения Льва Николаевича, свой же собственный взгляд еще не настолько сложился и определился у меня, чтобы я мог в письме или в предварительной беседе со Львом Николаевичем противопоставить его взгляду последнего.
Тогда я решил, собрав все силы своего ума, ответить так, чтобы и точка зрения Толстого была изложена в письме, и чтобы мне, по возможности, не разойтись со своей совестью.
Вот что написал я корреспонденту Льва Николаевича (отвечая скорее не ему, а самому себе, на свои собственные сомнения):
«Прежде всего должен для точности сказать, что брошюры «Против брака» Лев Николаевич не писал. Приводимых вами слов: «раз родившись, нужно быть чистым, не входить в мир и умереть; когда же человечество вымрет, то установится Царствие Божие на земле», – этих слов Лев Николаевич не мог сказать. Не говоря уже о нелепой фразе, что Царство Божие наступит после того, как «вымрет» человечество, которую вы усердно опровергаете, мнение, что человек не должен «входить в мир», тоже чуждо Льву Николаевичу. Смысл жизни, как верит Лев Николаевич, в том и заключается, чтобы, «войдя в мир», то есть не отделяясь от всех людей, делать свое дело – исполнять волю Божию, которая в том, чтобы непрестанно сознавать в себе Бога и любить все живое. Человек стремится к совершенству Отца-Бога, и те препятствия, которые он встречает на своем пути, живя в миру, есть нечто иное, как необходимые условия его работы над собой. На брак же Лев Николаевич смотрит так.
Половое чувство, влекущее к продолжению рода, есть несомненно проявление животной стороны человека. Это – одно из требований тела, подобное требованиям пищи, питья, тепла и др. Но тело человека смертно: живет во времени и через известный срок разрушается, ослабевает и умирает. Между тем в душе человека заложена потребность высшего, постоянного блага, не зависящего от изменений его телесной природы, – изменений, влиянию которых она всегда подвергнута. Жизнь для тела не дает человеку высшего, неумирающего блага, – такое благо дает человеку жизнь для души: сознание в себе Божественного начала, влекущее к соединению со всеми людьми, в которых одинаково заключается то же начало.
Высшие радости дает именно духовная жизнь. Похоти тела, от удовлетворения которых человек получает мимолетное удовольствие, всегда влекут за собой душевные страдания: или от злоупотребления удовлетворением их, или от неудовлетворенности; поэтому они препятствуют истинному благу человека, который и должен стремиться к отречению от них. Стремиться – по своим силам. В отношении полового вопроса, тот, кто понимает всей душой и стремится получить благо целомудрия, остается целомудренным; кто понимает благо целомудрия, но не в силах отказаться от требований тела, вступает в брак с одной женщиной и никогда не покидает ее – в этом второе требование нравственности; не понимающий же блага целомудрия человек, видящий свое благо в удовлетворении похотей тела, обычно без удержу отдается требованию полового чувства и впадает в разврат.
От самого человека зависит удержаться на той или другой ступени нравственной чистоты. Чтобы иметь силы удержаться, нужно сосредоточить свое внимание на требованиях духовного, Божеского начала в самом себе. Живущий духовной жизнью, то есть религиозный человек, и в тех случаях, когда он падает и совершает противные своему нравственному сознанию поступки, не отступает перед требованиями нравственного долга: делает усилие подняться и снова борется с похотью.
Так вот взгляд Льва Николаевича на половой вопрос, и нет в этом взгляде ничего нелепого».
Как ни старался я смягчить грубость отрицательной формулы Толстого, определяющей половое чувство, и облечь хоть приблизительной достоверностью эту формулу для сознания нашего адресата и, главное, для своего собственного сознания, – все-таки я чувствовал, что покривил душой в этом письме и если не солгал в том, что высказал, то солгал умолчанием о многом. Между тем, Лев Николаевич остался вполне доволен содержанием письма.
Мало того. Я не знаю, – может быть, это был плод моего встревоженного и подозрительного воображения, ибо нелегко мне было «кривить», – но когда Лев Николаевич по прочтении письма вошел ко мне в комнату («ремингтонную»), то мне показалось, что лицо его сияет особенным удовольствием, благодушием и как бы внутренним торжеством. И как будто даже отношение его ко мне с тех пор стало гораздо ласковее и доверчивее. Точно какой-то последний ледок был разбит между нами.
«Победил!» – мог сказать Лев Николаевич, увидев по письму, что я присоединился к его взгляду на вопрос, который и он считал одним из самых основных вопросов человеческого существования, и что я горячо становлюсь на защиту этого взгляда. Ученик, колебавшийся в этом пункте согласиться с учителем и последовать за ним, – наконец, убедился, понял, сломился, согласился.
Это было не совсем так, но с тех пор я уже не выказывал внешне своего желания «пересмотреть» вопрос и действительно не пытался ни в открытой, ни в скрытой форме становиться в оппозицию Льву Николаевичу.
Не знаю, был ли я подкуплен близостью Льва Николаевича и любовью к нему или подавлен временно его авторитетом, но это было так. Я перестал «бороться» в этом пункте, уступив временно «толстовству».
Иногда я пытался проникнуть в разгадку основной, первородной причины столь нетерпимого и строгого отношения Льва Николаевича к половой жизни вообще. Луч света как будто блеснул мне, когда в одном письме Льва Николаевича о половом общении (к некой Петровской, от 27 июля 1910 г.), написанном при мне, я прочел такие строки:
«Ни в одном грехе я не чувствую себя столь гадким и виноватым, как в этом, и потому, вероятно, ошибочно или нет, но считаю этот грех против целомудрия одним из самых губительных для жизни»13.
Разумеется, если распутство, – явление столь же неестественное, как воздержание от нормальной половой жизни, сопровождающееся аномалиями всякого рода, – могло с течением времени вызвать у Льва Николаевича столь же неестественно далеко заходящую реакцию, то психологически толстовский «бунт против природы» получает известное объяснение. Но было ли это действительно так, и является ли настоящая причина единственной и исчерпывающей, сказать, конечно, трудно. Ясно только то, что одним умозрительным способом Толстой не мог прийти к своей идее необходимости полного целомудрия: идея эта слишком непосредственно владела им и была столько же частью его мировоззрения, сколько выражением его личного чувства. Поэтому и возникновение ее у Толстого обусловлено, по-видимому, какими-то глубокими, органическими причинами.
Глава 4
Жена и дети Л. Н. Толстого
Дворянско-помещичья и собственно «толстовская» традиции в Ясной Поляне. – Хозяйка дома. – Невыгодные условия воспитания детей знаменитого человека. – Дочь – последовательница отца. – Татьяна Львовна Сухотина – художница и литератор. – Кипучая натура и роковые промахи младшей дочери Толстого. – Композитор и пианист Сергей Львович. – «Возьми метлу и подметай улицу!» – Литературное дарование Ильи Львовича. – Неудачный писатель и несчастный характер. – Слезы сына-бурбона над правдивой страницей отца. – «Я не люблю писать письма». – Какая разница между Львовичами и их женами?
Лев Николаевич – для меня, по крайней мере, да, разумеется, и для всякого, – был солнцем на яснополянском небе, но и другие светила на этом небе интересовали меня. К Толстому я относился как к великому художнику и пророку. Яснополянский же дом в целом интересовал меня, как образ совершенно нового для меня дворянско-помещичьего быта. Кажется, именно в год определения моего в сотрудники или в «помощники» Льва Николаевича (как выражался он сам, представляя меня, бывало, гостям), я прочел в «Новом времени» – прочел случайно, ибо вообще эту газету не читал – одну статью М. Меньшикова о дворянстве. Меньшиков, когда-то тоже увлекавшийся Толстым, восхищался красотой дворянско-помещичьего быта, сравнивая дворянские усадьбы с их ампирными домами, с их культурными обитателями и с массой художественных ценностей, накопленных поколениями, со стаей белых лебедей, опустившихся на отдых в русских степях. Образ был красивый. От него трудно было отделаться, хотя, конечно, следовало всегда помнить, что и лебедь – прожорливая птица. Прелестные дворянские усадьбы выросли на рабстве крепостных, но все же, с точки зрения стиля, красоты и культурности, они заслуживали внимания. Хотелось и мне полюбоваться хоть на одну такую усадьбу. И хоть яснополянское «дворянство» было значительно ущемлено проповедью Толстого, все-таки и эта усадьба могла считаться характерной представительницей образа жизни и быта умиравшего сословия.
Простой, белый яснополянский продолговатый двухэтажный дом был, во всей своей простоте, конечно, очень аристократичен. Обилие комнат, при котором никто из обитателей не был стеснен в своем углу, принадлежало также к широкому размаху барской натуры. Впрочем, внутренняя обстановка, смешанная и разнородная, – например, желтые венские стулья и старинная мебель красного дерева в одной и той же, да притом парадной, комнате, – обнаруживала или пренебрежение живущих Толстых к внешним условиям жизни, или отсутствие вкуса и неуважение и невнимание к стилю вообще. Лев Николаевич Рёскина любил, но призывам его к эстетическому претворению действительности, очевидно, не внимал14. Солнца и воздуха в доме было, однако, достаточно.
Лучшую комнату, зал-столовую, украшали старинные портреты предков хозяина: двух дедов – графа Толстого и князя Волконского, бабки – княгини Волконской, рожденной княжны Трубецкой, прадеда – слепого князя Горчакова, и прапрапрабабки княгини Мордкиной (портрет 1705 года). В примыкающей к залу маленькой гостиной с более современной мягкой мебелью имелся портрет еще одного Волконского, прадеда Толстого. Более слабые в художественном отношении портреты двух-трех дальних родственников и друзей семьи висели также на верхней площадке лестницы. Все эти портреты давали дворянскому дому тон, служили выражением аристократической традиции. Без них не было бы той, старой Ясной Поляны, и это занимало меня: аромат давно ушедшего и когда-то прочного прошлого доносился и до нашего времени.
Однако и прошлое недавнее, живые узы с которым не были расторгнуты, великолепным образом заявляло о себе в Ясной Поляне, как бы противопоставляя свое великолепие великолепию времен Волконских и Горчаковых. Как раз против той длинной стены в зале, которую украшали портреты предков, на другой, такой же длинной стене красовались портреты: молодого, рыжебородого и задумчивого Льва Николаевича – работы Крамского, его же в первом периоде старости – работы Репина, чудный большой портрет молодой, прелестной, счастливой Татьяны Львовны – тоже работы Репина, портрет Софьи Андреевны – работы Серова и портрет покойной Марии Львовны, любимицы Льва Николаевича, – работы Ге. Это, собственно, уже отнюдь не было выражением дворянской традиции. Где это были у нас дворяне и много ли было таких, которые смогли бы сосредоточить в своей усадьбе несколько больших портретов работы Репина, Крамского, Серова и Ге?! Рядовой представитель того общества, к которому принадлежал владелец Ясной Поляны, должен был бы разориться, если бы захотел просто приобрестиу художников те пять портретов, которые и до сих пор висят в яснополянском зале!.. Нет, тут речь идет уже не просто о «дворянине», а о дворянине, вышедшем в деятели мировой культуры, о дворянине – прирожденном гении. И пять бесценных полотен были всего только бескорыстной данью почтительного преклонения и восхищения со стороны первых мастеров русской кисти. Новая, целиком «толстовская» традиция осилила, переросла и уложила на обе лопатки традицию прежнюю, дворянско-аристократическую.
Последний граф из рода Толстых пахал, косил и шил сапоги. Новая жизнь задела и яснополянский дом. Сыновья и внуки необычайного пахаря и сапожника уже перестали быть графами…
Жена и дети Льва Николаевича – впрочем, каждый по-своему – стремились поддерживать дворянскую традицию. Одни – в частности, Софья Андреевна, Андрей и Михаил Львовичи (младшие Львовичи) были преданы ей искренно. Другие – как, например, старшие сыновья Льва Николаевича Сергей, Илья и Лев – были «испорчены» городом и «книжной премудростью», они уже не могли почитаться за «настоящих» представителей своего сословия. Все три дочери Толстого – Татьяна, покойная Мария и Александра – никогда дворянское сословие представлять не стремились, принадлежностью к нему не гордились и могут почитаться «беженками» из него или же данницами и представительницами яснополянской традиции новой, заложенной Львом Николаевичем.
Конечно, я застал в Ясной Поляне и церемонные обеды, и визиты светских, титулованных и не титулованных знакомых, и выезды хозяйки дома к обедне или к соседям на паре рысаков, и теплицу, поставлявшую зимой цветы на обеденный стол, и садовника-эстонца, и экономку, и лакеев в белых перчатках, и липовые аллеи, и малинник, в котором можно было «попастись», но все это самостоятельного значения уже не имело. Быт был подкошен и умирал. По всей России. И в древней яснополянской усадьбе. Я успел повидать его только одним глазом. Красивое в дворянском быту кое-что было, но слишком уж оно было исключительно, принадлежа только горсточке людей, а главное, стало совсем не современно. Интерес к новому пересиливал почтение к старому.
Большой зал был любимой комнатой графини Софьи Андреевны. Ради нее он и был пристроен Львом Николаевичем в 1871 году к старому, левому флигелю, каким при Волконских являлся нынешний дом по отношению к главному, центральному и, действительно, огромному барскому дому, давно уже уничтоженному. В шестиоконном, просторном, светлом и в то же время уютном зале Софья Андреевна писала, занималась рукодельем, потешала внучат, принимала гостей.
Сам Толстой выходил сюда только к завтраку, к обеду и к вечернему чаю. Остальное время дня он проводил в своем кабинете. Гостей принимал либо у себя, либо, еще чаще, в скромной приемной рядом с передней, либо в парке: там ему, по крайней мере, не могли помешать ни жена, ни дети, не любившие никому не известных, плохо одетых людей, стекавшихся отовсюду для беседы с яснополянским мудрецом.
Кабинет Льва Николаевича с небольшим старым письменным столом, принадлежавшим еще его отцу, с не менее старым кожаным диваном, на котором родился 28 августа 1828 года автор «Войны и мира» и «Пути жизни» и на котором родились потом почти все его дети, с Сикстинской Мадонной, с выцветшими литографиями и фотографиями Диккенса, Шопенгауэра, Н. Н. Страхова, Тургенева, Некрасова, Фета на стенах и двумя-тремя книжными полками, отличался исключительной простотой. У любого богатого адвоката или врача кабинет бывал обставлен без сравнения роскошнее.
После зала наиболее элегантной комнатой в доме была комната старой графини, обставленная красивой мебелью красного дерева и увешанная многочисленными семейными портретами и фотографиями, среди которых лицо Льва Николаевича, молодое, пожилое, старое, встречается во много раз чаще других.
Яснополянский дом был, конечно, своего рода маленьким двором, где царил Лев Николаевич. Но в доме ясно чувствовался и другой центр: графиня – эта 65-летняя, темноглазая, румяная, еще очень бодрая женщина, быстро передвигавшаяся по просторным анфиладам дома, наполняя его ритмическим постукиванием высоких дамских каблучков. Всем было ясно, что два эти центра не совпадают: старый граф Лев Николаевич, великий писатель и пр., и пр., и пр., был сам по себе, а графиня Софья Андреевна – сама по себе.
Кстати, она же являлась и владелицей имения Ясная Поляна, потому что уже в 1892 году Л. Н. Толстой отказался от своего имущества и капиталов, разделив все между женой и детьми. Графиня и управляла имением: принимала управляющего и мужиков, раздавала приказания и т. д. Толстой в эти материальные дела совершенно не мешался. Тем не менее многое из того, что он видел, заставляло его глубоко страдать. Один черкес Шокей, объездчик, ловивший крестьян на потравах и краже леса, сколько ему «крови перепортил». Тут-то он вмешивался, выступал ходатаем за крестьян, но… у жены его был на все свой взгляд, и ходатайства помогали далеко не всегда. Так и отчудился Л. Толстой от Ясной Поляны. Он готов был покинуть ее, но Софья Андреевна об этом и слышать не хотела. Ведь она по-своему любила мужа, тщательно оберегала его здоровье и. покой, – может быть, даже не отдавая себе отчета, в чем именно заключался настоящий покой для старика Толстого. Обидеть женщину, которая отдала ему всю жизнь, с которой он прожил сорок с лишним лет, внезапным и самовольным уходом Толстой не мог. пытался, но не мог. В конце концов белый барский дом в уютном парке стал для него ничем иным, как только золотой клеткой.
Впрочем, помимо своей помещичьей и, так сказать, «профессиональной» деятельности и до наступления периода тяжелой истерии во второй половине последнего года жизни Льва Николаевича Софья Андреевна вовсе не была плохим человеком, как не была и человеком незначительным. Большинство так называемых «толстовцев» находилось в холодных или даже враждебных отношениях с женой Толстого. Иные проявляли внешнюю почтительность в сношениях с ней, а за глаза осуждали и бранили ее. Но должен сказать, что хотя и я пришел ко Л. Н. Толстому как его ученик и последователь и не мог не знать и не заметить, как далека ему его жена в идейном отношении, я все же не разделял ни этой холодности, ни тем паче враждебности к Софье Андреевне, равно как не имел нужды лицемерить по отношению к ней.
Софья Андреевна покорила меня с первого свидания в 1909 году: ее большие, живые карие глаза смотрели на меня так внимательно и смело, в них светилось столько ума, правдивости и энергии, что я сразу же проникся искренним уважением и невольной симпатией к подруге жизни великого Толстого. Да, она не пошла за Толстым в его исканиях, да, она не подчинилась слепо влиянию гениального мужа и по многим вопросам сохранила свои собственные мнения, да, характер ее был не безупречен, а иногда даже тяжел, и за ней, как и за каждым человеком, числилось много грехов и ошибок, но разве это достаточная причина, чтобы побиватъ ее камнями?
Софья Андреевна была очень незаурядным человеком. Тем, кто ее знал, вполне понятно, что когда-то на ней остановился выбор молодого Толстого, мечтавшего о семейном гнезде. Самой привлекательной чертой характера старой графини была ее исключительная прямота и правдивость. («Какая энергия правдивости!» – восклицание жениха Толстого.) Если опять-таки исключить ее позднейшее состояние истерии, когда – в борьбе с Чертковым – Софья Андреевна на несколько месяцев перестала быть ответственной за свои слова и поступки, – она всегда говорила правду. Она и при желании-то – именно в состоянии истерии – не умела фальшивить, и только путалась, чем и пользовались ее противники. Уверток и лжи Софья Андреевна не терпела. Она и другим позволяла говорить ей прямо всю правду, хотя бы и жестокую: она могла при этом разгорячиться, начать спорить, возражать, но никогда не ставила такую прямоту в проступок и не мстила за нее.
Жена Толстого отличалась большим литературным чутьем, благоговела перед мужем как перед писателем-художником. Она и сама недурно писала. Ее воспоминания о Толстом, ее молодые дневники, ее письма к мужу написаны превосходно. Известно, что она является автором одного романа (правда, не изданного), детской книги, нескольких рассказов и т. д.15
Очень любила жена Толстого музыку, живопись, вообще все красивое. Но к вопросам религии и морали была глуха, хотя вся ее собственная жизнь прошла, – по крайней мере, с точки зрения того общества, в котором она воспитывалась, – безукоризненно в моральном отношении. В широких кругах публики принято думать, что Софья Андреевна сохраняла верность православию, вопреки еретику-мужу. Сохранять-то она ее сохраняла (номинально), но это ей, наверное, было нетрудно, потому что и сохранять-то было нечего: никакого решительно искреннего и глубокого православного чувства, никакой потребности в Церкви, никакого увлеченья Церковью даже со стороны эстетической, как это бывало иногда у наших тонко чувствующих, хотя и слабо верующих людей, – у жены Льва Николаевича не было. Необходимейшие обряды церковные выполняла она неряшливо, небрежно и неаккуратно, приходскую церковь в селе Кочаках, в двух верстах от Ясной Поляны, не посещала по месяцам. Софья Андреевна не понимала ничего отвлеченного, мистического. Тут, собственно, и начинались ее расхождения с мужем. Она вся была на земле, ценила только данную ей жизнь и ни о какой другой не помышляла. Толстой по своим внутренним устремлениям был несомненно христианин, а может быть, даже отчасти и буддист, недаром оба эти мировоззрения или вероучения он считал одинаково высоко стоящими, в смысле духовной равноценности. Его жена, напротив, представляла собой законченный тип язычницы (не в отрицательном, житейском, а в философском значении этого слова). Это не мешало ей, между прочим, слегка заниматься благотворительностью среди яснополянских крестьян, но настоящей ее стихией была семья и только семья. Не личным, но семейным эгоизмом и жила преимущественно эта женщина. Толстой же перерос семейный эгоизм давным-давно, если только он у него и был когда-нибудь…