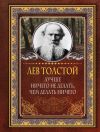Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Если первая поездка в Ясную Поляну была вызвана совершенно определенным стремлением разрешить некоторые принципиальные недоумения, то, по правде сказать, две следующие поездки в гораздо большей степени чем «делом» подсказаны мне были просто чувством непреодолимого внутреннего влечения ко Льву Николаевичу, сокровенной потребностью не то чтобы «посоветоваться» с великим старцем по тому или иному вопросу, но просто увидеть еще раз его лицо, глаза, услышать его глубокий и проникновенный голос, почувствовать его теплое, крепкое, ободряющее рукопожатие.
«Делом», с которым я вторично приезжал ко Льву Николаевичу (10 апреля 1908 года), было уже почти окончательно сложившееся у меня решение покинуть университет. Я несколько колебался над приведением в исполнение этого решения под влиянием Толи Александрова и другого товарища-студента по философскому отделению, а именно упоминавшегося уже мною К. Н. Корнилова. Оба они соглашались, что прохождение университетского курса не является необходимостью для человека, стремящегося к истинному образованию, но полагали, что лучше все-таки довести пребывание в университете до конца: во-первых, чтобы «до конца узнать то, что отрицаешь», и во-вторых, чтобы самое «отрицание» сделать, так сказать, авторитетнее в глазах людей, доверяющих диплому. Но я не соглашался с этого рода «софистикой» и возражал, что я уже достаточно утвердился в «отрицании» и больше не желаю затрачивать времени и сил на университетскую учебу, сдачу экзаменов и т. д., а до мнения людей, поклоняющихся диплому, мне дела нет. Спор между нами ничем не закончился, и я как-то внутренне постановил, что последнее слово по этому поводу скажет Толстой.
Не могу не рассказать здесь о том, при каких обстоятельствах Лев Николаевич дал мне свой совет.
До разговора с ним я познакомился в Ясной Поляне с его тогдашним секретарем Н. Н. Гусевым и решил, учитывая близость Гусева к Толстому, переговорить и с ним по интересовавшему меня вопросу об университете и университетском образовании.
Рассказав о своем намерении выйти из университета, я передал Николаю Николаевичу и о тех колебаниях, которые я испытывал под влиянием друзей-студентов. Тот едва выслушал меня и самым решительным, безапелляционным тоном провозгласил:
– Ну что вам даст университет?! Конечно, выходите!..
Через пять минут я сидел уже перед самим Львом Толстым и почти теми же словами и в тех же самых выражениях рассказывал ему о том, о чем только что поведал его секретарю.
– И прекрасно сделали, что остались в университете! – тоном глубочайшего убеждения воскликнул Лев Николаевич, выслушав мое повествование.
И затем стал подробно развивать ту мысль, что внешняя перемена положения сама по себе ничего не значит и что тот или иной поступок действительно целесообразен только в том случае, когда он вытекает из совершенно непреодолимого внутреннего побуждения. Нет, из университета мне пока выходить не надо!..
Иначе говоря, секретарь Толстого и он сам ответили мне на один и тот же вопрос, на одно и то же сомнение нечто буквально противоположное. Это была наглядная иллюстрация справедливости старого совета: «Когда по окончании земного странствования переселишься в небесные края и приступишь к вратам рая, то для объяснений требуй непременно самого Спасителя и не вступай в разговоры ни с кем из его апостолов!»
Я нигде не рассказывал о своей третьей поездке к Толстому, правда, не увенчавшейся успехом (я не видал Льва Николаевича), но все же памятной мне.
Это было осенью того же 1908 года. У меня кончились всякие сомнения по поводу университетского вопроса: выход из университета был предрешен. Но в связи с этим меня занимала мысль: чем же я заменю себе университет? Каким родом труда и каким образом жизни? И как смогу я продолжать свое дальнейшее, уже вполне самостоятельное образование, которого я вовсе не хотел прерывать с выходом из университета?
В то же время я уже был осведомлен не только об основах учения Толстого, но и о развитии свободно-религиозного движения в России вообще, и, в частности, о духоборческом движении (главным образом из литературы «Посредника»). Мне представилось, что, в сущности, только у духоборов на всей земле налицо более совершенная жизнь, жизнь трудовая, свободная от рабства церкви, государству и капиталу. Я сам стремился именно к такой жизни, – почему же бы мне не примкнуть именно к духоборам? Уйти в народ, на простую, трудовую жизнь стало моей неотвязной мечтой по ознакомлении с писаниями Толстого, а тут – как раз такая часть этого народа, с которой мы не только не разойдемся, но вполне сойдемся и сольемся в своих лучших и наиболее возвышенных стремлениях. К духоборам, к духоборам!.. В Америку!..35
«Но только вот вопрос, – рассуждал я, – смогу ли я, работая у духоборов, заниматься наукой?» От этого я не собирался отрекаться, – значит, моя будущая трудовая жизнь должна была быть построена так, чтобы у меня оставалось какое-то время для научных занятий. «Это и будет наиболее совершенный образ жизни, – думал я, – в соединении интеллектуального и физического труда». На этих условиях я готов был ехать в Америку хоть завтра же. Идея лучшей, новой, здоровой, прекрасной жизни, к которой я мог перейти от своей сомнительной и часто жалкой, полной заблуждений и греха, не связанной с телесным трудом, а следовательно, уже по одному этому ненормальной жизни, – идея эта настолько захватила меня и притом казалась настолько простой и осуществимой, что вот, – думалось мне, – стоит лишь протянуть руку, чтобы овладеть этой новой, прекрасной жизнью! И я без колебаний решился «протянуть руку» и отправиться в Америку. Мои советчики Толя Александров и К. Н. Корнилов, видя, что в университете я уж во всяком случае не удержусь, на этот раз и сами увлеклись моим планом, особенно Толя. Он восхищался моей решимостью и верил, что если я сохраню эту решимость до конца, то осуществлю свой необыкновенный план и уеду в Америку; но план был настолько необыкновенным, что, как рассуждал мой друг, просто трудно было допустить, чтобы он так-таки осуществился на деле!.. Увлеченный «за меня», Толя и хотел осуществления этого сказочного плана, и опять не верил, чтобы это было возможно… Он, кстати сказать, и сам фантазировал на тему о возможном бегстве из города, от всех условностей цивилизации, но только руководясь при этом, как и надлежало человеку искусства, не столько этическими, сколько эстетическими мотивами. Именно, его привлекала судьба Гогена: уехать куда-нибудь на Гавайские острова, наслаждаться жарой, лежать под пальмами, слушать морской прибой, влюбляться в туземок, питаться экзотическими фруктами и ничего не делать. Это, конечно, было далеко от духоборческого идеала.
Что касается меня, то я твердо верил в осуществимость своего плана вообще и в то, что именно мне удастся осуществить его. Помнится, я уже чуть ли не начал разыскивать или подумывать о том, чтобы разыскать, учителя английского языка, и во всяком случае предполагал лишнего не задерживаться в Москве. Мать? Я оставлял ее без колебаний. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, тот недостоин Меня». Друг? Но каждый из нас как будто стоял уже на определенном, самостоятельном пути и менее нуждался в постоянной дружеской поддержке. Я чувствовал, к тому же, что предпринимаемый жизненный шаг – один из тех, ради которых жертвуют всем.
Но и этот шаг требовал утверждения, санкционирования со стороны Льва Николаевича, – и вот в сентябре 1908 года я отправляюсь снова в Ясную Поляну.
Н. Н. Гусев все еще проживал там. Я пришел со станции в те часы, когда Лев Николаевич уже занимался, и поэтому должен был подождать, причем Николай Николаевич пригласил меня посидеть в его рабочей комнате. Он и сам находился тут же, разбирая какие-то бумаги за письменным столом, а я сидел против него… Думал ли я, что когда-то эта комната станет моей.?!
Гусев уже успел сказать обо мне Льву Николаевичу, и Лев Николаевич ответил через него, что примет меня и поговорит со мной после завтрака. Все шло как нельзя лучше, и я снова испытывал это совершенно особенное и столь многими переживавшееся чувство, что вот я нахожусь в Ясной Поляне, в одном доме и под одной кровлей со Львом Толстым и скоро, скоро увижусь и буду говорить с ним…
Николай Николаевич уверял, что я вовсе ему не мешаю и что он может в одно и то же время и работать, и разговаривать. Я посидел-посидел и, совсем выкинув из головы опыт прошлого свидания с Толстым и его «апостолом», снова, как и в тот раз, поделился с Н. Н. Гусевым тем, ради чего, собственно, я приехал ко Льву Николаевичу. На этот раз изложение моих намерений (отправиться к духоборам) и душевных колебаний и сомнений (как быть с наукой?) совершенно не удовлетворило Н. Н. Гусева.
Он заявил, что ехать к духоборам мне совсем не нужно, потому что они – люди своеобразные, с особым, своеобразным укладом жизни, для чужого человека неприемлемым и непонятным; в свою среду они никого со стороны не принимают, а потому мне надо устраиваться в русской деревне. Что же касается «занятий наукой», то нечего и говорить, что они несовместимы с земельным трудом.
– Да и вообще, – произнес явно разочарованным тоном Н. Н. Гусев, – все это у вас так неопределенно и сложно, что, по-моему, Лев Николаевич ничего не может вам посоветовать!..
Николай Николаевич посмотрел на меня через очки своим острым и слегка насмешливым взглядом (за не сходящую с губ улыбку Гусева звали в Ясной Поляне l’homme qui rit[23]23
человек, который смеется (фр.).
[Закрыть]) и, пряча складку досады между бровями, повторил:
– Да, я думаю, что Лев Николаевич не может вам дать никакого совета. и что вообще. вам совершенно не нужно видеть Льва Николаевича!..
У меня захолонуло сердце. Я хотел что-то возразить или, по крайней мере, хотя бы пожать плечами, но здесь, в Ясной Поляне, перед секретарем Толстого (!) казалась неуместной, святотатственной и такая, наискромнейшая форма выражения протеста.
– Если вы так думаете.
– Да, да!
– В таком случае, я не смею затруднять Льва Николаевича.
– Да, я думаю, что это было бы излишне.
– До свидания!
– До свидания!..
Я пожал Гусеву руку, повернулся и пошел вон из яснополянского дома, еще сам не сознавая хорошо того, что случилось.
О, если бы эту сцену подсмотрел или подслушал сам Толстой! Но он спокойно сидел и занимался в своем кабинете, ничего не ведая о том, что происходило рядом, в «ремингтонной». Вероятно, после ему были представлены уважительные причины, почему человек, которого он обещал принять после завтрака, не явился к нему на прием.
С окаменевшим сердцем, без мыслей в голове, вышел я за ворота усадьбы, повернул на дорогу к Засеке и поплелся на станцию, – с таким же сереньким, бесцветным настроением, каков был этот серенький, бесцветный и монотонный осенний денек.
Я прошел уже около половины пути до станции, как вдруг, поняв и осознав, наконец, что мне не дали видеть Льва Николаевича, – ничком кинулся на какой-то пригорок около дороги, с высохшей и побуревшей травой, и, закрыв лицо руками, горько зарыдал… Я лежал так, рыдая, довольно долго посреди пустынного, холодного, молчаливого поля. Потом успокоился немного, поднялся и пошел дальше.
До поезда оставалось еще несколько часов, и я решил зайти к Чертковым, жившим в 1908 году уже не в Ясенках, а на наемной даче близ станции Засека.
Я выразил сначала желание видеть самого Владимира Григорьевича. Мне сказали, что он «отдыхает», и я должен был некоторое время подождать. Затем Чертков, большой, обрюзгший, толстый, с заспанным и помятым лицом, вышел ко мне и очень удивил меня, поведя меня куда-то в обход дачи, на отдаленный задний двор, где и стал прогуливаться со мной взад и вперед. Он сонно выслушал мои слова о том, что я желаю бросить город и работать в деревне, и буквально двумя-тремя словами, равнодушно и безразлично, ответил на мою просьбу указать, где бы я мог поселиться для работы, что к сожалению, он ничем не может мне помочь.
Этим наша беседа и кончилась. Я удивился видимой безучастности Черткова ко мне как к посетителю, но не осуждал его, даже и в душе.
Я не мог еще понять в то время, какая пропасть отделяла меня, молодого «толстовца», от прошедшего все стадии «духовно-разумного» миросозерцания Черткова: ему так далеки были эти наивные вопросы практического осуществления «толстовства». Можно было рассуждать, спорить и доказывать «по-толстовски», а жить. по-старому.
Остаток времени до поезда провел я в компании молодых «толстовцев», наполнявших, как всегда, дом Чертковых. По счастливой случайности снова гостил у Чертковых болгарин Христо Досев, и я рад был встретиться с ним. Как и при первой встрече, Досев исключительно мило и внимательно отнесся ко мне и этим скрасил для меня довольно грустно сложившийся день. Был тут еще еврей С. М. Белинький, позже, уже при мне, работавший в качестве «ремингтониста» в Ясной Поляне. К вечеру пришел из Ясной Поляны Н. Н. Гусев, который сразу поставил себя в центр внимания, завладел разговором, играл на гитаре и пел:
Помню, помню мать свою,
Как меня мать любила,
Расставаяся со мной,
Сыну говорила:
Помни, помни мать свою!..
и т. д.
Репертуар у Николая Николаевича был исключительно «народный», а пел он с большим старанием и выразительностью. На слова «помню, помню» и «помни, помни» он как-то особенно ударял голосом, так что они вылетали из его уст, как звук вытаскиваемой из пустой бочки туго забитой втулки. Меня секретарь Толстого как будто и видел, и не видел. Во всяком случае, об утренней встрече нашей в Ясной Поляне и о моей неудачной попытке увидаться со Львом Николаевичем тут и речи не было.
Между прочим зашел разговор о женщинах, и к моему немалому удивлению Гусев, а за ним и другие высказались очень невысоко о женщине, ставя ее гораздо ниже мужчины и утверждая, что она неспособна к духовной жизни.
– Мне очень нравится одна еврейская молитва, – заявил черноголовый и чернобородый, с ярко выраженным семитическим типом лица, С. М. Белинький: «благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты не создал меня женщиной!».
– Превосходно, превосходно! – воскликнул Н. Н. Гусев, перебирая пальцами струны гитары.
– Но почему же, почему?! – спрашивал я у Гусева.
– Да уж так! – отвечал он неопределенным тоном, давая понять своей не сходящей с уст самоуверенной улыбкой, что он знает что-то такое, что безусловно верно, но доказывать чего, – по крайней мере, мне, – он все-таки не станет.
Когда кто-то поставил вопрос о том, в какой газете больше всего пишут о Толстом, Гусев назвал «Русские ведомости».
– А мне казалось, что больше всего о Льве Николаевиче пишут в «Русском слове», – заметил я. – По крайней мере, и Софья Андреевна помещает там свои «письма в редакцию». – Все усмехнулись, и я понял, что сказал какую-то глупость.
– Софья Андреевна! – почти с возмущением воскликнул Гусев. – Мы говорим о Льве Николаевиче, а не о Софье Андреевне. Лев Николаевич – особь статья, и Софья Андреевна – особь статья.
– Но ведь она – его жена!
– Так что ж из того, что жена?!
И снова – общая усмешка. Я сконфузился и почувствовал, что своими очевидно «бестактными» замечаниями еще более отдалил от себя строгого секретаря Толстого.
Учитель открылся мне легко. И напротив, мирок «толстовцев» в целом оставался пока для меня закрытым и овеянным какой-то таинственностью и неприступностью.
Так или иначе со времени этой, третьей, поездки в Ясную Поляну я перестал думать о переезде в Америку и решил пока что остаться в Москве, продолжая по-прежнему числиться студентом.
Глава 6
«Христианская этика»
Чествование 80-летия Л. Н. Толстого студенчеством Московского университета. – Встреча с Д. С. Мережковским. – Работа над «Христианской этикой». – Гоголевские торжества в Москве. – «Себе или Гоголю?» – Переписка с Л. Н. Толстым по вопросу об образовании. – Четвертая поездка в Ясную Поляну. – Знакомство с гр. С. А. Толстой. – У Чертковых в Крекшине. – Экзаменатор и его ассистент. – Идеализация быта чертковского дома. – Пение с балкона. – Приглашение на пост личного секретаря Л. Н. Толстого.
Побывав дважды у Л. Н. Толстого, я сделался предметом особого внимания со стороны некоторых из своих друзей и знакомых.
– Надо бы окружить твои губы кружочком и надписать: «это место целовал Толстой»! – шутил мой «легкомысленный» друг-музыкант. (Лев Николаевич действительно поцеловал меня, прощаясь, при втором нашем свидании.)
– Скажите, как выглядит Толстой? Какие у него сапоги? Рубашка? Шляпа? Какая походка? Как он говорит, как смотрит? В очках он или без очков? – закидывали меня вопросами барышни-сибирячки Гороховы, дочери берского мукомола и бывшего попечителя нашей гимназии, дом которых я посещал в Москве. – Нет, право, это все так интересно! – говорили они как бы в свое оправдание.
Я и не отрицал, что даже это интересно о таких людях, как Толстой, и старался добросовестно удовлетворить вопрошавших.
Летом 1908 года, проживая на каникулах в Томске, я опубликовал в «Сибирской жизни» впечатления от первых двух своих поездок в Ясную Поляну.
28 августа того же года вся Россия праздновала 80-летие великого писателя. Считая, что и студенчество не может остаться в стороне, я возбудил вопрос о чествовании Л. Н. Толстого сначала в Сибирском землячестве в Москве. Правление землячества постановило проявить инициативу в этом вопросе и опубликовало особое обращение ко всем студенческим организациям, развешенное на всех факультетах университета, с предложением совместно обсудить вопрос о чествовании юбилея Толстого. Отклик был очень дружный. В намеченный в нашем обращении день и час делегаты большинства студенческих организаций собрались в одной из аудиторий юридического факультета университета и на заседании под моим председательством избрали особый юбилейный комитет в составе 10 или 12 членов. Студент-литератор анархист Н. Н. Русов избран был затем председателем, я – товарищем председателя комитета. Постановлено было устроить общестуденческий вечер в честь Л. Н. Толстого, а кроме того, преподнести Льву Николаевичу приветственный адрес с подписями всех студентов.
Весьма многолюдное и торжественное открытое юбилейное собрание состоялось в Богословской аудитории – в аудитории Ключевского. Председательствовал Русов. Ораторами выступали: доцент П. Н. Сакулин, тогда еще совсем молодой человек с горящими глазами, румяными щеками и небольшой русой бородкой, не напоминавший ничем будущего длиннобородого и пророкообразного академика; далее – писатель Д. С. Мережковский, доцент юридического факультета и бывший председатель Московского окружного суда, друг семьи Толстых старик Н. В. Давыдов и я со своими воспоминаниями о первом знакомстве со Львом Николаевичем.
У Сакулина была тогда и совсем другая манера говорить. Он не цедил слова и фразы медленно и важно, в полном сознании своего авторитета, как он это делал позже, а говорил быстро, горячо и стремительно, весь зажигаясь и увлекаясь сам и зажигая и увлекая аудиторию. Задачей его было – определить место Льва Николаевича в истории русской литературы, русской мысли и русской общественности, что он и сделал с большим успехом.
Давыдов, похожий со своей седой эспаньолкой и в своем элегантном черном сюртуке на испанского гранда, поделился воспоминаниями о Л. Н. Толстом, но только – в крайне расплывчатой, сбивчивой форме, с бесконечным повторением одних и тех же фраз и эпитетов: «Я, собственно, отношусь ко Льву Николаевичу как к отцу…» И потом опять: «Я, собственно…» И затем – то же самое, еще и еще раз. Добрый и хороший Николай Васильевич, казалось, решил заранее говорить интимно, «просто», без плана подготовки, но запутался и с этой формой ораторствования не справился. Дал мало фактов, и весь его доклад растворился в ненужном многоговорении…
Речь Мережковского выпала абсолютно из моей памяти: она и на самом деле произнесена была как-то сухо, бледно и невыразительно. Видно было, что талантливый беллетрист и оригинальный мыслитель рассуждает о Толстом, как о чем-то постороннем и ему чуждом.
Мне лично все же импонировала эта маленькая, сухенькая фигурка с большими, ясными глазами и темной, круглой бородкой. В антракте я представился Мережковскому. Приветливый кивок, две-три условных фразы, условная улыбка, обнаружившая гнилые зубы.
На просторной эстраде сидела во время докладов, – не за столом, которого не было (говорили с кафедры), а сзади, у стенки, – также супруга писателя – Зинаида Николаевна Гиппиус, тогда еще очень моложавая, красивая и нарядно одетая дама. Она кокетливо побалтывала носком одной ноги, закинутой на другую, и с улыбкой, в лорнет, разглядывала аудиторию и публику.
Не помню, кто составлял адрес Льву Николаевичу, но это не были ни я, ни Русов. Адрес отразил настроение всего студенчества в целом. В нем выражалось восхищение художественным гением Л. Н. Толстого и высказывалось глубокое преклонение перед его общественной, прогрессивной ролью. Студенчество вспоминало и о пламенном протесте Толстого против смертной казни – о знаменитой статье его «Не могу молчать». Несколько тысяч человек подписались под этим адресом.
Предполагалось, что комитет отправится в Ясную Поляну in corpore[24]24
в полном составе (лат.).
[Закрыть] для поднесения адреса юбиляру. Но так как стало известно, что Л. Н. Толстой в письме к председателю петербургского юбилейного комитета М. А Стаховичу отказался от юбилея36, то решили сначала запросить Льва Николаевича через его супругу, телеграфно, может ли он принять студенческий юбилейный комитет. Как и можно было ожидать, ответ со ссылкой на нездоровье юбиляра получился отрицательный. Однако куда же девать великолепный адрес? Комитет поручил своему председателю Н. Н. Русову доставить адрес в Ясную Поляну единолично, что и было Русовым выполнено. В Ясной Поляне Русов был очень любезно принят как самим Львом Николаевичем, так и его семьей. Он даже привез в Москву портрет Толстого с собственноручной надписью в дар московскому студенчеству37.
Средства на изготовление адреса и на другие расходы по организации юбилея собраны были студенческими организациями по подписке. Их хватило с избытком. Небольшая оставшаяся в руках комитета сумма употреблена была, по моему предложению, на приобретение и переплет полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, которое затем помещено было на особо изготовленной деревянной полочке в большом читальном зале университетской библиотеки. Над полочкой повесили портрет Толстого, подаренный им студенчеству.
Я на днях (лето 1946 года) встретился в московском журнале «Огонек» с упоминанием о том, что Л. Толстым подарено было Московскому университету собрание его сочинений. Это, по-видимому, «творимая легенда». Почти не сомневаюсь, что дело идет о собрании сочинений Толстого, приобретенном студенческим юбилейным комитетом в 1908 году. На задней стороне верхней крышки переплета первого тома этого собрания сочинений любопытные найдут перечисленные мною имена членов студенческого юбилейного комитета, – сейчас я эти имена, за исключением одного-двух, перезабыл.
Оставшись в университете, я уже перестал им интересоваться и, собственно, был студентом только по названию. Лекций не посещал, экзаменов не сдавал. Новое мировоззрение – свободно-христианское, внушенное Толстым, – завладело мною целиком. Я глубоко и мучительно задумывался над тем, как именно лучше всего надлежало бы выполнить это мировоззрение в жизни. Я не собирался позволять и прощать себе никаких отступлений, никаких слабостей. Если верю, то надо жить по вере. Следует оставить общество привилегированных людей, покинуть город и во что бы то ни стало перейти к ручному, лучше всего – земледельческому труду. Я не знал, как я это сделаю, но говорил себе, что я должен это сделать. Мне известно было также, что если бы я решился, наконец, на полный, а значит и формальный разрыв с университетом, то я тотчас же потерял бы право отсрочки по выполнению воинской повинности, право, которое предоставлялось только студентам. Служить в солдатах, при моем новом мировоззрении, я не мог бы, просто не мог бы ни в каком случае. Следовательно, надо было готовиться к отказу от военной службы и к отбыванию положенного за это наказания. В старом законе на этот счет никакого твердого установления, собственно, не существовало, но было известно, что суды обыкновенно приговаривают отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям к нескольким – трем, четырем – годам арестантских рот. Перенести такое наказание – не шутка. Идя на отказ, надо было считаться и с худшим, считаться со всем, то есть и с полной физической гибелью, – следовательно, готовиться надо было к подвигу самоотречения, в полном смысле этого слова. И я готовился и проверял себя внутренне во всех отношениях, во всех, если можно так выразиться, направлениях.
Не избежал я, между прочим, на первых порах, как почти все в моем положении, и увлечения внешностью, декорумом «толстовства». Вместо студенческой куртки и крахмального воротничка стал носить простую синюю блузу, в которой появлялся решительно всюду. Запустил бороду. Форменную фуражку с голубым околышем заменил черной круглой, складной фетровой шапочкой, как у Толстого на портретах (хотя, с бородой, шапочка и не шла мне, и я походил в ней на татарина «шурум-бурум»). Правда, этот период внешнего «толстовства» скоро кончился.
По привитой, может быть, университетским изучением научной философии привычке к систематизации и слыша постоянно утверждения товарищей-студентов и вообще представителей интеллигенции, что Толстой как философ не заслуживает серьезного внимания, так как-де у него нет системы, – я, вернувшись из третьей (неудачной) поездки в Ясную Поляну, задумал доказать обратное и заняться систематическим изложением мировоззрения Л. Н. Толстого. Уже прошло то время, когда я видел в Толстом главным образом то анархиста, то антицерковника, то апостола внешнего «опрощения». Углубившись в писания Льва Николаевича и особенно познакомившись с ним самим, я понял, что основной смысл учения Толстого – религиозный. Исходной точкой учения является христианское утверждение об Отце-Боге и о сыновности всех людей Божественному Началу, а следовательно, и о всеобщем братстве. Отсюда, из признания всех людей братьями, как детей одного Отца-Бога, вытекает и признание их равенства, и все остальное в учении яснополянского философа: и отрицание собственности, и отрицание неравенства, и отрицание государства и насилия вообще, и критика церковности как затемняющего ясный смысл религии и разъединяющего людей начала, и взгляд на назначение науки и искусства, и так далее. Отсюда же – и основное требование самосовершенствования и любви. Но изложено все это у Толстого не в одной книге, а в сотне-двухстах и более отдельных сочинений, статей и писем, притом – иногда – без достаточно подчеркнутой для неподготовленного читателя внутренней связи между теми или иными отдельными частями учения. Изложить коротко все стороны учения в системе и лишить противников Толстого их главного аргумента против учения, заключающегося якобы в его бессистемности, – такова была задача, которую я себе поставил. Работе по выполнению этой задачи и посвящены были конец второго года и третий год моего пребывания в университете. «Вот, кончу ее, – думал я, – и тогда уже окончательно рассчитаюсь с университетом, чтобы вступить на новый путь», – на путь новой жизни, который должен был начаться серьезным, ответственным испытанием, в связи с твердым намерением моим отказаться от военной службы.
К этому последнему времени моего пребывания в университете и жизни в Москве относится также один инцидент, связанный с юбилейными торжествами по поводу 100-летия со дня рождения Н. В. Гоголя.
Март месяц 1909 года. Веселая, дружная, солнечная весна. Снег быстро исчезает. Потоки воды по улицам… Я шел однажды, в такую погоду, по Большой Алексеевской (ныне Коммунистической) улице38, на Таганке, на урок в дом богатого текстильного фабриканта Кузнецова. (В очень приятной, патриархальной и строго православной, но в то же время достаточно просвещенной, гуманной и радушной семье Кузнецовых я репетировал двух мальчиков-гимназистов и подготовлял к поступлению в женскую гимназию их сестренку.) Одно впечатление вдруг поразило меня.
Посередине улицы тащились, запряженные низкорослыми, лохматенькими деревенскими коньками двое розвальней с дровами, а сбоку, придерживая вожжи, бежал мужичок в засаленной, рваной дубленой шубенке. На ногах у мужичка были валенки, обувь совсем не по сезону, – сапог у бедняги, видно, не водилось, – причем на пятке одного из валенок имелась большая дыра, заткнутая перегнутым надвое толстым и длинным пучком соломы. Пучок этот торчал на ноге, как шпора… Валенки были мокрые. Мужичок старался не попадать в лужи и все поскакивал с камешка на камешек, с одной снежной кочки на другую, но предохранить ноги от сырости, конечно, не мог… Взглянул я на незадачливого «кормильца и поильца» – и что-то вдруг резануло меня по сердцу: «Бедная, бедная нищая Россия! – пронеслось в моей голове. – Бедная деревня!.. Ведь вот, в газетах пишут, что еще не открытый, но уже законченный сооружением памятник Гоголю на Арбатской площади обошелся в семьдесят пять тысяч рублей, а тут бедному мужику некогда и не на что валенки себе починить! К чему же вся эта роскошь и все это расточительство горожан?! И что докажут вожди буржуазного общества этой бронзовой статуей в честь великого писателя-правдолюбца и христианина? «Почтят» ли его, действительно, или, быть может, оскорбят?»
И тут вспомнились мне слова из «Завещания Гоголя», как раз незадолго перед тем попавшегося мне на глаза:
«Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном»39.
Правда, статуя на площади не есть памятник над могилой, но и над могилой писателя только что, как сообщали газеты, обновили дорогой мраморный памятник. Между тем, Гоголь, отказываясь от памятника, предлагает лучше – в день его поминок собрать и накормить нищих.
Что же? Или это не ясно? Или подлинное мнение, пожелание великого человека, память которого мы будто бы чествуем, на деле не играет для нас никакой роли? А если играет, то почему мы этого мнения, этой в завещании выраженной последней воли не уважим? Или – сознаемся! – предприняли мы организацию пышных «Гоголевских торжеств» не ради Гоголя, а ради самих себя? Ради того, чтобы только продемонстрировать перед «просвещенным миром» свою «культурность»?
Но, поистине, мы лучше почтили бы память писателя, если бы за те деньги, что истратили на памятник, починили обувь хотя бы одному бедняку. хотя бы вот этому мужичку, прыгающему в дырявых валенках по лужам!..