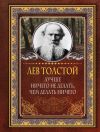Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Уже на другой день, после того как я просмотрел все поправки, Толстой говорил мне, что ему интересно было прочесть все, что он писал, сразу в связном изложении и что я совершенно приблизился к верному пониманию его взглядов. Нечего и говорить о том, что я согласился со всеми поправками Льва Николаевича и был ему глубоко признателен за просмотр моей рукописи. Позже, перед сдачей в печать, я выправил ее, между прочим, еще раз, в согласии с написанной Л. Н. Толстым в последний год его жизни и важной для характеристики его мировоззрения книгой «Путь жизни». Предполагалось, что книга моя выйдет в 1910 году. Ею заинтересовался, со слов И. И. Горбунова-Посадова, редактор-издатель очень распространенного в то время журнала для самообразования «Вестник знания», издававшегося в Петербурге, В. В. Битнер. Книга должна была выйти в виде приложения к журналу, и Битнер уже напечатал о ней подробное объявление. Он потребовал, однако, несколько вступительных слов от Л. Н. Толстого, и тот написал Битнеру, что сочинение мое им внимательно прочитано и что он нашел в нем верное и очень хорошо переданное изложение своего религиозного мировоззрения (27 марта 1910 г.). По цензурным условиям книга, однако, тогда не вышла.
Отправляя меня в декабре 1909 года к В. Г. Черткову, Л. Н. Толстой снабдил меня рекомендательным письмом, в котором, между прочим, тоже хорошо отозвался о «Христианской этике». Все эти отзывы, и устные, и письменные, стоят, однако, в противоречии с отметкой в личном дневнике Льва Николаевича, с которой я познакомился после его смерти. Именно, отмечая 23 декабря 1909 года мой приезд в Ясную Поляну и упоминая о моей работе, Лев Николаевич добавляет: «В общем, плохо. Не его работа, а моя». Суд Льва Николаевича справедлив, но вторая часть записи в дневнике основана на недоразумении. Это он, очевидно, ожидал от меня самостоятельности в моей работе. Я же претензии на самостоятельность отнюдь не имел и по большей части излагал взгляды Толстого его же словами, указывая в сносках соответствующие сочинения. Мне принадлежал только разработанный мною самостоятельно план работы. Так что я выступал в «Христианской этике» отнюдь не самостоятельным мыслителем, а всего лишь компилятором. Все похвалы Льва Николаевича я и отношу к качеству компиляции. По существу же, это, конечно, была его работа, а не моя[27]27
25 февраля 1949 г. Н. Н. Гусев писал мне по поводу этого места моих записок: «Запись Л. Н. в дневнике я понимаю иначе, чем ты, и думаю, что мое понимание правильное. Ты пишешь, что напрасно Л. Н. ждал от тебя самостоятельности, что ты хотел изложить его взгляды его же словами. Но дело в том, что систематическое изложение взглядов мыслителя в виде выдержек из сочинений этого мыслителя – прием настолько бесспорный, что Л. Н. не мог против него возражать. Я понимаю эту запись следующим образом. По прочтении твоей рукописи Л. Н. записывает в дневнике: «В общем плохо». Что же плохо? «Не его работа, а моя», то есть плоха не работа Б., не его изложение, а моя, Толстого, работа плоха. Так я и комментирую эту запись в Академическом издании, где мне принадлежит редакция дневника 1909 года. (Том этот еще не вышел и пока не намечается к изданию.) Это – пример обычного беспощадного, строжайшего к себе отношения со стороны Л. Н., – одной из характернейших черт его духовной личности». Возможно, что Н. Н. Гусев прав (примеч. В. Ф.Булгакова).
[Закрыть].
…Через несколько дней, в первых числах января 1910 года, я подавал письмо Л. Н. Толстого секретарю В. Г. Черткова Алексею Петровичу Сергеенко в загородном помещичьем доме тетки Черткова Пашковой в деревне Крекшино, под Москвой, где проживал тогда со своей семьей Владимир Григорьевич. Сам он был не совсем здоров и лежал в постели.
Но каким образом, однако, оказался Чертков в Крекшине, а не в Ясенках, или в Засеке, или в Телятинках близ Ясной Поляны? Или он раздумал поселяться в Телятинках? Прекратил постройку дома в телятинской усадьбе? Нет, Владимир Григорьевич ничего не хотел так, как жить именно в Телятинках или в Ясенках, то есть поблизости от Ясной Поляны и от Л. Н. Толстого. И дом его в Телятинках был готов, и Чертковы со своим «двором» уже пожили в нем некоторое время, но. появилось, как тогда говорили, чисто российское «но», которое и испортило все планы ближайшего друга и единомышленника Толстого. Именно, властями запрещено было Черткову проживать в Тульской губернии. Он будто бы дурно действовал на крестьян, распространяя с помощью окружавших его молодых людей «толстовские» взгляды в деревне, чем и подкопал основание своего нового плана жизни: находиться вблизи старого друга и учителя, помогать чем можно ему, основать большой идейный центр «толстовства» и организовать издательство религиозно-философских сочинений Л. Н. Толстого. Впечатления и опыт английской свободы, должно быть, еще жили в сердце Владимира Григорьевича. К тогдашнему русскому масштабу они оказались неприменимыми.
И вот, вместо всего задуманного, скучная ссылка в глухую подмосковную, затерянную в снегах, посреди соснового бора, за несколько верст от железнодорожной станции. Тут и с мужиками приходилось быть поосторожнее, не очень их одолевать брошюрами «Посредника» и «Обновления», а то кабы не услали еще куда подальше! Чертковы очень скучали и томились в Крекшине.
Связь их с Ясной Поляной была неполная. Лев Николаевич писал им изредка, но этого было мало. Н. Н. Гусев, который раньше был связующим звеном между Ясной Поляной и усадьбой Чертковых, уже не жил в доме Льва Николаевича: 4 августа 1909 года он был арестован тульской полицией за пересылку по почте нелегальных брошюр Толстого и затем по распоряжению министра внутренних дел сослан на два года в Чердынский уезд Пермской губернии.
Пока я беседовал с близкими В. Г. Черткова, он знакомился с моей работой. Потом меня пригласили к нему. Владимир Григорьевич, большой, грузный, полулежал, прикрытый одеялом, в постели, в комнате, служившей ему одновременно и кабинетом, и спальней. Это была на редкость неуютная и плохо обставленная случайной мебелью комната. Да и та мебель, что имелась, расставлена была без большого порядка. Шкафы, стулья, табуретки, письменный стол, умывальник – все, казалось, само и произвольно заняло свои места, без вмешательства организующего человеческого разума. Окна были полузанавешены, но не шторами, а какими-то картонками и сетками. Ни портретов, ни картин на стенах. Так жил обычно Чертков. Таков был его вкус. Или, быть может, таково было его «убеждение»? Как можно больше казовой «простоты», выхолощенности и трезвости? Может быть, и «убеждение»!.. Несообразность и несуразность обстановки, во всяком случае, как-то сливались с личностью и неподатливым, а в то же время прихотливым и изменчивым характером хозяина.
Бледное, одутловатое лицо Черткова сегодня не казалось таким сонным, как обыкновенно. Напротив, огонь блестел в его глазах и речь была быстрой и энергичной.
В руках у Владимира Григорьевича была моя рукопись.
– Я нашел у вас одно противоречие в книге, – заявил мне Чертков. – Вот вы говорите в одном месте, что Лев Николаевич призывал мужчин и женщин к целомудрию, а в другом месте приводите его утверждение о том, что только женщина-мать спасет мир. Как же соединить то и другое? Разве не видите вы здесь противоречия?
Я подумал.
– Нет, не вижу, – сказал я. – Ведь призыв к целомудрию не потеряет своего значения и в том обществе, где видную и важную роль будет играть женщина-мать. Мне кажется, что одно не исключает другого.
– Ага, вы так думаете!.. Видите ли, я, собственно, согласен с вами, но я хотел знать, сознательно ли вы ввели оба утверждения в книгу или же не обратили внимания на это кажущееся противоречие… А теперь мне хотелось бы поговорить с вами о другом.
И тут В. Г. Чертков, без всяких предисловий, обратился ко мне с предложением, не соглашусь ли я переехать из Москвы к нему в дом, чтобы помогать ему в его литературных и издательских работах.
Предложение это как нельзя более соответствовало моему внутреннему настроению и желанию. С университетом я порвал, и связь эта была невосстановима. Пуститься по пути обычного рода чиновничьей или канцелярской службы было мне противно. К тому, чтобы начать жизнь земледельца или ремесленника, я еще не был готов. Но привычная – литературная и канцелярская – работа в любимом деле, во имя одушевлявшего меня идеала, могла наполнить все мое существо и занять меня по-новому. Меня манил, к тому же, и мир «толстовцев», мир единомышленников, до сих пор совершенно мне незнакомый. «Войдя в этот мир, я не буду одинок», – говорил человек в моей душе. «Я опишу этот мир», – добавлял литератор. Я не знал, сколько я останусь у Черткова, ведь передо мной стояла проблема отказа от военной службы, но я, во всяком случае, готов был принять его предложение, о чем и заявил Владимиру Григорьевичу. Он выразил по этому случаю живейшее удовлетворение.
– К сожалению, – добавил Чертков, – мы (в таких случаях он всегда говорил «мы», то есть он и его жена. – В. Б.) не можем предложить вам особо выгодных материальных условий. Мы сейчас очень стеснены в денежном отношении. Скажите, пожалуйста, каковы были бы ваши пожелания на этот счет?
– Денег я, разумеется, от вас не потребую, – ответил я. – Но если бы мне понадобилось что-нибудь купить – сапоги или почтовую марку, то, может быть, вы возьмете на себя эти расходы.
– О, да, да! Конечно! Я это с радостью сделаю…
Я и понятия не имел, что, отказываясь именно от денег, я завоевываю сердце Владимира Григорьевича: ни разу в жизни не испытав, что значит остаться с пустым кошельком, он, тем не менее, был всегдашним убежденным теоретическим противником денег как социального института. Кроме того, как я убедился позже, Чертковы вообще платили своим сотрудникам деньгами очень мало, предоставляя им, впрочем, почти полное, хотя и очень скромное, иждивение. Фраза «мы сейчас очень стеснены в денежном отношении» была сакраментальной в устах В. Г. Черткова при приглашении каждого нового сотрудника из «толстовцев». И «толстовцы», само собой, не ставили ему неприемлемых требований.
Я не знал также, что, приглашая меня к себе, В. Г. Чертков питал в душе, собственно, совсем другие планы на мой счет, что и обнаружилось через неделю после того, как я, съездив в Москву и ликвидировав там свои дела, перебрался затем уже «совсем» в Крекшино. Дело шло о планах, о которых я, со своей стороны, и мечтать не смел, а именно о том, чтобы мне занять место личного секретаря самого Л. Н. Толстого. Гусева до сих пор никто не заменил. Александра Львовна, пытавшаяся это сделать, не справлялась с делом. Она недостаточно знала писания и воззрения своего отца и не могла вести его корреспонденцию с единомышленниками, для чего требовалась значительная доля самостоятельности, так как Лев Николаевич далеко не на все письма успевал отвечать сам, а оставлять иные «хорошие письма» не отвеченными тоже не желал. Бывали и другие поручения секретарского характера, касавшиеся помощи Льву Николаевичу в литературной работе (например, при составлении сборников мыслей), которые бывали Александре Львовне не под силу, хотя она, дорожа вниманием и любовью отца и радостно сотрудничая с ним, и боялась сама себе в неподготовленности своей сознаться.
Конечно, введение нового сотрудника в дом Л. Н. Толстого должно было произойти в высшей степени осторожно и деликатно, так, чтобы никого не огорчить и не обидеть. Кандидата трудно было подыскать и потому, что совсем чужого и, скажем, недостаточно тактичного человека не приняла бы и семья и в особенности жена Льва Николаевича, что вполне понятно: ведь секретарь великого писателя невольно делался свидетелем и даже как бы участником всей жизни семьи. Кандидатов подыскивали и приглядывали, но неудачно. Самым желательным для Черткова и вполне приемлемым для Льва Николаевича кандидатом являлся Алексей Сергеенко, но, к сожалению, кандидатура эта не встретила необходимого доверия у жены и детей великого писателя. Сергеенко считали клевретом Черткова и постоянного присутствия его в доме не желали, потому что и самого Черткова… побаивались. Трудно даже сказать, почему побаивались, но побаивались. Об этом свидетельствовали после и Софья Андреевна, и дружившая одно время с Чертковым Александра Львовна. Инстинктивно побаивались. И, как это доказало будущее, инстинкт на этот раз не обманул.
Теперь подвертывался я.
Владимир Григорьевич, вероятно, учел и первое, более или менее благоприятное впечатление, произведенное мною на Льва Николаевича (он судил о нем по рекомендательному письму, полученному от Толстого)[28]28
Из письма Л. Н. Толстого к В. Г. Черткову от 24 декабря 1909 г.: «Письмецо это вам передаст Булгаков, которого вы знаете. Он составил большую работу, которую я рассмотрел и нашел хорошей. Что скажете вы? Человек он очень и умный и искренно убежденный, как я его понимаю» (ПСС. Т. 89, с. 163).
[Закрыть], и снисходительный прием, оказанный мне старой графиней, и мою осведомленность в писаниях Толстого, доказанную «Христианской этикой», и, наконец, некоторую «литературность». Нельзя было, однако, сразу открыть мне, куда меня прочат. Нужен был предварительный искус. Таким искусом или экзаменом и должна была послужить моя работа в Крекшине в качестве сотрудника самого Владимира Григорьевича. Таким же искусом или экзаменом являлся, в сущности, и наш разговор о содержании «Христианской этики» и о мнимом противоречии, заключающемся в одном из отделов этой работы.
Как оказалось после, у главного экзаменатора, то есть у В. Г. Черткова, был даже ассистент. Тут мы переходим в область анекдотического, поскольку это анекдотическое связано было всегда с домом Чертковых. Анекдот, о котором я хочу упомянуть, собственно, не из веселых. Но что делать! – из песни слова не выкинешь. Читателю лучше будет понятно дальнейшее, если он осведомится и об этом анекдоте, связанном с поступлением моим на службу к Чертковым.
Дело в том, что пока мы беседовали с Владимиром Григорьевичем, за шкафами в его комнате сидел – тихо-тихо, притаившись как мышь – секретарь или доверенное лицо патрона – Алеша Сергеенко. Его задачей было – прислушавшись к разговору патрона с новым человеком, проанализировать этот разговор и оценить нового человека: годится ли или не годится он на что-нибудь, и если годится, то на что именно. «Семь раз примерь – один раз отрежь». А по-чертковски: примерь сам и дай примерить другому. От мнения Алеши Сергеенко зависело очень много. Владимир Григорьевич, живя в Крекшине, так отяжелел и обленился (он и вообще был тяжел на подъем, за исключением особых «периодов», о которых речь впереди), что, кажется, даже на составление вполне самостоятельного мнения о вновь приглашаемом лице не был способен. Это – с одной стороны. С другой, он легко, как ребенок, доверял своему секретарю и alter ego, красивому, вкрадчивому и умному Алеше. Без Алеши ни на что не решался и ничего не предпринимал. Думаю, что больше из лени Черткова, духовной и физической, эта необыкновенная дружба и родилась. Чертков думал головой Алеши, Алешина голова работала только и только на Черткова. Мне посчастливилось: Алеша одобрил выбор яснополянского «агента».
Но зачем было все-таки прятаться за шкаф?! Почему нельзя было просто присутствовать при беседе моей с Чертковым?! Аллах ведает! Разумного, рационального объяснения этому факту дать нельзя. Объяснение иррациональное, может быть, найдется. Чертков и Алеша любили тайну, любили подполье. Тайна и подполье были им зачем-то нужны. Может быть, для борьбы за свои «права» и за свое «положение» около Толстого? Очень может быть.
Распростившись с Толей Александровым, с братом Веной, с учениками моими на Большой Алексеевской улице, распростившись с Москвой, я переселился в Крекшино к Чертковым. На первых порах меня заняли корреспонденцией. Владимир Григорьевич принес мне огромную пачку не отвеченных писем от разных «толстовцев» и просил на все ответить так, как я найду нужным. Каждый ответ я должен был начинать лапидарной фразой: «Владимир Григорьевич, будучи занят неотложными делами, поручил мне ответить на ваше письмо». Ни в коем случае не следовало подписывать ответы своим именем. Можно было только ставить инициалы.
– Иначе самостоятельные переписки заводятся, – сказал мне Владимир Григорьевич: он (то есть корреспондент) начинает отвечать уже не мне, а вам, вы – ему – и так далее!..
Это тоже было очень характерно для Черткова: желание, не ведя корреспонденции лично, иметь все-таки большую корреспонденцию. Правило, всегда существовавшее в доме Черткова. У Льва Николаевича, например, хоть он был и старше, и, скромно выражаясь, «авторитетнее» Черткова, ничего подобного не было: и Гусев, и я подписывали свои ответы собственными именами.
Впрочем, в те дни я видел только хорошее и с радостью принялся за работу в тех рамках, какие были мне указаны Владимиром Григорьевичем.
Как странно, как ново мне было очутиться после уединенной студенческой комнатки в этом большом, в стиле английских коттеджей построенном доме, окруженном прекрасным хвойным лесом! Внутренняя жизнь дома была, казалось, жизнью большой семьи. Если сам Чертков держался в значительной степени изолированно и замкнуто, то жена его, Анна Константиновна, напротив, была для всех доступна и со всеми добра и предупредительна. О Диме и говорить нечего. Он одевался по-деревенски, увлекался гармошкой и плясками и был чрезвычайно привлекателен свой милой, молодой, веселой беспечностью. Алеша Сергеенко секретарствовал, где нужно – представлял хозяина. С ним вместе проживал его младший брат, 13-летний мальчик Лева, мечтавший сделаться писателем и сделавшийся, вместо этого, впоследствии артистом Театра Вахтангова в Москве, со сценическим именем Русланов. Переписчик на ремингтоне, домоправительница – милая пожилая воронежская крестьянка Анна Григорьевна Морозова, друг и покровитель всех молодых «толстовцев», проходивших через дом Чертковых, рабочие, кучер, женская прислуга, хозяева – все садились во время обеда, ужина и чая за общий стол, – веселые, сияющие, видимо дружные между собой и простодушные.
Я видел только хорошее. Когда однажды среди рабочих, явившихся в столовую раньше других, начались шуточки о том, что за столом имеются первый, второй и третий «классы», причем поставленными на ребро грубыми рабочими ладонями указывались даже границы этих «классов», я смеялся добродушно вместе с рабочими, даже и вообразить себе не умея, что их шутки основаны на действительном положении вещей и что на привилегированный конец стола (на котором, между прочим, находился и я) подаются одни кушанья, больной хозяйке дома – другие, «особые», а рабочим, прислуге и рядовым сотрудникам – третьи. Порядок – прочно привившийся, хозяевами (к чести их) даже и не скрывавшийся, но гостями и случайными посетителями, вроде меня, никогда не замечавшийся.
Владимир Григорьевич возглавлял стол. Он принарядился, подтянулся, – может быть, ради нового лица. Приветливый, крупный и красивый, с энглизированным барским произношением, он был в хорошем настроении и производил на меня теперь приятное впечатление. Я чувствовал в нем выдающегося человека и благоговел перед его дружбой с Толстым.
Впоследствии я более чем коротко познакомился с семьей Чертковых и с жизнью чертковского дома, – без сомнения, одного из самых интересных и своеобразных, хотя и сумбурных домов, какие только бывали на свете. Но тогда, в начале 1910 года, сошедшись впервые после долгого теоретического изучения Толстого со стольким числом его единомышленников, я страшно идеализировал весь быт моих новых друзей. Маленькая крекшинская колония «толстовцев» представлялась мне чуть ли не земным раем.
Помню, как, бывало, забегал в мою комнату на антресолях, выходившую окнами на тихую, снежную, окаймленную старыми елями поляну, шестилетний босоногий мальчуган Костя, сын личной камеристки хозяйки дома. Он скакал по всему дому верхом на палочке и, причмокивая губами, погонял свою «лошадку». У него были мягкие, длинные льняные волосы, подстриженные в кружок, большие синие глаза и тонкое, одухотворенное личико, какие среди крестьян можно встретить только в коренной России, а не у нас в Сибири, где народ некрасив, черен и грубоват. Я ласкал Костю и все приставал к нему с вопросами: знает ли он о Христе? – и пр. Костя казался мне маленьким святым, своего рода «отроком Варфоломеем» с картины Нестерова, возрастающим на самой благоприятной почве и в наилучшей духовной атмосфере. Но ребенок в ответ только своенравно встряхивал головкой, будто конь гривой, испускал тоненьким голоском громкое «и-го-го!» и скрывался от меня в другие комнаты, отшлепывая по полу босыми ножонками…
Узнавши, что я учился пению, Владимир Григорьевич и его супруга стали усиленно уговаривать меня спеть что-нибудь, и как я ни отговаривался сначала, пришлось уступить. А сдавшись раз, уже трудно было сопротивляться потом. И вот повелось так, что почти каждый день, вечерком, я пел, и много пел. Стесняясь за свою методу пения – «с улыбкой на устах» (по Вишневецкой), я забирался обычно на верхнюю галерейку небольшого, но высокого hall’а в крекшинском доме и оттуда, уже более свободно и непринужденно, разливался в исполнении романсов Глинки, Даргомыжского, Чайковского и Римского-Корсакова, а супруги Чертковы, расположившись в креслах, слушали меня снизу, вместе с горсткой любителей музыки из числа домочадцев.
Тогда я не любил слушать себя, считая свой репертуар случайным, а уменье – примитивным, настроения подходящего не было, и пение, к тому же без аккомпанемента, очень тяготило меня. Но как вспомню, что бедные Владимир Григорьевич и Анна Константиновна, оба – люди с привычками культурной, столичной среды, очень скучали в своем «толстовско»-деревенском заточении, и притом оба очень любили музыку, – у меня вдруг что-то содрогается в сердце от жалости и от благодарности за внимание к этим моим старшим, хотя и не всегда близким, друзьям, ныне уже почившим.
Недолго, однако, прожил я в Крекшине. Помню, как через неделю после моего приезда Владимир Григорьевич позвал меня однажды в свой кабинет и, на этот раз уже не лежа в постели, а сидя у письменного стола, сообщил мне о своем решении: направить меня в Ясную Поляну, на помощь Льву Николаевичу.
– Согласны ли вы на это? – задал он мне вопрос.
Господи, да если бы меня спросили, согласен ли я попасть заживо в Царство Небесное, так я бы, кажется, не проявил такого восторга, какой овладел мной при мысли, что я снова, и притом надолго, буду около дорогого, обожаемого учителя!..
И жутко было (жить с Толстым!), но и сулило большое духовное счастье, а также возможность полного внутреннего просветления и обновления, которых я искал и в которых нуждался.
В. Г. Чертков списался со Львом Николаевичем, и от него получил согласие на мой приезд. Но только первоначально я должен был поселиться не в Ясной Поляне, а за три версты от нее, на хуторе Чертковых, близ деревни Телятинки, во флигеле для сторожей и рабочих при пустом, необитаемом доме. Была одна деликатная причина внутрисемейного свойства, почему я не мог обосноваться сразу же в доме Льва Николаевича: Александра Львовна, помогавшая отцу и горячо любившая его, заранее ревновала нового помощника и боялась, что я, «как Гусев» (это она сама мне после говорила), постепенно отстраню ее от всякой помощи Льву Николаевичу. Но не все ли мне было равно?! Разумеется, я ехал не для собственного удовольствия, а для того, чтобы, сколько могу, быть полезным Льву Николаевичу. Вопрос же о том, где именно помещаться, меня мало интересовал.
И даже наоборот, перспектива очутиться в деревне и жить в скромных условиях с тремя или четырьмя рабочими из местных крестьян казалась мне, прирожденному горожанину, необыкновенно привлекательной. Да и как же могло быть иначе? Ведь это, то есть опрощение и деревенская жизнь, а по возможности и ручной, крестьянский труд, и было моей мечтой с тех самых пор, как я познакомился с религиозно-философскими писаниями Толстого и, в частности, с его книгой «Так что же нам делать?», в которой даны столь потрясающие картины социального неравенства и со страниц которой столь мощно звучит призыв учителя к представителям «праздных» классов – спуститься на уровень людей труда и взяться самим за плуг и лопату!
Владимир Григорьевич снабдил меня сопроводительным письмом ко Льву Николаевичу, подарками – изготовленными им фотографиями Толстого с внучатами – для самого Льва Николаевича, для Софьи Андреевны и для невестки Толстых, матери сфотографированных внучат, разведенной жены Андрея Львовича Ольги Константиновны Толстой, проживавшей тогда в Ясной Поляне; другое письмо вручил для передачи временному управляющему его хутором в Телятинках, молодому крестьянину Егору Кузевичу; передал мне для Льва Николаевича только что полученную из Москвы корректуру первого, январского выпуска новой работы Толстого – сборника мыслей «На каждый день»; наконец, сделал ряд устных указаний и поручений. То и дело с уст его слетало, как нечто обыденное: «скажите Льву Николаевичу… когда будете у Льва Николаевича. попросите Льва Николаевича…» А для меня это звучало волшебно, невероятно, и мне было страшно и непривычно до жути принимать эти обычного рода житейские поручения ко Льву Николаевичу, – к самому Льву Николаевичу Толстому!..
Второй наставляющей и поручающей инстанцией был А. П. Сергеенко. Без сомнения, по указанию самого Владимира Григорьевича, он своим тихим и вкрадчивым голосом (Александра Львовна сравнивала, бывало, Алешу с Ури-элом Гипом из диккенсовского «Давида Копперфильда»), долго и подробно внушал мне, что я ни в коем случае не должен смешивать Льва Николаевича и Софью Андреевну. Это – совершенно разные, чужие друг другу люди, разных характеров и разных мировоззрений. Между ними нет ничего общего. Софья Андреевна не только не сочувствует взглядам Льва Николаевича, но даже относится к ним враждебно. Более того, она часто проявляет психическую ненормальность. Совместная жизнь с женой для Льва Николаевича очень тяжела, это – его крест, он очень страдает, и это я всегда должен иметь в виду. В частности, очень желательно, чтобы, живя в Ясной Поляне, я вел дневник и записывал в нем не только слова самого Льва Николаевича, но и все подробности его семейной жизни. «Это прекрасно делал Гусев», – добавил Алексей Петрович.
Он вручил мне несколько английских тетрадей с добавочными листами для копий. В тетради эти я должен был записывать свои яснополянские наблюдения и впечатления. Писать следовало с прокладной, копировальной бумагой, острым карандашом, а затем листки с копией текста вырывать по пунктиру и. отсылать в Крекшино.
– Владимиру Григорьевичу и Анне Константиновне, при их вынужденной оторванности от Льва Николаевича, будет очень приятно и дорого получать все сведения об его ежедневной жизни! – говорил Алексей Петрович.
Я наивно верил каждому его слову, сочувственно качал головой при рассказах о недобром характере Софьи Андреевны, находил совершенно естественным желание Владимира Григорьевича и Анны Константиновны получать копии всего, что я буду записывать в Ясной Поляне, и обещался Алеше, как и Владимиру Григорьевичу, выполнить все его указания.
Мне и в голову не приходило, как должно было стеснить меня в будущем хотя бы одно только обещание – о предоставлении Чертковым копий моего дневника! Но пока что я не сомневался в полной тожественности интересов В. Г. Черткова с интересами нашего общего великого учителя.