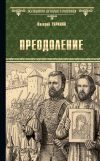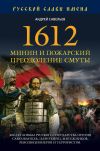Текст книги "Кузьма Минин"

Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
V
Не сразу Пожарский пошел к Москве.
Сначала послал в помощь подмосковным казакам против гетмана Хоткевича два отряда.
Первый тронулся в путь семнадцатого июля. Его повел умный и осторожный воевода Михайла Самсонович Дмитриев, – рода незнатного, но честный, крепко преданный земскому делу.
Через десять дней вышел и второй отряд под началом неутомимого воина Лопаты-Пожарского, которого за храбрость и веселый нрав крепко полюбили ополченцы.
Дмитриеву было указано стать в Москве у северной стены Белого города – близ Петровских ворот, а Лопате – недалеко от него, у Тверских ворот, не смешиваясь с казацкими таборами, которые стояли поблизости, у стен Китай-города, между реками Яузой и Неглинной.
С воинами Лопаты-Пожарского ушли из Ярославля и Константин с Натальей. Минин посоветовал ему попытаться снова под видом шута проникнуть в Кремль и разведать там о делах панов.
Наталья – верхом на коне, с саблей на боку. Голова повязана зеленым полосатым платком. Еще красивее и мужественнее стала она.
Минин послал в Москву множество соглядатаев-лазутчиков.
Дорога между Ярославлем и Москвою не пустовала. Среди лесов на постоялых дворах то и дело встречались одинокие всадники, низко кланялись друг другу и тихо что-то передавали на ухо один другому… И так – от перегона к перегону, пока слова их не доходили до Пожарского и Минина. Только до них двоих.
Близился час выступления в поход и всего ополчения.
Грустно было расставаться с Ярославлем, с народными земскими порядками, с приказами, в которых разбирались дела обиженных тяглецов-бедняков, но ничего не поделаешь: уходить надо. Дальше сидеть нельзя.
Торопили Пожарского и ратные люди украинских городов, они с братской готовностью откликнулись на призыв Ярославского правительства. Собрали казну, оделись, обулись, вооружились и пришли к Москве, чтобы стать заодно с нижегородцами. Раскинули свой лагерь там, где приказал Пожарский, у Никитских ворот, но здесь их стал теснить Заруцкий, о чем и сообщили гонцы. Со слезами умоляли они Пожарского поспешить к Москве, пока не поздно.
Двадцать восьмого июля Минин велел Буянову выпустить из тюрьмы казака Степана и всех его сообщников, покушавшихся на жизнь Пожарского; Сеньку Жвалова, бывшего слугу князя, и пятерых стрельцов Минин в цепях разослал по разным северным городам. Степана, Обрезку и других казаков, бывших с ними, он велел взять с собой в Москву для дальнейшего дознания.
В полдень двадцать девятого июля выстрелила пушка в Волгу – поднялось нижегородское войско. Из уст в уста побежало тревожное, волнующее: «В Москву!»
Стояла жара. Ратники поснимали с себя доспехи и положили их на приготовленные Мининым для того подводы. Кое-кто даже и рубахи с себя снял. Собравшееся за городом ополчение в таком виде мало походило на то грозное войско, которое шло вдоль Волги до Ярославля.
Пожарский, объезжавший ополченские таборы с новыми своими помощниками – князьями Андреем Хованским и Петром Барятинским, – смотрел на мускулистых, загорелых ратников серьезно, не слушая воркотни соседей-князей.
А они говорили:
– Только бы упаси владыко, бунта не было! Измаялись мы с народом. Дай ты господи, поскорее поразить ляхов, а там и ополчение распустим.
Кузьма, обходя войско, весело похлопывал воинов по голым плечам:
– Давно бы так! Изморились на жаре. Эк-кая сила! С такими воинами как не победить панов!
Он осматривал дюжих, крепко сложенных молодцов с радостью.
И ополченцы не оставались в долгу – весело откликались на его шутки; только Гаврилка с грустью сказал:
– Эх, Кузьма Минич, хорош день в вешний день, а всё – пень!
– Не тужи, парень, перемелется – мука будет.
– Когда она будет-то?
– Будет! Когда-нибудь да будет! Поверь мне, старику.
Гаврилка и его друзья: Олешка, Осип и Зиновий – накануне вдосталь хлебнули пива у Буянова на дому. Много говорили о будущем. Пели песни, грустные, деревенские. Хозяйка дома всплакнула. Всем стало тяжело. Казалось, что не вернутся уже никогда дни вольного приволья, пережитые в Ярославле и в походе вдоль Волги. Не быть такому почету, таким радостным встречам и веселью никогда, какие в эту весну выпали на долю ополченцев в Балахне, Юрьевце, Кинешме, Костроме и Ярославле!
Панов ратники не боялись: мечом освободишься от них! А вот как быть с боярами да дворянами? Как от них избавиться? Кузьма и тот не может ответить. Теряется, путается, а дельного ничего не говорит. Только одно:
– Очистим Москву, а там бог укажет. Он – мудрый… Унывать не след. Лишь бы земля осталась своей!
* * *
Набатный звон, гудки, свист, крики военачальников, пушкарей, устанавливающих телеги с нарядом, ржание коней.
Все население Ярославля всполошилось, высыпало за город. Ох, эти слезы, вздохи, молитвы! Лучше бы их не было!
А тут еще гудошники! Затянули песнь об уходящем ратнике:
Ах, не бор шумит, не река льется,
Обливается горючими слезами,
Возрыдаючи, молода жена,
Расставаяся с красным солнышком,
Провожаючи друга милова…
Голоса певцов плачут, надрываются над ярославскими равнинами:
…Уж оседланы кони добрые,
Уж отточены копья меткие.
Рать усердная лишь приказа ждет,
Чтоб пуститься ей в путь назначенный…
Двинулись. Сначала тихо, еле-еле, оглядываясь по сторонам, вздыхая. Затем побыстрее, потверже и наконец полным шагом.
Все глуше становился звон ярославских колоколов, все дальше и дальше оставались позади уютные ярославские домики с их гостеприимными хозяевами.
Ах, прости-прощай,
Уж ты, батюшко мой, Ярославль-город!
Ты хорошо, славно сам ты построен…
Дойдя до Сотемского стана, Пожарский передал начальство над войском Кузьме Минину и князю Хованскому. Сам с малою дружиною свернул с московской дороги в сторону, на Суздаль – поклониться напоследки могилам своих предков. Таков был древний обычай для больших воевод, уходивших в опасную войну.
Он обещал нагнать ополчение в Ростове.
Гаврилка видел, как Пожарский облобызал у всех на глазах Кузьму и как тот на коне, с достоинством, решительно занял первое место впереди бояр и князей, приблизив к себе знаменосцев.
Войско вошло в густой сосновый бор. Колеистая, ранее размытая дождями, теперь окаменевшая от засухи дорога. Грохот колес, топот конницы и пехоты заполняли проселок. Трудно было расслышать соседа. Накалившиеся на солнце, в полях, мечи и копья начали остывать в тени. Не так жгло тело. Янтарная испарина сосен издавала приятный, бодрящий запах.
* * *
Тридцатого июля ополчение вступило в древнейший озерный город Ростов.
Путь перед конем Кузьмы жители усыпали полевыми цветами, забрасывали платками и домоткаными дорожками.
Воевода со всем дворянством оказал Минину и Хованскому великокняжеские почести: дворяне били челом, клянясь в верности земскому ополчению.
Кузьма удивил всех «высокородною сановитостью», с которою он встречал приветствия важнейших особ ростовского воеводства. Словно с малых лет был он воеводою; только когда монахи запели псалом «помилуй мя, боже», Кузьма, сидя на коне впереди войска, не утерпел, – стал баском подтягивать монахам. В толпе дворян мелькнули насмешливые улыбки.
Приставам, которые с преувеличенным усердием принялись разгонять народ, как это было заведено при проездах высоких особ, Минин громко крикнул, чтобы они не мешали народу приветствовать ополчение. Гневный взгляд Минина смутил приставов. Никого не избив, они скрылись в толпе.
«И зачем только Пожарский дал ему такую волю? – удивлялись высокородные люди. – Не приведет то к добру!»
В Ростове Кузьма принял гонцов, прискакавших из Белоозерска. Они просили выслать на Белое озеро для большей безопасности еще отряд ратников.
Кузьма дождался приезда Пожарского. Обсудили вместе челобитие гонцов и решили послать на Белое озеро еще одного из воевод ополчения, Григория Образцова, с большим отрядом разноплеменных ратников и несколько пушкарей с нарядом.
Образцов, воевода старый, бывалый, хорошо знал северные окраины. Собрался быстро и повел войско знакомыми тропами к северу. Путь долгий, трудный, через леса, горы, реки и болота, но не пугал он ни воеводу, ни ратников. Правда, не хотелось уходить с полпути от Москвы, не померявшись силою с польскими панами, не легко было расставаться и с товарищами, но…
Зиновий, уходя с Образцовым, распрощался с Гаврилкой, Олешкой и Осипом.
– Прощайте, други! – сказал Гаврилка украинцам. Крепко обнял Зиновия. Вспомнилось, как они встретились на дороге к Москве, что пережили с тех пор. К горлу подступили слезы:
– Прощайте. Живы будем, увидимся.
Только что ушел Образцов, из Москвы прибыло полсотни донцов под началом атамана Кручины Волкова. Их послали в Ростов казаки из подмосковных таборов, наказав передать Пожарскому, что под Москвой многие казацкие атаманы примкнут к нижегородцам, едва лишь только они придут к Москве. Волков рассказал, что, когда в таборах стало известно о выступлении из Ярославля Пожарского, Заруцкий, покинутый многими казаками, в страхе бежал в Коломну с двумя тысячами преданных ему сорвиголов.
Донцы с возмущением вспоминали о том, как Заруцкий пытался войти в союз с гетманом Хоткевичем. Он хотел вместе с ним напасть на войско своего же союзника, князя Трубецкого.
Замысел Заруцкого открыл польский ротмистр Хмелевский, служивший в войске Трубецкого. Несколько поляков, также находившихся на службе в подмосковных войсках, по совету Хмелевского, взяли на себя посредничество между гетманом Хоткевичем и Заруцким и, когда убедились в изменнических умыслах Заруцкого, раскрыли заговор казацкому кругу.
Предатель сбежал вовремя, не то сидеть бы ему на колу.
Атаману Кручине Волкову донцами было наказано не только сообщить Пожарскому о предательстве и бегстве Заруцкого, но и разведать: не замышляет ли Пожарский чего-либо против казаков, и просить его поскорее прибыть в Москву, до прихода Хоткевича.
Пожарский и Минин, как и прежних казацких гонцов, обласкали Волкова, одарили деньгами и сукнами его и всех его спутников, уверив казачество в своих братских чувствах к нему.
Обрадованные хорошим приемом, донцы, веселые и довольные, ускакали в Москву.
* * *
Покинутая отцом и матерью, в Московском кремле одиноко жила Ирина в своем терему. Время проводила или в молитве, или около ребенка. Единственным человеком около нее осталась старая мамка Акулина Денисовна. Пекарский несколько раз заходил к Салтыковой с гайдуком, который приносил ей продовольствие. Взглянет на ребенка, улыбнется и, быстро повернувшись, уходит обратно.
Отец, уезжая, говорил ей: «Тебя куда такую повезу-то? Да и то сказать – стерпится, слюбится». Он надеялся, что Пекарский ради ребенка «одумается», что сам он, Салтыков, скоро снова вернется с войском Сигизмунда в Москву. Король добрый, он воздействует на пана Пекарского, заставит его жениться на Ирине. Со слезами благословил Михаил Глебович свою дочь, крепко обнял ее на прощанье и уехал в Польшу.
Прошло около двух месяцев после того, но об отце ни слуху ни духу. В Кремле положение все ухудшалось. Рязанское ополчение Ляпунова своею осадою обессилило польский гарнизон, довело его до голода. Не многим улучшил положение и явившийся на помощь полякам воевода Николай Струсь.
Кремлевские приживальщики, изредка посещавшие Ирину, говорили, что король недоволен Струсем и что посланное к Москве с гетманом Хоткевичем войско должно освободить Кремль от осады, а гетман будет новым московским воеводой.
Однажды Ирину навестила инокиня Марфа с сыном Михаилом Романовым. Поплакала, повздыхала и ушла. Михаил был беспечен.
Дни в Московском кремле тянулись серые, однообразные. Осада сделала людей замкнутыми себялюбцами; постоянная настороженность и голод притупили сознание. Польская солдатчина потеряла всякое понятие о дисциплине. Кто сильнее – тот и главенствовал. Ночью было опасно ходить по улицам: убивали, насиловали, грабили. Все дома на запоре. В церквах богослужение прекратилось. На стенах, на башнях, на колокольне Ивана Великого день и ночь караульные рейтары смотрели, не идет ли помощь от короля.
С наступлением сумерек огни в Кремле гасли. В мрачной тишине все замирало, только часовые у девяти кремлевских ворот, перекликаясь с патрулями, нарушали тишину. Ведь даже собак всех давно уже поели в Кремле. С каждым днем петля все туже и туже стягивалась.
В один из таких вечеров к дому Салтыкова подошел человек. Он осторожно поднялся по каменной лестнице, постучался. Отворила дверь Акулина Денисовна. Отворила и, подняв фонарь, в ужасе попятилась назад. Ей показалось, что перед ней нечистая сила. Лицо вошедшего было белое, как полотно: одежда – пестрая, в лоскутах, на босых ногах лапти.
– Чего испугалась? Не пан я и не вор, а православный человек, такой же, как и ты, – сказал он.
– Господи Иисусе! – прошептала Акулина, приходя в себя.
– Скажи боярышне – Халдей вернулся.
Акулина скрылась за дверью.
Вскоре из соседней горницы вышла в белой шелковой рубахе худая, испуганная Ирина. Ее трудно было узнать. Большие впалые глаза остановились в недоумении.
– Кто ты? – тихо спросила она. – Мне известно, что Халдей давно убит… на Пожар-площади, в дни бунта…
– Боярышня! Ужели не узнаешь?
Подойдя ближе, Ирина осветила фонарем лицо Халдея. Она зашаталась, вскрикнув со слезами в голосе:
– Он! Халдей!..
Акулина подхватила Ирину, чтобы та не упала…
– Матушка, Христос с тобой!.. Что ты! Что ты!
– Ослабла я! Прости, Халдей! Голод у нас, да ребенок замучил. Не спит по ночам… Я ведь одна, да вот мамка Акулина… Идем ко мне в горницу. Как ты пробрался в Кремль? Как тебя пустили?
Халдей ответил не сразу. Подозрительно покосился в сторону Акулины.
– Ушел и из нижегородского ополчения… Обманули меня нижегородцы. Поверил я тамошнему вору, Кузьме Минину, чтоб ему!..
Ирина посмотрела на Халдея недоверчиво:
– Ну, а разве у нас лучше? Здесь и вовсе ты умрешь с голоду… Да и непохоже на тебя, чтобы ты мог быть переметной сумой. Не обманываешь ли ты меня?
– Не думал я тебя обманывать! Да и не знал я, как здесь живут. Господь батюшка авось защитит нас, обездоленных, не даст погибнуть нам с тобою. Позволь мне, красавица-боярышня, ночевать в твоем доме! Я буду, как пес, сторожить твой покой! До смерти буду защищать тебя от всякого лиха.
Донесся детский плач.
– Оставайся! Бог с тобой! – скороговоркой ответила Ирина и побежала в соседнюю горницу, где плакал ребенок.
Халдей умылся, привел себя в порядок. Акулина Денисовна дала ему на ноги вместо лаптей сапоги. Усевшись около нее, он рассказал, что из Ярославля выступило нижегородское ополчение и что войска в нем видимо-невидимо и пушек несчетное число, а ведет ополченцев злой-презлой князь, который поклялся ни одного человека живым не оставить в Кремле, если ему чинить помеху станут.
Акулина ахала, крестилась, причитывая:
– Ай, батюшка! Ай, милостивец!
– Самое лучшее, коли поляки да бояре добром сдадутся, не то он не пожалеет и кремлевских святынь, всё пушками разобьет.
Наутро Акулина поведала о грозном нижегородском ополчении соседке, та передала другой – и пошли слова Халдея гулять по всем домам и домишкам в Кремле, наводя панику на всех. Польское командование сделало попытку найти того, кто пустил этот слух, но отыскать виновника так и не удалось.
Халдей редко выходил на улицу. Большею частью он следил из окна за тем, что делается в Кремле, да слушал новости, приносимые в дом Акулиной Денисовной.
Выходя на улицу, он одевался в свой шутовской наряд, мазал лицо и своими скоморошьими шутками старался развеселить рейтаров. Над ним насмехались, издевались – и за это разрешали ему бывать всюду беспрепятственно. Попросту его не считали за человека.
А в темные ночи при свете ночника он ходил из угла в угол с ребенком на руках, плотно завернутым в мягкие пуховые ширинки. С любовью заглядывался он на маленькое, с широко открытыми глазенками личико ребенка, крепко прижимал к груди крохотное тельце, прислушивался к биению его сердца.
Халдею жаль было Ирину, которой мешал спать ребенок. Он сторожко прислушивался к детскому плачу, брал ребенка из люльки на руки и укачивал его, стараясь дать Ирине покой.
И она была благодарна Халдею за его помощь. Акулина Денисовна от старости и бессилия была плохой ей помощницей. Халдей внес в дом большое облегчение. Кроме того, он раздобывал и хлеба. Присутствие его несколько ободрило Ирину.
– Вернется отец, он отблагодарит тебя за твою доброту ко мне, – говорила она.
– Не надо мне ничего… Лишь бы ты была здорова да ребенок твой… – задумчиво вздыхал он.
Так потекли дни у Халдея в Московском кремле.
* * *
Четырнадцатого августа нижегородцы вошли в Троице-Сергиеву лавру.
Здесь их дожидались новые гонцы из подмосковных таборов. И они обратились к Пожарскому с просьбой о скорейшем приводе ополчения в Москву. Не сегодня-завтра Хоткевич должен появиться под ее стенами.
Пожарский ободрил гонцов, но всего войска опять-таки не двинул к столице; пока послал только отряд с князем Турениным во главе, приказав ему раскинуть лагерь у Пречистенских (Чертольских) ворот.
Однажды рано утром на заре в монастырь прибыли облаченные в дорогие доспехи с заморскими перьями на шишаках иноземцы: Андриан Фрейгер, Артур Эстон, Яков Гиль и другие. Они предложили принять на службу в ополчение собранный ими за границей полк, что, по их словам, принесло бы большую пользу Пожарскому. Они хвалились какими-то особенными смертоносными орудиями, такими, каких ни у кого нет.
В толпе иноземцев Пожарский с удивлением увидел хорошо ему известного француза Якова Маржерета, некогда грабившего вместе с панами мирные села и деревни.
Пожарский и Минин во время переговоров наружно себя держали так, будто они не имеют никаких поводов быть недовольными иностранцами. Приняли заморских рыцарей пышно, со всякими знаками внимания. Но тут же за чаркою вина старались вызнать истинные намерения нежданных гостей.
Выяснилось: у иноземцев были разработаны широкие планы «спасения Москвы». Они предполагали перевозку в Московию большого количества наемных солдат на нескольких английских и нидерландских кораблях. Было намечено и место высадки этих войск: Архангельск.
Кузьма с веселым лицом выслушал все это из уст иноземцев.
Он показал себя гостеприимнейшим хозяином, доверчивым, простым человеком. Не поскупился и на дорогие вина из троице-сергиевских погребов. Архимандрит Дионисий, хотя и поворчал, но все же отпустил.
Под хмельком иноземцы в свою очередь не пожалели красок, чтобы расхвалить богатство и обилие Московского государства.
Их глаза блестели завистью, а слова были витиеватые, путаные. Гости проявили большое знание того, «где и что плохо лежит» в России.
Кузьма, притворившись опьяневшим, тайком ловил каждое слово их откровенных речей, лез целоваться с ними, а когда пиршество кончилось и он остался наедине с Пожарским, сказал ему деловито:
– Пошли, князь, и в Архангельск кого понадежнее. Чует мое сердце: недоброе замышляют. Губу разъело им наше богатство, дьяволам. Архангельск! Ах, сукины дети! В Архангельск захотели!.. Медлить нельзя. Скорее, скорее туда надобно отсылать войско!.. Знаем мы аглицких и других заморских благодетелей! Прожорливы и коварны…
Минин стал ругать самого себя, что он до сих пор мало думал об Архангельске.
– Самая макушка ведь наша!.. Как же это так мы с тобой, Митрий Михалыч, не подумали раньше?
На другой же день Пожарский послал несколько сотен ратников в далекий Архангельск с приказом бить из пушек всякое иноземное, не торговое, судно; поднять весь архангельский народ на защиту города, если будет угрожать опасность.
А иноземным гостям в этот же день был поднесен обширный ответ, в котором, между прочим, говорилось:
«…Мы, бояре, и воеводы, и чашники, и стольники, дворяне большие, и стряпчие, и дворяне из городов, и приказные люди, и дети боярские, и стрельцы, и казаки, и всяких чинов служилые люди, и гости, и торговые и всякие посадские и жилецкие люди, также разных государств цари и царевичи, которые служили прежним государям в Российском государстве, и царства Казанского и Астраханского и иных понизовных городов князи и мурзы, и татарове, и черемисы, и чуваши, и литва, и немцы, которые служат в Московском государстве за разум, и за правду, и за дородство, и за храбрость к ратным и земским делам стольника и воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского-Стародубского; да и те люди, которые были в воровстве с польскими и литовскими людьми и стояли на Московское государство, – видя польских и литовских людей неправду, – от польских и литовских людей отстали и стали с нами единомышленно против польских и литовских людей: и бои у нас с ними были многие, и многих польских и литовских людей мы побивали, городы от них очищаем к Московскому государству».
А в конце грамоты Пожарский писал:
«…А только будет за грех наш, по каким случаям польские и литовские люди учнут становиться сильнее, и мы тогда пошлем к вам о ратных людях на наем своих людей, наказав им подлинно: сколько им людей нанимать, и договор велим учинить, почему и каким ратным людям на месяц или на четверть года найма дать. А ныне нам наемные люди не надобет, и договора о них чинить нечего. А о том бы вам к нам любовь свою объявите, о Якове Маржерете к нам отписати: каким обычаем Яков Маржерет из польской земли у вас объявился, и в каких он мерах ныне у вас, в какой чести? А мы чаяли, что его, за неправду, как он, не памятуя государей наших жалованья, Московскому государству зло многое чинил и кровь христианскую проливал, – ни в которой земле ему, опричь Польши, места не будет!»
С разочарованием на лицах приняли эту грамоту из рук Кузьмы иноземные щеголи, поверившие было, что ополченские воеводы и впрямь с необыкновенной радостью встретили их предложение о помощи.
– Знайте! В заморских хартиях никогда не писали правды о нас, – с презрительной усмешкой сказал им Кузьма на прощанье. – Да и нужды мы в ваших похвалах не имеем.
Смущенные, растерянные такою внезапною к ним переменою, заморские гости торопливо умчались из лавры…
Явились из Москвы и Мосеев с Пахомовым: они сказали Пожарскому и Минину, что под Москвою, действительно, с нетерпением ждут Пожарского, что, действительно, настало время ополчению идти к Москве. Больше нельзя откладывать, и так уже кое-где замечается рознь между казаками и земским ополчением.
Минин справился о Константине, ушедшем из лавры в Москву.
Мосеев сказал, что он пробрался в Кремль и пока еще не возвращался обратно.
* * *
Накануне выхода ополчения нижегородские хлебопеки всю ночь состязались с монастырскими хлебопеками: кто больше напечет хлеба. Кузьма то и дело приходил на пекарню подбадривать нижегородцев. Он волновался, следя за ловкостью монастырских хлебопеков. У них шла работа куда спорее, чем у нижегородцев, да и хлеб был вкуснее. Нижегородцы, стараясь угодить Минину, из сил выбивались, чтобы не отстать от монахов.
Утром в день выступления из лавры Кузьма, глядя на горы хлебных караваев, сказал своим землякам, покачав головою с укоризной:
– Не стыдно ли! Вернемся в Нижний, расскажете, как вас побороли сергиевские монахи.