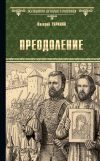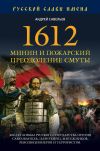Текст книги "Кузьма Минин"

Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
IV
Третьего июня 1611 года пал Смоленск.
По всем государствам пронеслась громкая весть «о победе польского короля Сигизмунда над Московией». В Варшаве и Кракове на площадях гремели литавры и барабаны. В шляхетских замках провозглашались тосты за короля, за раду, за коронного гетмана Потоцкого, за канцлера Льва Сапегу, за шляхту и за всех «доблестных польских воевод». Вотчинники Речи Посполитой торжествовали: теперь легче будет расправиться с беспокойными, то и дело бунтовавшими крестьянами. Польскому народу война с Москвой не нужна была. Народ понимал, что своими военными успехами шляхта еще более усилится и возгордится. От этого польским крестьянам еще хуже станет.
Римский папа прослезился при известии о падении Смоленска; объявил безвозмездное отпущение грехов богомольцам в церкви Святого Станислава, «покровителя Польши». В Риме на площади, у подножия Капитолийского холма, иезуиты зажгли перед своим домом небывалых размеров фейерверк: белый орел Польши превращает одним своим прикосновением в пепел черного орла Московии.
В то время когда король и папа ликовали по случаю победы польского оружия, а пан Жолкевский, сидя у себя в киевском замке, предавался размышлениям о «мирном завоевании» россиян, положение польского гарнизона в Москве все ухудшалось. Ляпуновское ополчение наседало на него со всех сторон.
Польский поручик Самуил Маскевич, вступивший в польскую армию в погоне за военными лаврами, ночью после уличных боев у себя в казарме дрожащею рукою писал: «Очень уж страшен и силен становится наш неприятель. Мы должны держать бдительную стражу на стенах, а вылазки совершать больше пешком, нежели верхом. Но хуже всего, что у нас людей становится все меньше, а у Москвы все больше».
Посланцы нижегородского старосты Кузьмы Минина, «глаза и уши нижегородцев» – Мосеев и Пахомов – усердно выполняли данный им наказ. Они не только разведывали, что творится в ляпуновском лагере, но и сами сражались с поляками.
* * *
В эту ночь сильно парило. Небо заволокло тучами. Было темнее обыкновенного. В таборах бесшумно готовились к штурму. Ляпунов решил во что бы то ни стало взять Белый город. Без устали объезжая лагерь, он ободрял ратников. Горе тому, кто осмеливался нарушить тишину. Пахомов видел, как Ляпунов в темноте отстегал нагайкой двух пьяных казаков. Трезвые товарищи их стали перешептываться, а когда он отъехал, ему вслед понеслись угрозы.
Ночью начался штурм.
В глубоком безмолвии, пригнувшись к земле, с лестницами и самопалами в руках, ополченцы пошли к Белому городу.
Находившийся в карауле поручик Маскевич вскоре заметил в крепости какие-то фигуры, сновавшие около шатров.
– По-моему, это собаки, – сказал он одному из караульных, вглядываясь в темноту.
– Не знаю… – нерешительно ответил тот. – Чудится мне, что люди…
Караульный подкрался к шатрам поближе и вдруг в испуге побежал обратно:
– Москва!.. Москва!.. – закричал он, увидев ляпуновских воинов.
Поручик поднял тревогу. Его конники бросились на ополченцев. Те отступили.
Вместе со всеми спустились со стены и оба нижегородца. Под градом пуль они побежали прочь.
Эта неудача не смутила Ляпунова. Он перенес бой в другое место.
Строго-настрого приказал он своим ратникам взять угловую башню Китай-города, господствовавшую над Москвой-рекой и Замоскворечьем. Она причиняла большой вред ляпуновскому лагерю. Необходимо было ею овладеть.
Казаки, подстрекаемые атаманом Заруцким, отказались идти вместе с ополченцами на приступ. Ляпунов повел в бой боярских детей и земских ратников. Мосеев и Пахомов одни из первых ворвались в укрепление. Башня была взята. Но подкравшиеся меж зубцов по стене поляки храбро бросились на ополченцев, стали выбивать их из башни.
Пахомов, по приказу Ляпунова, поскакал в казачий табор Заруцкого просить помощи. Казаки только посмеялись над ним. Когда он вернулся, то увидел бегущих однополчан. Многие из них были окровавленные, изувеченные.
Ляпунов, с которого саблей сбили шлем, взъерошенный, бледный, но прямой и мужественный, тотчас же повел на штурм своих земляков-рязанцев, а к ним присоединились многие из казаков.
Ополченцы бросились к другой башне, тоже находившейся на изгибе стены над Москвой-рекой. Поляки отбивались отчаянно.
Но вот Пахомов приметил, что из нижнего башенного окна вылез человек. Скоро и все осаждавшие увидели его. Он оказался литвином-барабанщиком. Называя по-русски ополченцев «братьями», он рассказал, что в нижней части башни – склад гранат.
Ляпунов созвал самых метких стрелков лучного боя. Вызвались татарские наездники. Нужно было попасть в башенное окошко зажженными стрелами.
Присели татарские стрелки на одно колено, сдвинули свои малахаи на затылок, натянули тетивы и – как раз в черное окошечко!
Земля дрогнула от страшного взрыва. Начался пожар. Полякам пришлось спускаться на веревках со стен вниз. Но никому из них, кроме одного поручика, не удалось уцелеть: кто сгорел внутри башни, кто, спустившись на землю, погиб в схватке с ополченцами.
Ляпунов легко овладел всей стеной. Эта победа расшевелила и других воевод ополчения: князя Трубецкого и Заруцкого. Общими силами они укрепили каждые ворота, каждую башню в Белой стене и, расширяя свой стан, овладели Девичьим монастырем. С юго-запада над Москвой-рекой поставили два городка (укрепления) и вырыли глубокий ров около стен Кремля и Китай-города.
С этого дня пан Гонсевский оказался со всех сторон окруженным крепким кольцом ляпуновских укреплений.
Пахомов и Мосеев на радостях собирались уже уйти из-под Москвы в Нижний. Дух ополченцев сильно поднялся. Воеводы, управлявшие ополчением и всей землей, князь Трубецкой, Прокопий Ляпунов и Иван Заруцкий, как будто бы снова соединились в крепкую дружную троицу.
Но не прошло и недели, как в подмосковном лагере начались междоусобия.
Гордый и самовластный Ляпунов издал строжайший приказ против воров и буянов, во имя «бережения чести и спокойствия ополчения». Провинились, как и следовало ожидать, казаки, плохо обеспеченные кормом, фуражом и одеждой. Вотчинники, идя в поход со своими людьми, снабжали их всем. О казаках же никто не заботился. Положение их стало бесвыходным. Однажды воевода Плещеев схватил двадцать восемь человек донцов, ограбивших какую-то деревню, выпорол их и затем утопил в реке. Казаки выловили трупы убитых, принесли их в лагерь и, собрав воинов, стали взывать о мщении.
Они обвиняли Ляпунова в нарушении приговора «всей земли», где было сказано, «чтобы смертною казнью без земского и всей земли приговора боярам никого не казнити…».
Пахомов и Мосеев плакали, глядя на утопленников. Они не прочь были присоединиться к бунтующим казакам.
Ляпунов, выйдя к донцам, обвинил их в непостоянстве, в «шатости», упрекал в том, что, бунтуя, нарушают они свою присягу и тем помогают врагу.
Казаки припомнили Ляпунову, как он изменил Болотникову, предав простой народ, выдав славного атамана царю. «А теперь и нас предаешь! Дворян своих спасаешь… Держишь их руку… Предаешь простой народ!»
Бояре шипели:
– Из думных бояр да в цари полез. Экий честолюбец и гордец!.. Носом не вышел.
Беглые холопы и крестьяне тоже были не на стороне Ляпунова:
– С вотчин сманил, обещал волю дать и хлеб, а в приговоре о том не помянул, будто бы мы и не люди!.. Будто бы нас и на свете нет… токмо в боярах да дворянах вся слава! Доступа нам к тебе, Прокопий, нет! Запутался сам, и нас путаешь!
Прокопий оставался глух и холоден к этим упрекам.
Простым людям доступа к нему действительно не было. Даже дворяне и служилые люди подолгу простаивали у его шатра, ожидая приема. Нарастал не только казачий, но и боярский гнев против Ляпунова.
Пахомов и Мосеев, видя все это, решили не торопиться с уходом в Нижний.
* * *
В этот вечер у Михайлы Салтыкова в кремлевской хоромине было сказано негромко:
– Ляпунов должен умереть.
Хозяин дома развалился в широком бархатном кресле.
На столе стоял глиняный кувшин с брагой, к которому то и дело тянулась жилистая, волосатая, с отрубленным пальцем рука гостя Салтыкова – казачьего атамана Сергея Карамышева. Ночью с помощью поляков он пробрался в Кремль.
Жесткие рыжие усы, как у кота; на бритой голове, словно огненный, чуб; лицо серое, с коричневыми пятнами от ожогов.
Карамышев, соглашаясь с Салтыковым, глухо сказал:
– Истинно: умереть! Опозорил, изобидел он моих казаков.
В соседней комнате Ирина подслушивала разговор отца с казачьим атаманом.
Какие еще злодеяния и кому готовит ее отец? Она озлобилась на отца. Он совсем забросил ее.
«Ах, Халдей, Халдей, где ты?»
Она видела в дверную щель отцовское лицо, надутое, обросшее курчавой бородой. И теперь ей казались чужими эти серые, нарочито приветливые глаза, этот покатый морщинистый лоб, вьющиеся, черные с проседью волосы, этот острый птичий нос, оттопыренные толстые губы. Неприятно раздражал льстиво заискивающий голос: если закрыть глаза, можно подумать, что это не ее отец, а два разных человека – один старается обмануть другого.
Первый говорит:
– Все мы христиане, православные люди, все мы должны думать токмо о спасении души своей и о совести.
Второй:
– Могут ли казаки перенести столь великие обиды?
Не настал ли час расплаты? Подумай, атамане, что же вас ожидает дальше? Коли не убьете коварного Прокопия, погибнете сами!.. Может ли казак жить без добычи?!
Первый:
– Грешно губить православную душу! И без того немало пролито невинной крови… Премилостивый господь бог наш человеколюбия ради своего пощадил нас, нам бы грешно подымать руку на брата своего…
Второй:
– Однако не злобою ли и ухищрением будут попраны злоба и ухищрение?! А?! Како мыслишь?
Сергей Карамышев ответил вопросом:
– Як же так, Михайла Глебович?.. Его любят. Многий народ за него?
– Вот то-то и есть! Растет его слава, и оттого худо нам. Дворянский и земский он радетель. Ищет опоры у средних дворян, у стрельцов да у боярских холопьев, а их на Руси немало. Не станет его, бояре все вам до земли поклонятся… Да и вас ворами не будут величать. Человек он непонятный, скрытный…
Атаман вздохнул:
– Сколько у моря песку, то у нас грехов…
– Выберете себе другого воеводу… хоша бы Заруцкого.
– Абы люде, поп буде!
– Идем к пану воеводе Гонсевскому… Напишем письмо, якобы от него, от Прокопия… Будто бы он разослал такие письма по всем крепостям… В каких местах-де ни встретится донской казак, убивать его тут же и топить!
– Кто? – не понял Карамышев.
– Ляпунов будто так писал… А напишем мы сами!
– Кто же те брехать буде?..
– Идем. У Гонсевского есть такие наши люди… Руку Прокопия не отличишь от их руки.
Салтыков погладил казака по спине.
– Идем. Ишь какой богатырь! Страсть одна! Ну, хлебни еще на дорогу.
Да! Это он, ее отец! Все повадки его. Много вина изводит он, сбивая людей. И всех похваливает, кого за ум, кого за доброту, кого за силу. Если он захочет, то убьет и Ляпунова, но, конечно, не своими руками. Он останется в стороне и будет чист. Скажет, что ничего не знает, что он ни при чем. Будет осуждать убийство, ведь он считает великим грехом пролитие крови православного человека. Много молится.
– Будь проклят! – шепчут побелевшие губы Ирины.
И Пекарский заодно с отцом… этот сатана!
«Ах, Халдей! Не поняла я тебя тогда! Прости меня!»
Ирине захотелось предупредить Прокопия Ляпунова. Но где он, кто он, как его предупредить?! Ничего этого не знала она, пленница своего отца… опозоренная, всеми забытая «блудница»! Так ее в минуты гнева называл отец… «блудница»!
Ирина стала на колени перед иконами.
* * *
Полночное небо озарялось яркими молниями. Грома не было. Дождя тоже.
По шатрам в страхе гадали: чему предзнаменованием сухая молния?
В боярском шатре набившиеся туда именитые воеводы: нижегородский князь Репнин, костромской князь Федор Волконский, романовский князь Пронский и другие – предрекали всеконечную гибель Московскому государству. Сухая молния – не к добру. Смута оттеснила от власти высокородных бояр, это не пройдет даром. А во всем виноват покойный царь Грозный. (При упоминании о нем никто не перекрестился, как того требовал обычай.) Принизил он боярство, дал повод простому, худородному люду лезть на верха. Молодец Курбский, что убежал в Литву! Дело прошлое, но… кто же из бояр теперь скажет доброе слово о царе Грозном?
«Всех удельных мужиков: и ярославских, и тверских, и всех других – в одну орду свел, а мне теперь расплачиваться», – ворчали князья.
Нижегородский воевода поведал о том, как «зело извольничались» его нижегородцы, все эти посадские старосты, ремесленники и крестьяне. Возымели голос! Просил денег – отказали. Биркин пишет, будто верховодит ими некий мужик, посадский говядарь Кузьма.
– Не хлебнули они того горя, что иные города, – обиженно жаловался он. – Гордыню их бог не подверг испытанию. Всех зорили, а их нет. Не вернусь я больше в Нижний. Уеду к себе в вотчину.
В голосе князя Репнина слышалась обида. Казалось, он жалеет о том, что Нижний Новеград остался неразоренным и не сожженным поляками и ворами, как то было с другими городами.
Костромской воевода Шереметев свирепо стукнул кулаком по столу. И у него посадский народ начал своевольничать. Грамотами какими-то, помимо воеводы, с другими посадами перекидываются. Бояр и дворян «опасаются токмо наружно», а в душе ни в грош их не ставят. Эх, когда только руки доберутся до них! Поскорее бы вернуться в Кострому!
– Помог бы я тогда и тебе, князь, с твоим Кузьмой расправиться.
Ахали, вздыхали присутствующие. Князь Репнин сообщил потихоньку, что даже тут, в московском стане, есть нижегородские соглядатаи.
Вспыхнула яркая молния, загремел неслыханной силы гром.
Бояре в страхе перекрестились.
Из угла выполз шепот: «Неужели и за нами следят?!»
Всем стало страшно. О, эти невидимые глаза непонятного, загадочного, как казалось боярам, чудовища, которое зовется «подлым людом», глаза замуравленных в избах и землянках крепостных крестьян, глаза посадских тяглых людей, глаза мелкого служилого люда и ремесленников!
Что-то будет?
И вдруг в шатер вместе с пыльным вихрем ворвался какой-то монах, закричал, задыхаясь: «Ляпунова убивают!» Князья схватились за сабли. Монах продолжал: «В измене обвинен! Грамоту рассылал… С панами заодно!» И скрылся.
Бояре выскочили из шатров. Где-то поблизости дико галдела толпа.
* * *
Свершилось.
Мосеев и Пахомов собственными глазами видели прикрытые рогожами куски тела Ляпунова, изрубленного казаками.
В лагере утром после грозовой ночи наступило сумрачное безмолвие. Ополченцы попрятались в шатры.
Первый поднявший саблю на Ляпунова атаман Сергей Карамышев, сидя на скамье в казацком шатре, плакал. Его поили вином, чтобы «утихло сердце», но ничего не помогало.
Мосеев, обходя таборы и подслушивая, заглянул в эту палатку. Многих тянуло посмотреть на «убивцу-атамана».
Но рта людям не завяжешь: истинным виновником убийства людская молва называла второго воеводу, Ивана Мартыныча Заруцкого.
Мосеев видел этого кривоногого, головастого, с огромными не по росту черными усами человека. Слышал его грубый, сиплый голос. Удивлялся его нарядным (немецкого мастерства) доспехам и его беспечному виду.
Один старик-гудошник, уведя Мосеева в монастырский сад, рассказал:
– В те поры, когда Заруцкий был ребенком, татары захватили его в плен. В Орде он вырос, стал лихим наездником и ускакал к донцам, к казакам. Был самозванец – он имел большой доступ к нему. Ежели нужно было кого взять, убить или утопить, исполнял всё он с великим старанием… После того передался он поляцкому королю… Потом откололся и от поляков… Ныне прилепился к Прокопию, объявил себя его товарищем, – и вот…
Старик остановился. В глазах у него выступили слезы.
– Невинно человек пострадал… А князь Трубецкой слаб, поддается Ивашке Заруцкому. Гляди, ныне властителем будет он, Ивашка… Горе нам! Маринкиного сына[40]40
Маринкин сын – сын Лжедимитрия II и Марины Мнишек.
[Закрыть] провозгласит царем…
Когда гудошник и нижегородец вышли из пустынного монастырского сада, они увидели около воеводского шатра на коне Заруцкого, окруженного атаманами и дьяками. Лицо у него веселое, красное, лоснящееся. Вместо шлема – нарядная шапка из бобра с зеленым донышком, касавшимся золоченой кистью щеки. В ушах большие серпообразные серьги.
Он громко смеялся, разговаривая с атаманами.
Заруцкий не заботился о том, чтобы скрыть свою радость по случаю смерти Ляпунова.
А на следующий день по лагерю разнеслась новость. Заруцкий на казацком кругу объявил: царем должен быть сын Марины Мнишек – Иван Пятый. Ему и нужно целовать крест.
Но ведь не было тайной, что Маринка давно уже супруга Заруцкого. А значит, и короны он добивался для себя, а не для ее сына.
Другой правитель ополчения – князь Дмитрий Трубецкой – со своими приверженцами не желал и слушать о «маринкином сыне». Он думал: «Не пригласить ли на престол шведского королевича Карла-Филиппа?»
Но вот из Пскова пришли казаки с грамотой. А в ней говорилось, что Димитрий Второй, тушинский, не убит. Он жив, взял своею силою Псков и скоро придет в Москву.
Бояре пробовали разуверить казаков, доказывая, что во Пскове не царь, а новый вор, новый самозванец. Они называли его бродягой Сидоркой, но казаки пригрозили пиками…
Пришлось молчать.
Пахомову и Мосееву стало ясно: начавшийся в подмосковном лагере разлад ополчению добра не принесет. Дух польского гарнизона, наоборот, поднялся.
Кремлевские бояре, воспользовавшись смертью Ляпунова, решили послать к королю Сигизмунду новое посольство.
На этом настояли Гонсевский и Михайла Салтыков.
В грамоте бояр к королю говорилось: «Беспрестанно ездя по городам из подмосковных таборов, казаки грабят, разбивают и невинную кровь христианскую проливают, боярынь и простых женщин и девиц насилуют, церкви божии разоряют, святые иконы обдирают, ругаются над ними так, что и писать страшно».
Грамота кончалась призывом на престол королевича Владислава.
Во главе посольства к королю отправились по указанию Гонсевского Михайла Салтыков и думный дьяк Василий Янов.
Все вышло так, как того желали паны и преданные королю бояре.
V
С бревенчатой колокольни Ильи-пророка озабоченно смотрели вдаль на арзамасскую дорогу Минин и звонарь Аким. Вокруг толпы, шедшей в беспорядке к городским воротам, клубилась пыль.
– Ой, как много! Где нам приютить их?!
– Соляные амбары возьмем. Просторно там и тепло. Бей в колокол! Встретим с почетом! Коли обласкаем первых, придут и вторые, и третьи…
Минин спустился по скрипучей лестнице вниз. Аким поплевал в ладони, навертел на руки веревки и, пригнувшись, сразу ударил в четыре колокола!
В сермягах, лаптях, кто в бараньих шапках, кто с открытой головой, а кто и в шлеме, пыльные, бородатые, с секирами, копьями и вилами, еле-еле волоча ноги от усталости, шли арзамасские мужики.
По указу «троеначальников» бежавшим из-под Смоленска дворянам отвели в Арзамасском воеводстве угодья, а местные крестьяне и холопы пошли против. Указу подмосковных воевод не подчинились. После вооруженной схватки с дворянами многие из них ушли в Нижний.
Тут же были и воротынские мужики, и несколько десятков смоленских крепостных. Обласканные некогда Мининым воротынские крестьяне и указали путь в Нижний, в Земскую избу, к Кузьме Минину. Об этом от верных людей узнал Минин. Алябьев не мешал Земской избе. Своих нижегородских дворян он и то не мог защитить от бунтующих крестьян, а уж что там говорить об арзамасских… Сами же арзамасские дворяне смотрят на смоленских дворян, как на чужих. Никому в Нижнем не пришлось по душе хозяйничанье подмосковных воевод. Подумаешь, какие цари! Кто их выбирал? И очень хорошо, что арзамасские мужики поколотили непрошеных гостей, смоленских дворян! И то, что смоленские крепостные откололись от своих господ и ушли вместе с арзамасскими мятежниками в Нижний, тоже хорошо! Так и надо!
Вот они! Минин с любовью вглядывается в суровые загорелые лица.
Не так уж теперь страшен воевода! На свою силу воеводе уже не приходится надеяться. Остается ему одно: положиться на волю божию. Против мужицкой силы один не пойдешь, а на городовых стрельцов тоже надежда слаба. Алябьев сам выбился из низов. Знает, как стать народу поперек!
Вот уж не только Илья Пророк, но и Казанская, и Предтеченская, и другие окрестные церкви забили в колокола.
Рослый парень нес подобие знамени. Шел он важно, без шапки, с гордостью посматривая по сторонам. Настоящий боец! Кузьма поравнялся с ним, спросил, чей он.
– Смоленский… Бежал из крепости, а звать Гаврилкой, – не поворачивая головы, скороговоркой ответил парень.
– Стрелять умеешь?
– Могу. Из пушки, пищали и из лука.
– Добро пожаловать! – обрадовался Минин. – Таких нам и надо.
Похвала не смутила парня. Его лицо оставалось деловито-серьезным.
Посадские, заслышав колокола, опрометью выбежали из своих домишек. Не пожар ли? Тут были и степенные лутчие (купцы), усердно крестившиеся, не считавшие достойным для себя без особой надобности отходить более чем на три шага от ворот. Тут были босоногие бабы и девки в одних сарафанах на голом теле, беспричинно смеявшиеся, и мальчишки, с особым азартом под колокольный звон гонявшиеся за гусями и курами по пыльной дороге… Кто мог, все вышли на улицу, с любопытством и робостью рассматривая великое скопище вооруженных мужиков, впереди которых шел сам староста Кузьма Минин. Всех охватило радостное возбуждение в ожидании чего-то важного, большого, близкого и нужного народу.
* * *
Весь следующий день Ока оглашалась стуком топоров и молотков. В пустых соляных сараях на берегу шла работа. Дружно разносились песни арзамасских беглецов.
Собирался король на святую Русь
Со всеми панами, со всеми пановичами,
Со любезным своим шурином с Вороновичем,
Поутру спать ложился,
К полуночи пробудился.
Кровушкой умылся…
Кузьма бегал из одного барака в другой, воодушевляя плотников, готовивших нары. С острова напротив соляных рядов в завознях переправлялось сено. Кузнец Яичное Ухо с товарищами набивал тюфяки. Да и не один это кузнец, – многие посадские помогали пришельцам устраивать их жилище. По Ямскому взвозу непрерывно спускались телеги на берег Оки с мешками хлеба, пожертвованного именитыми нижегородскими хлеботорговцами. Кузьму начали слушать. Он напугал: народ, мол, голодный, обозленный, не ровен час, взбунтуется, тогда хуже будет! Лучше сами по доброй воле давайте! Нижегородские лутчие тем только и спасались в эти тревожные годы, что умели вовремя раскошеливаться. Так и тут. Бездомовные люди потянулись в Нижний. Шли и с низов, и с верхов, и поодиночке, и партиями. Пока в Нижнем хлеба хватает. Запасено изрядно. Чего же ради скупиться?! «Демон с ними, пускай едят!»
Помолившись о своем здоровье, ходили купцы в сараи к мужикам, давали свои советы, вели душеспасительные беседы с пришельцами, имея тайную мысль смягчить их.
Кузьме удалось добиться снисхождения к беглым и у воеводы.
С давних пор Алябьев жаловался земскому сходу на то, что за оврагом у Печер, близ Шебинихинского куста, развалился острог[41]41
Острог – ограда из бревен, частокол.
[Закрыть], дождями смыло насыпь, бревна подгнили. С востока Нижний от врагов не защищен. Просил воевода посадских ради общей безопасности поправить это укрепление. Посадские палец о палец не ударили. Да и Минин как староста не понуждал к тому посадских. Теперь он прямо заявил Алябьеву, что невозможно дальше оставлять город незащищенным с восточной стороны. Опасность большая от этого. Арзамасские и смоленские беглецы пригодятся. Нижегородцы заняты своими промыслами и торговлею. Им не до того. Никогда не дождешься, чтобы они поехали в лес, напилили и натесали бревен. Ведь нужно навозить и землю и поднять насыпи. Кто, как не арзамасские беглецы, все это сделают? «Сам бог послал их нам в Нижний, дабы они поработали для спасения города».
Алябьев повеселел:
– Уж и не знаю, как тебя и благодарить, Минич! Умная голова ты у нас. Ежели бы не ты, пропали бы посадские без тебя! Спасибо, что поддержал меня. Давно и я думаю о том.
– Полно, Андрей Семеныч!.. – покраснел Кузьма, смутившись.
Алябьев подумал: «Какой кроткий!»
А вечером оба ездили к печерским рубленым воротам, осматривали развалившийся острог, высчитывали, сколько пойдет леса, сколько земли. Вести работу взял на себя он же, Минин. Окончательно растрогавшись, Алябьев позвал его в свой дом: угощал вином, а Кузьма, захмелев, пел ему песни про храбрых воевод, громивших татар… говорил, что и он, Алябьев, тоже храбрый воевода, что таких воевод ему, Кузьме, не приходилось никогда видеть. Алябьев, раскиснув от похвал, стал жаловаться на Биркина: «Надоел он мне, что с ним делать?»
Утром в Земскую избу был вызван ямской староста Николай Трифоныч Семин.
Минин спросил:
– Сколько может дать Ямская слобода коней?
Семин удивился:
– На кой тебе?!
– Дело есть. У Печер вал насыпать да бревна возить.
– Много ли туда надо!.. Четыре пятка за глаза хватит.
– Нет, скажи: что дадут ямщики, коли понадобится?.. – настаивал земский староста.
– Когда так, считай, – нехотя ответил старик. – Всего у нас двадцать три ямщицких двора… Есть и по три, и по четыре коня… Да на што тебе?
Кузьма нахмурился, не ответил.
– Да у посадских – сот восемь… – продолжал ямской староста. – А может, и поболе… Ты уж их не тронь и ямщиков не обижай. Главное, не скупись на обывательские, деревенские подводы… Гоняй их! – хитро заиграл глазами Семин. – У дворян…
Лицо Кузьмы повеселело.
– Эко диво! Да на кой тебе?! – разводил руками Семин.
– Надо! – ответил Кузьма, прощаясь с ним.
Все свободное время Минин проводил в бараках на Оке. У арзамасцев старшим выбрали Ганьку Коновалова, грамотного, разбитного плотника. Он же устроил нары и полати в сараях. Гаврилку Ортемьева выбрали старшим у смолян. Ведь они из самой Москвы шли с ним: много храбрости и находчивости показал он дорогой. Гаврилка кивнул Кузьме на угрюмого Осипа, на бедового Олешку и словоохотливого, с хитрецой, Зиновия. Минин велел всем четверым зайти к нему, на дом. Особенно обрадовался он, узнав, что среди смолян есть казак-украинец.
– Ждать буду… Приходите… Медом угощу…
* * *
Лучшим грамотеем в Нижнем считался тихий, худощавый и почтительный дьяк Юдин.
В последнее время он часто навещал Минина. Всегда приносил с собой пачку грамот и челобитен. Кузьма скрывал даже от Татьяны, зачем дьяк ходит к нему в дом. А он тайно ото всех по просьбе Минина составлял опись служилым людям, «кто что имеет» и «к чему поваден». Сам Кузьма Минин был плохим грамотеем, однако посадские достатки мог сосчитать лучше любого дьяка. Знал он о каждом купце и ремесленнике: что делает, в чем нужду терпит и что имеет дохода. Но вот о служилых людях, о дворянах, о стрельцах, о попах и иных, не подчиненных Земской избе, он знал очень мало. Здесь не обойдешься без помощи воеводского дьяка.
Вышло на посаде: более тысячи тяглых дворов; поповских – восемьдесят; казенных – восемнадцать; помещичьих и иноземческих – сто пятьдесят; ямских – двадцать три; трудников и бобылей на монастырской земле – сто пятьдесят изб и кельишек. Всего в Нижнем было без малого три с половиной тысячи дворов.
Дьяк тихо читал:
– Да еще на Нижнем же посаде тринадцать изб харчевных. Оброку наперед сего платили рубль двадцать два алтына и три деньги… Ныне изоброчены вновь и со старым оброком – два рубля осмнадцать алтын…
Минин перебил:
– Как же это так? Да с одного Петрушки Ивлиева надо бы взять по двадцать алтын… Мошенник Петрушка!.. Знаю я его. А с тринадцати харчевен и вовсе, по-божьему-то, рублев десять! Не грех бы! Право!
Юдин, не отрывая глаз от списка, продолжал:
– Да на Верхнем посаде за Дмитровскими воротами и на Ильинской горе одиннадцать кузниц… Оброку с тех кузниц платили в Государеву Съезжую избу одиннадцать рублев двадцать пять алтын с деньгою… А вперед изоброчены и со старым оброком – пятнадцать рублев тридцать алтын две деньги…
– Мало! Ну, да ладно. Кузницы нам годятся. Здесь мы свое возьмем.
– Да на церковной, на Никольской, земле шесть лавок да семь шалашей, да место лавочное тут, а с них платят оброку никольскому попу на церковное строение двадцать четыре рубля шестнадцать алтын четыре деньги.
– Попу? – удивленно переспросил Минин. – Двадцать четыре рубля попу на церковное строение! Да погляди ты, Василий, сам на его церковь. Развалилась. На чем колокола держатся! Ненасытные души! С меня и то дерут в монастырь пять алтын! За то, что изба стоит на их пустыре, на лысом собачьем месте. С попом предвидится крепкий спор.
– Что скажут богомольцы? Их дело. Не наше!
Минин нахмурился.
– Много думал уж я об этом! Веришь ли, ночи не сплю, ломая голову: как нам поднять богомольцев, чтобы они свои приходы не жалели, попов посмягчили, да и свое сердце к делу общему повернули… От имени преподобного Сергия надо попросить их…
– Помогай бог, Минич! У монастырей да церквей доход большущий.
– К попам и богачам государева казна не строга. Неча грех таить! Вон возьми: Первушки Карпова лавка на два замка, мерою две сажени и шесть вершков. Сам я мерял. А оброку платит, сукин сын, рубль четыре алтына. А Иванов Ондрюшка, сердяга, за пол-лавки отваливает пять алтын три деньги. Кто у вас там мудрая такая голова?!
Юдин махнул рукой.
– Горе гореванное! Кто, кто? Да все он же… дьяк Семенов!.. Друзья они с Карповым-то. Совести нет у людей.
– Тот-то вот! И Ондрюшка выдерживает и при таком окладе может торговать!
– Видимо, так.
– А когда так, стало быть, Карпов и впятеро выдержит.
Оба улыбнулись.
– А для народного святого дела и вдесятеро. Много у вас здесь наплутано… Ой, много! Хоша и переоброчили вы, а справедливости от сего не умножилось.
Положив свою большую ладонь на бумаги, Минин строго сказал:
– Наивысшая мудрость правителя – в разумном и нелицеприятном оброке. А у нас бедняков теснят, немочных хозяев обирают, а богатых балуют. Узду им развязывают. Терпеливо переносящие бедность – не украшение воеводской власти. Терпение до времени. Когда бог благословит нас на то святое дело, мы с тобой оклады переиначим. По справедливости, из неразумного рождается неразумное.
Юдин долго еще читал оброчную роспись, а Минин про себя обдумывал, что могут дать нижегородские дворы, кузницы и лавки при обычном окладе.
Получалось скудно. А понадобятся великие жертвы. Пускай очнутся торговые люди и приумножат походную казну. С ремесленников тоже можно кое-что еще взять. Необходимо составить новую платежинцу!
Кузьма попросил Юдина присмотреть среди служилых людей честных, годных для сбора окладов.
– Денег и так и этак не хватит. Не миновать одолжения на стороне.
Надо было подумать и о приумножении войска. И тут – скудость! Взрослых мужчин – едва четыре тысячи. Само собою, придется широко распахнуть ворота иногородним людям. Более того, придется кликнуть сбор по всей земле, чтобы под нижегородские знамена шли всякие люди. И чем больше, тем лучше.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.