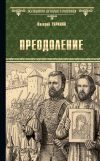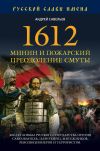Текст книги "Кузьма Минин"

Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
IV
Нижегородское войско росло и крепло. Минин целые дни проводил в ополченских таборах. Татьяна Семеновна притихла. Пробовал Кузьма заговаривать с ней, но безуспешно. Нефед, растерянный, запуганный, робко приближался к отцу, косясь в сторону матери.
Обедали молча. Минин ел, обдумывая: какое и кому жалованье в ополчении положить. Задача немаловажная. Крестьяне, холопы и бобыли против прежних порядков:
«Не давать вотчин дворянам и служилым! Не по-божьему так: мы будем кровь проливать, а нас посля меж собою дворяне ровно скотину будут делить!»
Ополченцы роптали на древний обычай награждать дворян за поход землею и крестьянами… «Давай всем жалованье!» Дорогобужанам, смолянам, вязьмичам уже платили деньгами.
Было над чем призадуматься Минину.
К ополчению примкнули многие из князей. Явились на службу в Нижний князья – Черкасский, Лопата-Пожарский, правнучатый брат Пожарского; князья – Хованский (зять Пожарского), Прозоровский и Гагарин да знатный вотчинник Михайла Дмитриев Левашов.
А эти и вовсе испокон века за походы землями награждались, и некоторые из них были очень храбрые и отважные. Отойдут – слабее станет ополчение.
Время от времени к крыльцу подъезжали верховые, вызывая Минина на волю. Кроме верховых, приходили кучки пеших ратников.
Кому давай сапогов и лаптей, кому оружие, кто жаловался на пищу…
Свой конь, вычищенный и оседланный, стоял у ворот. Нужно было в Земскую, в Съезжую избу, да и кузницы нельзя было оставлять без присмотра… В литейных ямах дело шло хорошо.
Вместе с Пожарским навещал Кузьма иногда Марфу Борисовну. Несколько посадских и деревенских женщин и девушек расшивали знамена. Пожарский сам чертил на бархате рисунки и слова. Немало золотных узоров на знаменах было полито слезами нижегородских вышивальщиц.
Много было забот, много волнений и тяжелых минут у Минина. Ведь на нем лежало всё: он должен был и накормить, и дать обувь ополченцам, и находить им жилища, творить суд и расправу.
Но для людей Минин – железный человек, у которого не может быть никаких сомнений. Стойко выслушивал он ругань и проклятия, но никогда всерьез не принимал ни их, ни льстивых похвал, говоря, что нет страшнее врага, нежели льстец.
Чем больше забирал власть Кузьма и чем ближе он становился к народу, тем осторожнее делались его враги. Тот же Охлопков, закоренелый недруг Кузьмы, теперь не отходил от него, называя его «братом». Балахнинский Фома Демьянов, рассказывавший ранее всюду о своих оленях, о том, что якобы Минин его обманул, выманив их у него за бесценок, теперь приехал на жительство в Нижний, возвестив всем, что он «жить без Кузьмы Минича не может!» Даже высокородные князья и дворяне стали с ним говорить как с равным.
И, однако, в Съезжей избе он сказал:
– Прошу прощенья у знатных родов! Мы – не царская власть и земли давать мы не можем… Бог не благословил нас на это. Ополчение – меч, врученный нам господом для очищения Москвы от ляхов и воров… Так по разорении Иерусалима собрались последние люди Иудеи и, прийдя под Иерусалим, очистили его. Воля боярская и дворянская обратиться к будущему избранному царю за награждением. А мы не можем.
Из царских рук достойно дворянину получать землю и людей, а не из наших. Не могут вожди ополчения уподобиться самовольному тушинскому вору!
Честолюбие дворян было задето. В самом деле, достойно ли боярину или дворянину получать земли из рук всесословного Земского совета? И признает ли будущий царь помещиками дворян, получивших от Совета землю?
Оставалось согласиться на жалованье. Другого выхода не было.
Пожарский, опасавшийся распри, теперь успокоенный, наедине, крепко обнял Минина.
– Спасибо, Минич!.. Не чаял я! Не чаял!
Жалованье обсудили, глядя по статьям: первой приходилось пятьдесят, второй – сорок пять, третьей – сорок и самой меньшей – тридцать рублей.
Дворяне, в надежде на получение от будущего царя вотчин, стали спокойны. Казакам жалованья положили больше всех. На этом настоял сам Кузьма. Запашек у них нет. От родных мест удалены, дома их нарушены военными походами. Голые скитальцы! Нет у них ничего, кроме коня и сабли. Нельзя равнять их со всеми. Они больше других боролись с иноземцами. И кто такие казаки? Кроме донцов немало крестьян, гонимых и обездоленных, назвались казаками.
Спор о казаках был горячий, и многие земские люди называли их разбойниками. Сам Пожарский был иного мнения о казаках, нежели Кузьма, однако казакам жалованья дали больше ратников.
Пожарский отказался от всяких денежных хлопот.
– Мое дело – война. Я не хочу уподобиться Ляпунову, Заруцкому и Трубецкому, – объявил он. – Смешав золото с огнем, они гасили огонь и обращали в тлен золото. Золото в руках Минича принесет больше пользы.
Прибавилось забот у Кузьмы, но он шутливо говорил:
– Так не так, а уж этак будет.
Собрал дьяков-раздатчиков и над ними поставил других дьяков – проверщиков, а надо всеми – дьяка Василия Юдина.
В Земской избе наладили приказ ополченской казны. Целые дни здесь толпились казаки, чуваши, татарские наездники, беглые крестьяне.
Все сюда шли за жалованьем. Временами среди этой пестрой толпы можно было видеть и дворянские кафтаны. Ходили, толкались около дьяков и князья. От них тоже было два человека в этом приказе.
Минин весело потирал руки:
– Подперто – не валится. Пришиблено – не пищит.
* * *
Незаметно шло время. Ополченская рать мало-помалу вооружалась. Кузницы шумели круглые сутки. Длинной вереницей тянулись из Заволжья через лед сани, нагруженные дровами для кузниц и литейных ям. Работа кипела. День упустишь – годом не наверстаешь!
Вот уже и февраль!
Крепкие морозы вернулись вновь. Небо синее, чистое. Церковные вышки кажутся прозрачными. Укуталось в овчину и меха все посадское население. Гулко скрипит снег в необычайной благоговейной тишине первой недели Великого поста. Лица богомольцев набожны, печальны. Уныло расплывается в воздухе великопостный благовест. Дни покаяния и молитв.
И вдруг однажды ночью жители Нижнего Новеграда были разбужены необычайным шумом, криком и конским топотом. Накинув тулупы, в сапогах на босу ногу выбежали на волю; во мраке разглядели толпу всадников.
Оказалось, из Ярославля прибыли они с грамотой, в которой говорилось, что Заруцкий, желая помешать соединению нижегородского ополчения с северными городами, прислал в Ярославль многих казаков.
Гонцы донесли, что по следам казаков идет большое войско атамана Просовецкого. Он намерен захватить Ярославль и другие северные города.
Пожарский и Минин в громадных неуклюжих медвежьих тулупах пришли в Съезжую избу, где уже с гонцами беседовал Алябьев. При появлении ополченских вождей поднялись со своих мест все находившиеся в избе.
Монахи и стрелецкие начальники подняли шум: ополчению, мол, давно следовало бы выйти из Нижнего. И Троице-Сергиева лавра много раз писала о том же… Сам отец Дионисий и келарь Авраамий Палицын уже начали упрекать Пожарского и Кузьму – «чего-де вы медлите?! Довольно бражничать!».
Кузьма крикнул своим могучим голосом:
– Чего шумите! Уймитесь! Хочу говорить!
Он спросил присутствующих:
– Крест воеводе целовали?
Взметнулись голоса:
– Целовали! Целовали!
– Внимать будете?
– Будем! Будем!
В избе наступила такая тишина, что слышен был писк мышей в подполье.
– Говори, Митрий Михайлыч…
Поднялся Пожарский. Спокойный, слегка улыбающийся.
– Не могу я сметать дело на живую нитку. Совершить на скорую руку – недолго, но и в беду попасть того скорее…
А я так думаю: берегись бед, пока их нет, а там уж поздно беречься. Монахи Троице-Сергиевой лавры и келарь Авраамий, хоть и святые отцы, а в ответе перед вами не они, а мы… Наши деды говорили: «Десятью примерь, однова отрежь!» – так будем и мы… Сгубить наше войско – стало быть, навеки потерять Москву. Будем ждать Ивана Иваныча Биркина с подмогой из Казани, тогда и пойдем. А для угона Просовецкого от Ярославля я пошлю вам воинов с вернейшим воеводой, братом моим Дмитрием Петровичем Пожарским-Лопатою.
Худенький, русобородый юноша вышел на середину избы. Сделал низкий поклон.
– Бью челом земским людям! Вот я здесь перед вами, Лопата-Пожарский… И клянусь послужить я народу, сколько сил хватит, нелицеприятно!
Раздались голоса:
– Бывал ли в боях-то? (На сомнения навел невзрачный вид.)
– Как не бывать! Воевал я и с латинскими полками… Под Волоколамском и в иных подмосковных местах… И не однажды.
Вмешался Кузьма:
– Честное имя – надежная порука… Низко кланяемся тебе, князь! Веди воинов в Ярославль… Изгони злодеев!
Не посрами имени брата своего!
Великопостной тишине наступил конец. Заскрипели сани, зазвенели песни, раздались шутки, перебранки снаряжавшихся в путь ратников.
Выступил Лопата-Пожарский со своим войском в путь ночью.
Дмитрий Михайлович и Кузьма распростились с ним на середине Волги:
– Добрый путь! Не робей, брат, бейся до конца, – сказал Пожарский.
Рать Лопаты-Пожарского составлена была из опытных нижегородских, дорогобужских и верейских бойцов.
При расставании Минин пообещал, как только «придет Казань» и явятся гонцы, посланные под Суздаль, Владимир и Юрьев-Польский, так и все ополчение тронется в путь.
Мороз крепчал. Люди жались друг к другу. Взволнованные выходили ратники из Нижнего. Прощай, тепло! Прощай, уют! Прощайте, братья ополченцы! Что-то будет впереди?
Вскоре после ухода князя Лопаты вернулся Пахомов.
Он оповестил нижегородцев о мученической смерти Гермогена. Бояре требовали у патриарха по наущению панов, чтобы он послал грамоту нижегородцам, запрещающую ополчаться против короля. Гермоген с негодованием ответил:
– Да будут благословенны идущие на очищение Московского государства, а вы, окаянные изменники, будьте прокляты!
Гермогену перестали давать пищу. Девятнадцатого февраля он умер голодной смертью в кремлевском подземелье.
Паны, московские бояре, Заруцкий и Трубецкой вознегодовали при известии, что на берегах Волги поднимают восстание в защиту Москвы нижегородские мужики. Минин и Пожарский объявлены мятежниками.
Дорога через Суздаль и Владимир, по словам Пахомова, опасна для похода. Шайки поляков, шаткость тамошних служилых людей, даже духовенства, обнищание и голод – все это затруднит передвижение полков по этой дороге.
Рассказ Пахомова слушали на посаде с великим вниманием. Пожарский поблагодарил его, Минин выдал ему награду деньгами.
Жалко было Кузьме Гермогена, и он проливал вместе со всеми горючие слезы о замученном патриархе. Всюду слышались плач и проклятия королю и боярам. Во всех уголках Нижнего и старые и малые шептали молитвы о победе над врагом.
Минин верхом объезжал площади, базары и окраины, усердно призывая народ отомстить за мученическую смерть Гермогена. Он рассказывал об издевательствах панов над патриархом так хорошо, так живо, как будто он своими глазами это видел. Там, где он побывал, за оружие готовы были взяться даже древние старики и старухи. Слова Минина пробуждали в народе неслыханную злобу и жажду мщения.
В ополчение вступали все новые и новые толпы горожан.
V
Снаряжение войска близилось к концу. Пора было подумать и о выступлении. Но каким путем двинуться к Москве?
После донесения Пахомова нечего было и думать о походе через Владимир. Правда, в Съезжей избе, на сходе, князь Звенигородский упорно настаивал на Суздальской дороге, говоря, что это кратчайший путь. Никакой опасности, мол, ополчению там не предвидится. Ему, воеводе, хорошо то известно.
Да и троицкие власти не напрасно, мол, торопят; они тоже советуют – через Владимир. Воевода убеждал собравшихся не доверять гонцу Роману Пахомову. Со страха парень наговорил разных небылиц. Воеводу поддержал кое-кто из купцов.
Ему возразил Пожарский:
– Как можешь ты, Василий Андреевич, давать такой совет! Ужели неведомо тебе, что Просовецкий движется к Ярославлю? Вор Заруцкий умыслил отрезать нас от северных городов и Приморья… Горе нам, коли допустим это! Север и Заволжье – наша опора, в те места не проникла рука зорителей и не грабила народа. Надлежит твердой ногой стать в Ярославле, стянуть все силы туда, очистить от воров ближние ростовские и суздальские земли, наладить дружбу с Новгородом и шведами, дабы не грозили нам с тыла, и оттуда навалиться на Москву. Вот мой совет. Нам подлинно известно, что ляхам в Кремль подвезли продовольствие и усилили ратную часть. И хотя велика сила нашей любви к родине, но не надо хулить и военную силу поляков. Не раз я бился с ними и скажу: на бранном поле нам не легко будет бороться с ними.
Пожарского поддержали воеводы Алябьев и Лысгорь-Соловцев, калужские воеводы Бегичев и Кондырев, Свиньин из Галича, стрелецкие сотники, казацкие атаманы, чувашский старшина Пуртас, татарский мурза Гиреев, черкасский атаман и другие. Они подтвердили, что польское войско сильно и особенно их конница.
Минин сидел в конце стола, помалкивал, не вмешиваясь в спор военачальников.
Но вот спросили и его, что он думает. Поднялся со скамьи, поклонился и тихо сказал он: «Кормить ратников на берегу Волги будет легче, нежели идя по опустошенной Владимирской дороге. Голод для войска страшнее всяких гусаров. Воины должны быть хорошо одеты и накормлены! Для того нужно пойти по нетронутой ворами дороге и стать в безопасном месте. Лучше Ярославля для сего ничего и не придумаешь».
Степенный, скромный вид и вразумительный голос Кузьмы тронул и знатных господ. «Дабы не унижать себя спорами да разговорами с мужичьем, и мы согласимся с Пожарским…»
Эти мысли Минин ясно читал в приветливо глядевших на него глазах бар.
Итак, решено: Ярославль! Выйти из Нижнего, подождав Биркина. Если же он к середине марта не вернется из Казани, то подняться, не ожидая его. На сходе высказывалось удивление, что от него до сих пор нет никаких вестей. Уж не приключилось ли чего с посольством в дороге? Живы ли послы?!
Опасен был город Курмыш.
– Доколе мы не изведем здесь у себя всех ненадежных людей, – говорил Пожарский, – дотоле нам нечего уходить из Нижнего. Курмышские дворяне и воевода кривят. Курмыш у нас в затылке – можно ли оставить его в руках ненадежных правителей?!
На сходе Пожарский громогласно бросил упрек князю Звенигородскому, что тот не может заставить курмышского воеводу Елагина покориться нижегородскому приговору. Елагин денег на ополчение не шлет, а собирает везде, елико возможно, и даже не в своем уезде, а в Нижегородском.
– Не пристало тебе, Василий Андреевич, допускать таковое бесчиние. Разве ты не воевода?!
На другой же день Пожарский от своего имени послал молодого стрельца Афоньку Муромцова и крестьянина Фильку Фебнева в Курмыш со следующей грамотой: «По указу стольника и воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского да дьяка Василия Юдина велено в Нижегородском уезде, в селе Княгинине и Шахманове, да и в Курмышском уезде в селе Мурашкине, да в селе в Лыскове, приехав, взять у приказных людей приходные книги, что с тех сел каких денежных доходов по окладу, и в селе Княгинине, и Мурашкине, и в Лыскове, и в Шахманове тамошних, и кабацких, и иных каких денежных доходов в сборе есть. И те все доходы выслать тех же сел со старосты и целовальники в Нижний Новеград, дворянам и детям боярским и всяким служилым людям на жалованье. И для Земского совету быть в Нижнем Новеграде старостам и целовальникам и лутчим людям; и велено им во всем слушати нижегородского указу, а платити всякие денежные доходы в Нижнем для московского походу ратным людям на жалованье. Кого тебе на Курмыше жаловать? А хотя и есть кого, и тебе Курмышом одним не оборонить Москвы. Знай же, господин, сам, что все городы согласились с Нижним, понизовые, и поморские, и Рязань, и всякие доходы посылают в Нижний Новеград. А какое учинитца худо и взачнетца кровь твоею ссорою, и то все Бог взыщет на тебе, и от Земского совету и здеся от бояр и ото всея земли отомчение приимешь. А которые деньги были в сборе в Мурашкинской, и в Лысковской, и в Шахмановской, и во Княгининской волости, и те деньги послать в Нижний Новеград с целовальники и со крестьяны. А послали мы с сею описью нижегородского стрельца Афоньку Муромцова да Мурашкинской волости крестьянина Фильку Фебнева».
Курмышский воевода не внял приказу Пожарского, уклонился от помощи нижегородскому ополчению. Он был верным слугой московских бояр и тайным сообщником нижегородского воеводы князя Звенигородского.
Кузьма посоветовал Пожарскому:
– Смени! Предай сыску.
Пожарский опять собрал сход и просил согласия у земщины отстранить от службы курмышского воеводу, а на его место поставить воеводою нижегородского дворянина «из выбору» Дмитрия Савина Жедринского, верного и достойного слугу земского дела.
Совет одобрил действия Пожарского.
Съезжая изба наполнилась кандальниками. В Нижнем и окрестностях шныряли польские соглядатаи и люди, распускавшие смутные слухи. Этих людей ловил сотник Буянов; допрашивали пристава и два попа; среди пойманных соглядатаев немало попадалось монахов и странников. Добытое сыском сообщалось Минину и Пожарскому. Они же от имени Совета и присуждали наказание.
Минин был безжалостен к людям шатким, сравнивал их с сорняком, мешающим расти здоровым колосьям. И нередко осуждал он Пожарского, пробовавшего обойтись уговором и молитвами там, где нужна была сила. Набожный и еще не оправившийся от болезни, князь с большим трудом соглашался на строгости, боясь греха, боясь гнева божьего.
– Будешь плох – не поможет и бог! – говорил Минин, когда Пожарский начинал колебаться. – Гибнет Русь! А мы – «плюнь да отойди!» Смерть в бою – божье дело, а от вора – наихудшее из позорищ! Губи изменников без потворства, беру грех на себя… Пускай меня господь накажет! Пускай буду я гореть в аду, нежели покорюсь ворам, леший их побери! Гляди, князь! Как бы за твою доброту не поплатиться тебе жизнью. Изменники не чтут добродетели соперника, желаннее им – гибель его…
Пожарский отмалчивался.
Однако вскоре произошло событие, приведшее и его в великий гнев, и в его сердце вспыхнула ненависть.
Из Казани вернулся протопоп Савва, бледный, исхудалый, и со слезами поведал, что Иван Иваныч Биркин, нижегородский посол, ляпуновский помощник, на словах больше всех осуждавший измену, по-братски облобызавший Минина и Пожарского перед отъездом в Казань, изменил!
Вместо того, чтобы склонить на сторону ополчения забравшего власть в Казани слугу Владиславова, дьяка Шульгина, Биркин тотчас же по приезде сам примкнул к нему, к Шульгину, стал его сообщником. Вернуться в Нижний не захотел, остался в Казани.
– Никто мне не верил, – с грустью вздохнул Кузьма. – А ты, Митрий Михайлыч, нередко стоял за него…
Пожарский укоризненно покачал головой.
– Но не ты ли, Минич, натолкнул меня взять его в помощники?
– И не напрасно. И в Казань его советовал я же отправить. Искушал я его. Испытывать крепость стебля в тихом месте не след. Надо поставить его там, где дуют переменяющиеся ветра… Коли устоит – стебель крепок, а начнет гнуться, извиваться, припадать на разные стороны – плохо, стебель ненадежный.
Весь посад пришел в волнение, узнав об измене второго воеводы. Из уст в уста передавалась эта печальная новость. Никто не хотел верить… Биркин?! Может ли то быть?!
Он был так предан земскому делу.
Недовольная ополченскими постоями и поборами кучка посадских сплетников, придравшись к случаю, принялась злословить, сея недоверие и к другим вождям ополчения.
Не оставили в покое и «самоуправца, из грязи да попавшего в князи» – Кузьмы Минина.
– Вот они какие… – шептали сплетники. – И Куземка для себя норовит. Гляди, и он не лучше других окажется. И проклятый этот стрелец Буянов… Вдоволь небось набил карманы… А Пожарский – глупец! Опутают его, сердягу, до плахи доведут. В цари сдуру полез! Придет времечно – ответит и он.
И пошли, и пошли…
Минин крепко задумался над поступком Биркина. Как-никак, а изменил самый первый человек в ополчении – помощник старшего воеводы. У него все тайны ополченского лагеря. Шульгин – сообщник панов, он может выведать эти тайны у Биркина и продать их панам.
Разгневанный Кузьма нигде места себе не находил.
Кому верить? Бояре, к которым перешла в Москве власть от царей, осрамились, опозорили себя навеки; казацкие атаманы, осаждающие и поляков и бояр в Кремле, якшаются с вором Сидоркой, хотят провозгласить его царем. Заруцкий тянет «маринкина щенка» на престол, сына тушинского вора.
По городам, селам и деревням изменяют воеводы, дьяки и приставы, даже попы: присягают и Владиславу, и Сигизмунду, и шведскому королевичу, и псковскому вору Сидорке.
Первою мыслью Кузьмы было: подослать в Казань своих людей, чтобы они убили Биркина. Но Пожарский, услыхав об этом, пришел в сильное волнение. Грозил, если Кузьма так поступит, он, Пожарский, уйдет из Нижнего и навсегда откажется от воеводства в ополчении. Кузьма взял свои слова обратно.
И придумал другое: послать в Казань стойких посадских людей, попов и татарских мурз, чтобы пустили они там молву о непобедимости нижегородского ополчения. Надобно всю правду рассказать казанскому населению о боевом духе ополченцев, о готовности их постоять за правду «до смерти».
Пожарский одобрил. Решено было еще крепче объединиться с ближними городами, еще сильнее вооружиться, лучше одеться, обуться, больше запасти всякой пищи, откормить посытнее коней и двинуться к Ярославлю.
* * *
Поздно вечером, возвращаясь из Съезжей избы, Минин зашел к Марфе Борисовне. Дверь открыл Гаврилка. Марфа Борисовна уже легла спать. Услыхав голос Минина, она быстро оделась и вышла из опочивальни в переднюю горницу навстречу гостю.
– Добро пожаловать, Кузьма Минич! А я помолилась о вас обо всех да и спать было…
– Голова у нее что-то болит. Устала! – сказал Гаврилка, вздыхая.
– Прошу прощенья, коли так!
– Да нет, Кузьма Минич, не больно я устала, ничего не делая, молясь только богу.
– И то благое дело, Марфа Борисовна.
– Ты бледен. И голос словно не твой! Не стряслось ли какой беды, Кузьма Минич, спаси бог!
– Да что уж тут… – Минин оглянулся по сторонам. – Али присесть?..
Марфа Борисовна всполошилась:
– Ах, да что же это я?! Садись, садись, дорогой гостюшка… Милости просим!
Минин поставил в угол посох, сел на лавку, вздохнул:
– Хваленый наш радетель общего дела, ляпуновский выкормыш Ванька Биркин переметнулся, сукин сын, на сторону ляхов. Что ты тут скажешь?!
Марфа Борисовна всплеснула руками:
– Биркин! Иван Иваныч!
– Да, Иван Иваныч, чтоб ему на том свете бесы кишки выворотили.
– Да верно ли это, Кузьма Минич? Нет ли поклепа тут?!
– Протопоп Савва донес. Человек честный. Самого-то едва выпустили из Казани.
Марфа Борисовна села у стены против Минина, бледная, взволнованная.
– Да как же это так?.. – испуганно проговорила она. – Против своих же?!
– А против кого шел Елагин? Против кого он подымал злобу в Курмыше? Против своих же, против нас. А Звенигородский? Веришь ли ты ему?!
– Нет, не верю… – тихо ответила вдова.
– То-то и есть! Много еще у нас в уезде тайных друзей Биркина… Не зря он провел здесь полтора года. Не зря имел своих соглядатаев.
– Что же теперь делать?!
Минин поднялся с места, заходил широкими размашистыми шагами из угла в угол по горнице, как бы обдумывая ответ.
Наступило тяжелое молчание.
Вдруг Минин приблизился к Марфе и тихо сказал:
– Теперь нечего нам ждать Биркина с казанцами. Готовься! Через несколько дней выступим. Пока реки не разлились. Митрий Михайлыч готов. На народ надеемся. Народ не изменит.
Марфа Борисовна взяла его за руку.
– Родной, Кузьма Минич, как же мы-то тут без тебя останемся?!
– Без меня остаться не страшно, а вот без Москвы… Лучше умереть! Не надо мне тогда и никого и ничего. Пропадай всё, ежели врагов не одолеем… К чему тогда наша жизнь?.. Холопам королевских панов пятки чесать?! Помилуй бог! Господь не допустит того.
Марфа Борисовна съежилась, маленькая, испуганная. Кузьма подошел к ней и укоризненно покачал головой:
– Ну вот! И ты такая же! Я вон Татьяне уже и не говорю. Слезы надоели! Видеть я их не могу. Тебе сказал, думал – обрадуешься… веселая станешь, а ты вон, гляди… трясешься вся! Эх, бабы, бабы! Все вы одинаковы.
Лицо Минина стало строгим.
– Ну что, если бы мы теперь все заревели! Я так думаю, ты бы нам ни одного корабленника[50]50
Корабленник – древняя английская и французская монета, на одной стороне которой изображалась роза, на другой – корабль. В годы «междуцарствия» была в ходу и в Московском государстве.
[Закрыть] не дала… Вот тогда бы и я заплакал, глядя на таких воинов, а теперь… ты взгляни на наших ратников – душа радуется. Сами в Москву рвутся. Требуют. А почему? Они знают свою силу.
Кузьма подошел к двери и крикнул:
– Ортемьев!..
Дверь распахнулась – влетел Гаврилка.
– Эк, ты скорый какой! – засмеялся Минин. – Вот, братец! Дождались мы с тобой праздника. Собирайся.
Гаврилка вопросительно взглянул на Минина.
– Чего зенки вытаращил?! В Москву пойдем.
Марфа Борисовна ревниво следила за выражением лица Гаврилки. Парень взялся руками за голову, хотел что-то сказать, но, охваченный радостью, запутался и, низко поклонившись Минину, побежал обратно в сени.
Минин, растроганный, молчаливый, опустив голову на грудь, подошел к окну:
– Тьма!.. На посаде еще ничего не знают, спят, как дети… – он вздохнул. – Дети и есть! Вот кому надо плакать! Мне!
Марфа Борисовна подошла к нему:
– Минич, что ты говоришь!
– Говорю, что знаю. Но плакать не буду. Господь Бог не оставит народ. Из детей люди станут взрослыми, но мне не видеть того. Да, Марфа Борисовна, много силы в человеке. Ну, прости, побеспокоил тебя! Покуда прощай! Молись о нас. Твоя молитва угодна богу.
Низко поклонился Минин вдове и вышел на волю. За окном слышны были его тяжелые шаги и стук посоха.
Проводив гостя, Марфа Борисовна пошла в горницу к Гаврилке.
Он сидел на полу и при свете ночника с большим усердием точил о камень саблю.
– Парень, что ты?
Гаврилка оторвался от работы, посмотрел на вдову хмуро:
– Чего не спишь, боярыня?
– Да как же мне спать-то? Слыхал, что Кузьма Минич сказал?
– Не глухой. Как не слыхать! Давно пора. Народ роптать начал.
– Убери саблю. Не скоро ведь, не сегодня, да и не завтра… Чего же ты?!
– Эх, боярыня! Иди почивать, покоя тебе нет.
Марфа Борисовна покачала в задумчивости головой и ушла на свою половину.
* * *
Земский совет еще настойчивее взялся за обогащение ополченской казны.
Нижегородцы заняли деньги у многих именитых иногородних купцов, и в том числе и гостей Строгановых, выдав поручные грамоты вернуть деньги «после очищения Москвы».
Минин велел Буянову и Охлопкову прекратить «понуждение и утеснение нерадивых плательщиков».
После того многие «сами себя ни в чем не пощадили, собирая с себя деньги сверх оклада».
Из Вологды, куда были посланы смоляне Новожилов, Угрюмов и нижегородец Петр Оксенов, пришел ответ, что, «как пойдут ваши ратные люди, и мы с нашими людьми пойдем головами своими». Стали прибывать богато оснащенные ратники с Понизовья, из Вычегды, куда для сбора зелья и людей были посланы четыре служилых дворянина и Родион Мосеев.
Пожарскому удалось созвать в ополчение еще несколько опытных воевод; среди них был и двоюродный брат его, Роман Петрович Пожарский. Он стал ближайшим помощником Дмитрия Михайловича.
Ополченская власть окончательно заменила власть князя Звенигородского.
«Изба площадных подьячих для письма», у Ивановских кремлевских ворот, знать никого не хотела, кроме Пожарского. Все челобитные писались и направлялись только к нему.
Ни днем, ни ночью не было покоя избяным писакам. Гусиных перьев не хватало на челобитные. Стрельцы, казаки, пришлые иноверцы, крестьяне целые дни толпились около избы, каждый со своим делом.
Отныне Земский совет, именовавшимися то городским, то земским, назван был Советом всея земли.
Заботы Минина и Пожарского об ополчении не прошли даром. В короткий срок оно возросло, усилилось не только людьми, но и табунами коней, оружием и зельем, ввозимыми из других городов.
От Лопаты-Пожарского в начале марта было получено радостное известие, что казацкие отряды в Ярославле им взяты в плен; город перешел в руки нижегородского ополчения.
Появившиеся в Нижнем казанские калики перехожие рассказывали, что народ не послушался изменников – Шульгина и Ивана Биркина.
Казанцы настояли на своем – снарядить ополчение в подмогу нижегородцам для «доброго единения к очищению Москвы от супостатов». Им не доверяли. Не подосланы ли они Биркиным и Шульгиным.
Во дворе Троице-Сергиева монастыря на берегу Волги поставили стрельцов с приказом строго следить, чтобы монахи не спаивали ополченцев. У зелейного погреба в кремле расположилась казацкая стража, охранявшая боевые припасы. На Ямском взвозе бегали приставы, проверяя приходящих и уходящих ямщиков с конями.
В монастырских банях, внизу, на набережной, целые дни стояла суета.
Сам Кузьма следил за порядком.
День и ночь пыхтела винокурня в Монастырском овраге над Волгой.
Минин велел как можно больше наварить на ключах. (Время весеннее, распутица, заморозки – необходимо!)
В хлебопекарнях печи трескались от сильного нагрева. Женщины резали караваи на сухари, увязывали их в коробы. Песни хлебопеков далеко разносились по набережной.
На городском валу зорко следили за уходящими и прибывающими в Нижний людьми казацкие и татарские наездники.
Везде и во всем чувствовалась близость похода.
* * *
Марфа Борисовна загрустила.
– Стало быть, так нужно… Прощай! – говорила она Гаврилке, – Уйдете вы – молиться денно и нощно буду я о вас. Пошли вам господь бог одолеть супостатов, а мне, чтобы отпустил он все мои прегрешения вольные и невольные. Одна дорога мне – в монастырь!
Гаврилка с испугом схватил ее за руку.
– Что ты! Что ты! Милая моя! Тебе ли говорить про монастырь! Вернусь из похода, буду опять служить я тебе верой и правдой, опять денно и нощно охранять тебя, Марфа… боярыня моя, да кто же осмелится осудить тебя! Ты – молодая, словно цветок алый, на солнушке расцветающий…
Под густыми ресницами вдовы сверкнули слезы.
Она не могла говорить – печаль давила грудь. Гаврилка почувствовал жалость к Марфе Борисовне, немало унижений перенесшей на посаде из-за него, Гаврилки.
Марфа Борисовна вытерла слезы, встала и, выйдя в соседнюю горницу, принесла ему дорогую мелкотканую кольчужную рубаху.
– Вот тебе на дорогу… Пускай она охранит тебя от вражеских стрел. Покойный хозяин мой ходил в ней воевать. Люблю я тебя… – И заплакала.
За окном белели пушистые влажные ветви вербы в цвету. Где-то совсем рядом слышался благовест. Звон большого колокола был густ и печален. Величественно держался он в голубом весеннем пространстве над Волгой, не вступая в спор с дребезжащими, нудно мелкими колоколами…
– Прощай, родная, прощай!.. Завтра уходим!..
Обнялись.
– Берегите Кузьму Минича! Берегите Митрия Михалыча!..
Это были последние слова Марфы Борисовны при расставании с Гаврилкой.
* * *
На Верхнем и Нижнем посадах люди молились, прощались. Лобызали ратники своих жен, матерей, сестер, отцов, малых деток, старики благословляли ратников…