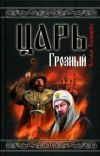Текст книги "Море"
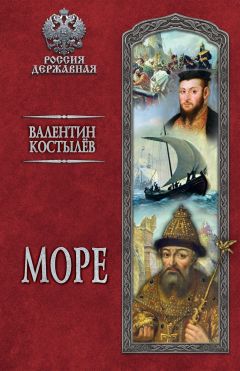
Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Керстен Роде заметил, что другие неприятельские суда, не подозревавшие до этого, что с московских купеческих кораблей на них обрушится артиллерийская пальба, и подошедшие под натиском холмогорцев близко к «Ивану Воину», вдруг попытались бежать. Роде дал сигнал другим своим судам пересечь им путь отступления, сам же смело, на веслах, повел корабль прямо на них.
Андрею предстояло на ходу попадать без промаха в искусно увертывавшиеся на веслах разбойничьи суда. Керстен Роде, без шапки, без куртки, с растрепанными волосами, размахивал длинными руками, делая знаки Андрею, чтобы чаще палил в корабли. Московский пушкарь дорожил «государевым ядром» – зря, попусту не хотел тратить снаряды. В чем другом, а в этом особенно упрям был парень. Прижавшись к стволу своей пушки, Андрей продолжал зорко следить на движением двух неприятельских кораблей, внимательно наблюдал за разбойничьими ядрами, не долетавшими до «Ивана Воина». Молчание пушек ввело пиратов в заблуждение – они повернули один корабль бортом, совсем приблизившись к «Ивану Воину» в надежде на молниеносный абордаж, не рассчитывая снова попасть под огонь этого судна.
Андрей приготовил своих пушкарей к дружному залпу всех пушек. Пираты торопились взять корабль на абордаж, думая, как и в прежних грабежах, легко овладеть добром московских купцов.
И вот… поднятая в воздухе рука Андрея опустилась. Загрохотали выстрелы десятка орудий. Сам он выстрелил в носовую часть неприятельского корабля, пробив ее железным ядром. Мачты у пиратов падали одна за другой.
Третий корабль оказался загороженным своим же кораблем. Он был не в состоянии стрелять в московское судно. На него напали Беспрозванный и Окунь со своими пушкарями.
Керстен Роде приблизился к поврежденному кораблю. Началась перестрелка из пищалей, закончившаяся абордажем.
Стрельцы баграми притянули судно вплотную к «Ивану Воину» и по доскам хлынули на него. В рукопашной схватке они наголову разбили бешено оборонявшихся пиратов, заставив их сложить оружие.
Близился закат. Ветер утих. Небо, темно-синее на востоке, на западе покраснело. Легкая рябь воды также покрылась отблесками вечерней зари. Стало тихо и мирно на море. Только то, что происходило на кораблях, никак не вязалось с тишиною и миром теплой вечерней зари.
Пиратов повалили, обезоружили, связали. Убитых побросали за борт. Раненых перенесли на свой корабль; пленников также перевели к себе. Два судна пиратов к плаванию были уже непригодны, их подожгли. Третий корабль повели с собою, поставив на нем свою команду и подняв московский вымпел.
Всех захваченных пиратов Керстен объявил во всеуслышание пленниками «его величества великого князя и царя всея Руси Ивана Васильевича». Когда он произносил это, то приказал пленникам стать на колени. Позже, с бичом в руке, он свирепо допрашивал их.
Выпытал: пираты состояли на службе у короля Сигизмунда. Стараясь оправдаться, они клялись, что они не пираты, а «морские сыщики», королевские слуги. Так их назвал сам король. Они обязались захватывать в открытом море все корабли, идущие в русскую Нарву, что и должны выполнять неукоснительно, иначе им самим грозит казнь… Керстен Роде надел на ноги двадцати человек цепи, посадил их на весла, а девятнадцать велел ночью в темноте сбросить в море, «по знакомству». Он знал их и раньше как природных корсаров. Закованные в цепи сменили русских гребцов. Им было объявлено, что они будут отвезены в Москву для допроса к царю.
Пленные пираты ругали своего атамана. Они говорили, что, когда выходили в море, все реи на мачтах покрылись ласточками – это плохой признак для моряка – и корабли при посадке кренило на левую сторону, что тоже дурной признак. К тому же корабли вышли в море тринадцатого числа. Все это предвещало несчастье. Атаман не послушал матросов.
Купцы и другие сидевшие в каютах люди с облегчением вздохнули, появившись снова на палубе. Словно гора с плеч свалилась. Начали толкаться вокруг пленников, около пушек. Андрей строго покрикивал на пушкарей, приказывая им привести в порядок орудия и снаряды. Всех зевак он отогнал от орудий.
– Полно вам, добрые люди. Эка невидаль! Поостерегайтесь. Подале от зелья… Не до вас нам!..
Купцы послушно отступили, осанисто поглаживая бороды.
– Экую задали порку, небу стало жарко, – оправившись после пережитых страхов, весело сказал Тимофеев, потирая от удовольствия руки.
– Ну и бедовые у нас пушкари! А наши-то, поморские атаманы… Недаром их поблагодарил Керстен… В грязь лицом не ударили, – сказал с гордостью старик Твердиков. – Как ловко они овладели третьим-то кораблем!
– Да-а. Притянули Варвару на расправу. Молодцы! – похаживая вокруг охлаждавшего пушку Андрея, приговаривал Юрий Грек. – Мы уж думали – конец света.
Матросы поднимали и укрепляли сбитую пиратами бизань-мачту.
Совин, окруженный группой датчан, беседовал с Керстеном Роде на немецком языке.
После беседы с датчанами он подошел к Андрею и ласково сказал:
– Ну, Чохов, диву дивуются на тебя дацкие люди. Керстен обещает расхвалить тебя самому батюшке-царю, таких-де пушкарей он не видывал во всю свою жизнь ни в одном царстве…
Оторвавшись от пушки, Андрей смущенно ответил:
– Полно вам… Найдутся и у нас получше меня.
Сумрак сгущался. Едва заметно в небесной выси проступили бледные звезды. Вспомнилась Андрею Москва. Печатный двор, Охима… Взгрустнулось. Особенно когда взглянул на звездное небо.
Подошел Мелентий, переплывший в ладье на «Ивана Воина». Обнял Андрея: «Молодец, и на море не дал маху».
– Сердит дядя Микит… – сказал он, кивнув в сторону Керстена Роде, снова поднявшегося на капитанский мостик. – Я бы посадил разбойников на ладью, и плавай, как хочешь… Спасешься – твое счастье, утопнешь – туда тебе и дорога, а он… приказал своим людям утопить. Почитай, два десятка в море сгубил.
– Кабы мы с тобой попали к ним в лапы, пощадили бы они нас?.. Поделом душегубам. В честном бою пожалел бы и я их, а они, разбойники, стерегли нас.
Близилась ночь. Ветра совсем не было. Плыли на веслах. Бизань-мачту снова поставили на место. Толпа датчан вышла на палубу и по приказанию Керстена Роде стала дружно насвистывать в сторону востока, вызывая тем самым ветер…
Один матрос объяснил удивленному Андрею, что таково поверье моряков.
Купцы опустились перед сном на колени, вознося благодарственную молитву за благополучный исход боя с разбойниками, за спасение от грабежа их товаров, за сохранение им жизни и за усердных московских пушкарей.
Море, огромное, пустынное, посеребрили бледные полосы лунного света. Андрей, прислонившись к своей пушке, сел на опустевшей палубе. Глядя на тонкий изогнутый лик луны, впал в грустное раздумье, навеянное этою морскою ночью… Что думать об Охиме? Была, есть и будет его Охима… О себе брало раздумье: что он есть сам, Андрей? Все хвалят его, говорят, будто и за рубежом такого не видывали пушкаря, а дома, в Москве, опять могут быть и плети, и дыба, опять он – холоп, челядин Андрейка… И когда же он станет человеком, который не боится ни батогов, ни пыток?..
– Эй, пушкарь, ты чего не спишь?
Андрей вздрогнул, оглянулся. Около него стоял Совин. Андрей поднялся.
– Садись. Ладно. Не в Москве.
– То-то вот и я думаю, Петр Григорьевич… Здесь, на корабле, да и на море – посвободнее.
Совин присел на пушку.
– Правду говоришь, парень. Морские бури, тать морская – ничто, когда подумаешь о море житейском… То и мы, посольские дьяки, чуем, как уплываем из дома… Государь сказал мне: «Завидую вам – земли и моря видите вы и тяжесть с плеч ваших роняете за рубежом, воздухом господним дышите по вся места, как птицы вольные в пространстве, а я, ваш владыка, как узник, сижу в Кремле и тяжесть всю держу на плечах своих и вижу лишь ближних холопов своих, попов, чернецов и стены кремлевские. А править должен так, чтобы мне весь мир был виден и чтоб меня со всех концов земли видели». Выходит, пушкарь, мы счастливее царя.
И почему-то Андрею после этих слов Совина стало как-то сразу легче. Он вспомнил суровое, усталое тогда лицо Ивана Васильевича и тяжело вздохнул. Кто же счастлив?
Совин словно угадал его мысли. Он тихо сказал:
– Всякому свое счастье, а между прочим, ты хороший пушкарь. Проживешь не зря на земле. Родине сослужишь службу. А теперь ложись-ка спать. Утро вечера мудренее.
Он отошел.
Андрей поднялся. Стоявший на вахте датчанин подошел к нему, что-то сказал по-своему, улыбнулся. Андрей тоже ответил ему приветливой улыбкой.
Мачты, реи, канаты снастей, облитые лунным светом, казались причудливой воздушной постройкой, сотканной из хрустальных палочек и нитей. Повеяло от них сказкой на Андрея. Вот-вот прилетит из-за моря жар-птица и сядет на одну из серебряных жердочек, колеблющихся в вышине, и осветит его, Андрейкину, жизнь ярким золотистым светом. Счастье будет!
Ложился на свою постель Андрей, овеянный покоем и верой…
Глава VII
Василий Грязной поскакал из Кремля домой, чтобы «уличить в грехе» Феоктисту Ивановну. Уже подослан в дом один из штаденовских молодчиков с послухами[27]27
Послухи – в данном случае – свидетели.
[Закрыть]. «Задумано хитро, – попалась Феоктиста, как кур во щи, – раздумывал Грязной. – Конец ее замужней жизни. Не избежать ей теперь иноческой власяницы! Жаль ее, понятно. По совести сказать, честная баба, незлобивая и телесами удобрена, а святости хоть отбавляй… Но…» Василию думалось, что не ему жить с ней. Кроме горя, ей ничего не видать от той жизни. В монастыре такой святоше самое место. Прости ты, Господи! Грешно роптать, да только зачем такие непорочные жены родятся? Лучше бы уж им в раю быть, с ангелами, Бога славить. А этот «прелюбодей», которого Штаден для нее состряпал, – ловкий, сукин сын! В приказе служит писарем: лиса и волк – все тут. За перо возьмется – у мужика мошна и борода трясется. Прелюбодей, мздоимец, пьяница и казнокрад. Давно бы ему на виселице быть. Но, если перевешать всех таких, кто же тогда над честными людьми подлости совершать будет? Коли не будет зла, так не будет и добра.
Спасибо поганому немцу. Второго негодяя в дело пустил для пользы его, Василия Грязного.
Несчастная Феоктиста! Пропала! Что поделаешь? Не судьба ей, стало быть, жить с ближним к царю вельможею. Не по себе, матушка, дерево срубила!
Теперь самое время освободиться от нее.
Так думал Грязной.
В Кремле, во всей Москве переполох: изменил первый воевода государев – Курбский! Иван Васильевич объявил себя «в осаде» – никого к себе не допускает, даже царицу и детей. Сам тоже никуда не выходит. Со звездочетами, ведуньями и знахарками совещается. Духовника и того к себе не допускает.
Под шумок ему, Грязному, удобнее разделаться с Феоктистой.
Веселый, возбужденный, приблизился он к своему дому.
Позвав конюха Ерему, отдал ему коня.
На пороге перекрестился; засучил рукава, приготовился прыгнуть на «любовника», разыграть ревность.
Вошел в сени, не выпуская кнута из рук. Тишина. Прошел на носках внутрь дома. Прислушался. Что такое? Сел на скамью: вот-вот выскочит этот дьявол, проклятый писарь, чтобы ему… Удивительная тишина; никогда такой и не бывало.
Посидев немного, Грязной не на шутку всполошился; лицо его покрылось краской; кольнула мысль: «Уж и впрямь не грешат ли?» Затрясся весь, вскочил, рванулся в опочивальню жены с криком:
– Феоктиста! Жена!..
Комната пуста. Гаркнул, что было мочи, на весь дом:
– Феоктиста, где ты?!
Но не только Феоктиста – никто из дворовых не отозвался, словно все умерли.
«Свят, свят!»
Обошел дом – пустота. Крикнул конюха Ерему. Дрожа от страха, вошел Ерема в дом, бормоча что-то невнятное.
– Говори, свиная харя, где хозяйка?.. Где все люди?
– Не ведаю, батюшка Василь Григорьич!..
Встал на колени.
– Как же это ты не ведаешь?!
– Коней водил на реку… Вернулся – никого нет.
– Приходил ли кто тут?
– Приходили какие-то мужики… Посидели, ушли.
– Кто приходил?
– Не ведаю!
Грязной с размаху хлестнул Ерему кнутом.
– Вот тебе, дурень! Вот тебе!
На весь дом заревел Ерема, почесывая спину.
– Молчи, боров! Убирайся!..
Ерема исчез.
Грязной стал обшаривать все уголки в доме, полез и на чердак. Там нашел притаившуюся в темноте старушку-ключницу Авдотью.
– Ты чего, старая ведьма, от хозяина прячешься? Иль с домовым грешить потянуло? Где хозяйка?
– Не ведаю, батюшка Василь Григорьевич!.. Уволь, миленький, добренький! Батюшке твоему служила верно, матушке твоей служила праведно… тебе, батюшке, и Феоктисте Ивановне, матушке…
– Служила верно… Служила праведно! – передразнил ее Грязной. – Лукавая причетница… Говори: где хозяйка? Говори, иль убью! Жить осталось тебе!.. – закричал он, толкнув старуху ногой.
– Батюшка, родной мой!.. Как перед Господом Богом, покаюсь тебе: приходили тут двое каких-то и увели твою супругу, нашу матушку Феоктисту Ивановну…
– Охотою пошла? – прошипел Грязной.
– С охотою, батюшка, с охотою… Слепая я, запорошило мне глазыньки, не видела кто, а слышала, будто согласилась Феоктистушка, а ее ласкали, лобызали… Слышала… не скрою.
– Лобызалась… она? Сама она?! – закричал не своим голосом Грязной.
– Лобызалась, батюшка, лобызалась!.. Грех скрывать… Стара я, не разглядела… Очи мои, говорю, запорошило, батюшка.
Василий Грязной сломя голову бросился по лестнице вниз в дом. Никогда в жизни не испытывал он такой жгучей обиды и тоски. Не хотелось и глядеть на пустые комнаты. Вот так Феоктиста! Ужели она решилась?..
Сам того не замечая, он начал с ревностью вспоминать: какие мужчины ходили к нему в дом и на кого она посматривала. Всех перебрал, всех вспомнил… а потом стал себя успокаивать: «Не может того быть – не такова Феоктиста: решиться на это!..»
Обтер выступивший на лице пот, вздохнул.
Да… трудно примириться с такою обидою. Ведь дорога не Феоктиста, дорога – честь, честь добродетельного дома, честь важного государева слуги.
Но что же не идет этот образина – Штаден? Непонятно.
– Ерема! Дуралей! – исступленно, во все горло крикнул Грязной. – Коня!
Растрепанный, заплаканный, робко выглянул из-за двери конюх.
– Чего поводишь бельмами? Коня!
Ерема скрылся.
Опрометью выбежал из дома Василий Грязной, вскочил на коня и помчался к Штадену.
В голове одно, жгучее, мучительное, вытеснившее все мысли: «Куда делась жена?»
Мелькали церкви, дома, деревья, люди, собаки… Ничего не замечал и не хотел замечать Грязной. Он горел весь, как в огне.
Штаден только что закрыл корчму, мечтая о свидании с Гертрудой. Втихомолку он продолжал ухаживать за ней. Гертруда от скуки не прочь была разыграть влюбленную.
Выйдя за изгородь, он вдруг увидел в клубах пыли скачущего прямо на него верхового. Ба! Сам Василий Григорьевич. Милости просим.
Грязной спрыгнул с коня, выхватил из ножен кинжал и направил его прямо в грудь немцу.
– Отвечай, немецкая образина! Отвечай!.. – задыхаясь от злобы, прошипел Грязной. – Где моя жена?!
Штаден в страхе отскочил от него.
– Ума лишился!.. Ума… лишился!.. Уйди!..
– Говори, супостат! Где жена? Убью, как собаку!
– Почему немец должен знать, где чужие жены?
– Где твой «любовник»? Где этот вор проклятый? Я его зарежу!.. Убью!..
– Опомнись, Василь Григорьич…
– Обманщики, воры, сволочи!.. – продолжал, размахивая кинжалом, кричать Грязной.
– Не подобает царскому вельможе…
– Молчать!.. – толкнул немца в грудь Грязной. – Были в моем доме вы или нет?
– Не были… Будем завтра… как ты приказал, – залепетал испуганный Штаден.
Из рук Грязного выпал кинжал. Штаден услужливо нагнулся, поднял, обтер пыль с клинка, подал Грязному. С удивлением и опаскою отошел подальше. На Василии лица нет: побелел, глаза растерянно-неподвижные… «Где же она? Куда девалась? И кто те люди?»
Он быстро вскочил на коня, поскакал обратно в Китай-город, оставив в крайнем недоумении Генриха Штадена.
* * *
Сильвестра нет.
Адашева нет.
Анастасия умерла.
Брат Юрий тоже.
Митрополит Макарий преставился.
Курбский изменил.
Казанский поход, слава юных дней – все отошло в вечность.
Прощай, молодость! Прощай, добро и мир. Прощай, вера в людей. Нет возврата былым чувствам радости и любви. Все рухнуло, обмануло! Завело в тупик! Вместо тихой, мирной заводи – бушующий поток, низвергающий то, что казалось незыблемым.
Дни и ночи бродит по своей опочивальне полуодетый, непричесанный, убитый горем царь Иван.
Кому верить?
«Андрей! Князь Курбский. Чего ради ты изменил царю?»
«Зачем? Чего тебе не хватало? Разве царь не ставил тебя выше всех своих воевод?! Никому тех тайн не открывал он, царь, какие были открыты тебе. Ужель тебе, князю, король литовский ближе родного государя? Ужель чужеземцы дороже твоему русскому сердцу, нежели свой народ? Не бесовское ли наваждение одурманило князя Андрея?»
Целые дни в хмуром раздумье бродит по дворцу Иван Васильевич и все думает… думает… И никак не может ответа найти на свои вопросы.
Ему теперь известно, что с Курбским бежали и его сообщники, и в их числе коварные дьяки Колыметы – змеиное отродье, отогревшееся под боком у царя, и другие.
Что за люди? Кто они?!
Враг. Курбский – враг. Иуда!
Иван Васильевич вслух произнес: «Иуда!», и на лице его застыла растерянная улыбка: «Неужто?»
И снова подступили к горлу слезы, и снова стало душно, трудно дышать. Кружка холодного пива не помогла. Никак не заглушить мысли об обидах. Снова жаль самого себя, как последнему нищему, бедняку, как одинокому, беспомощному изгнаннику, не имеющему ни приюта, ни друзей.
Воспоминания не дают покоя.
Обиды, оскорбления и всякое бесчиние бояр Шуйских, Пронских, Шкурлятева, Шемяки, Турунтая, Кубенского, Палецкого снова воскресли в памяти.
Как будто не в детстве то было, а теперь…
Вот лежит в гробу отравленная боярами мать…
Умирает в чулане от голода и неисходного сидения в железных оковах ближний друг и любимец его, малютки-царя, Оболенский-Телепнев.
Берут опекуна – князя Бельского… и убивают, убивают его на глазах ребенка, будущего царя.
Дьяку и верному слуге царевича Федору Мишурину отрубают голову.
За что? За то, что все эти люди заботились о сироте, об одиноком ребенке. О нем – будущем царе Иване!..
Мудрого митрополита Даниила, наставника великого князя, Шуйские лишают сана, изгоняют из дворца…
Не они ли подняли мятеж в Москве? Схватили на глазах самого Ивана Васильевича князя Петра Щенятева и выслали его из Москвы?! Бесчинствуя, не они ли метали камни в келью митрополита Иоасафа?
Сколько раз в присутствии его, отрока, нападали они на приближенных к нему сановников, насильственно врываясь во дворец с мятежной оравой новгородских боярских детей. И не они ли сеяли ненависть и измену в Новгороде, восстанавливая новгородцев против Москвы и великого князя?
И все же Курбский хуже их, гнуснее всех изменников! Да будет проклято имя его! Собака!
Анастасия не любила Курбского. Чуяла благочестивая душа недоброе. Много раз приходилось обелять, всячески защищать перед ней изменника Курбского. Ей не по сердцу было упрямство князя, его усмешливость, его гордыня и витиеватость.
Никто так много не говорил о себе, как Курбский. Он тщеславен, честолюбив и вместе с тем скрытен. Анастасия не любила даже его походки, мягкой, неторопливой, какой-то осторожной, крадущейся, зловещей.
Анастасия так и говорила: «Опасайся Курбского». Но ничего этого тогда не замечал он, царь. Давно ли Малюта предупреждал? И ему не поверил! Словно сатана помогал изменнику затуманить глаза царя. Курбский!
Перед отъездом в Юрьев стоял он на площади, у собора Успенья, и, обнажив голову, целовал крест государю в присутствии митрополита.
Лицо его было правдивым; смирение, набожность и преданность звучали в словах его. Царь не взял с него письменной крестоцеловальной грамоты, как с других воевод.
«Увы мне! – опустившись в кресло и закрыв руками лицо, тихо, про себя, произнес Иван Васильевич. – Сбылось. Прости меня, Анастасия. Покарал меня Господь!»
Не любила покойная царица разглагольствований Курбского. «Не от чистого сердца те речи», – говорила она. Ей казалось, что ученостью и книжностью своею князь норовит ослабить прямые дела царя, заботы его о государстве. Царица уверяла, будто Курбский морочит ему голову. Знает, как государь любит книжность, и ради того, чтоб помешать ему, увести его в сторону, поднимает споры о древних пророчествах.
Царицыным словам не было веры тогда. А теперь – все это правда. Если бы собрать красивые и мудрые речи, которыми Курбский щеголял перед царем, то можно было бы сложить целую гору из словес верности и чести – гору выше, прекраснее Арарат-горы!
И все это было обманом.
Курбский храбр. Сам царь видел его отвагу в боях.
Но что стоит его былая бранная храбрость, когда в последнем бою у Невеля четыре тысячи поляков побили предводимые им сорок тысяч? Чего теперь, после измены, стоит вся его прежняя служба?
Был храбр некогда и Богдан Колычев-Хлызнев, да в прошлом январе бежал в Литву, бросив войско, которое вел к Полоцку сам царь. И не он ли донес королю о путях движения русского войска!
Курбский назвал его «предателем», проклинал, а теперь и сам.
С такими воеводами-предателями погибнет Русь!
Иван Васильевич побледнел, вскочил с кресла, заскрежетал зубами. Лицо его исказилось страшною злобою: «Нет, Русь останется!»
– Не завладеть вам короной! – прошептал он с пеной у рта.
Снова появилась мысль: если Курбский – его лучший друг и самый надежный воевода – изменил, то чего же ждать от других бояр и князей?
Непрочен царский трон. В опасности Русь.
– Не допусти, Господи! – шепчут губы царя.
Холодно стало, пусто, и куда-то вдаль поплыли иконы, лампады, дрогнули и распались стены царской опочивальни.
Царь стиснул руками голову и со стоном повалился в кресло. Пена выступила на углах рта.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.