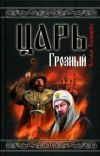Текст книги "Море"
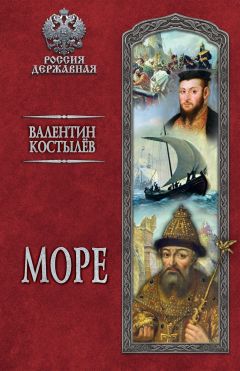
Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Глава IX
В корчме мрак. Она закрыта.
Но не ушел из нее Генрих Штаден.
Не всегда он рад многолюдству. Бывают минуты, когда он торжествует в одиночестве. Тогда он полон мечтами о будущем. Приехать в Германию только с золотом и мехами, нажитыми в варварской Московии, – это слишком мало для такого деятельного немца, как он, Генрих Штаден. Столько всего видеть, столько всего претерпеть, внедриться в самую гущу дворцовой жизни – и не донести ничего полезного своему императору! Это недостойно немца. Генрих Штаден никогда не забывает, что он прежде всего немец, политик, дипломат. Он хорошо знает, в каком жалком положении империя… Римская империя! Во всех странах Европы смеются над этой «империей». Никто ее не слушает, никто ее не боится. Немецкие земли императора в огне междоусобных распрей. Разгорается борьба между немцами-протестантами и немцами-католиками… Не от хорошей жизни пришлось покинуть родную семью и скитаться на чужой стороне.
Заставить Европу бояться немцев, примирить всех, особенно баварцев, с императором, объединить немцев, поднять их дух – это значит втянуть Германию в давно задуманное им, Генрихом Штаденом, дело. Бедность и недовольство как рукой снимет, если немцы послушают его, Штадена.
Около слабого огонька плошки трясущимися от волнения руками разложил он лист бумаги. Сверху надпись:
«План обращения Московии в имперскую провинцию».
Далее рукою Штадена писано: «Как предупредить желание крымского царя с помощью и поддержкой султана, ногаев и князя Михаила из Черкасской земли завоевать Русскую землю, великого князя вместе с двумя его сыновьями пленниками увезти в Крым, захватив великую казну».
Штаден в крайнем возбуждении сгорбился, продолжая свое писание. Свалившаяся откуда-то сверху крыса испугала; задрожал – показалось, будто за ним следят. Встал, осмотрелся, прислушался… Никого.
«…турецкий султан уже отдал приказание пятигорским татарам, которые обычно воевали Литву и Польшу, чтобы они держали с Польшей перемирие и чтобы польскому королю тем легче было напасть на воинских людей великого князя. Все это весьма на руку крымскому царю. Великий князь не может теперь устоять в открытом поле ни перед кем из государей…»
Освещенные огнем полчища тараканов на стене остановили внимание немца.
Он улыбнулся.
Вот таким же полчищем двинутся на Москву и германцы, втянув в союз Литву, Польшу и других соседей царя…
Лицо его просияло: вспомнил!
«…Шведский король вместе с лифляндцами воюет с великим князем…»
Тараканы! В вас есть что-то глубокомысленное. Вот он, Генрих Штаден, смотрит на вас: ему нравится, как вы шевелите усами, о чем-то раздумываете; он тоже любит похвастаться своими усами… усами ландскнехта, немецкого рыцаря… Но дело, конечно, не в усах, а в том, что вы вот, опасаясь света, собрались все в кучу, сидите, думаете и ждете… Чего? Вы ждете, когда наступит темнота. Тогда вы всею ордою двинетесь в те места, где спрятан хлеб, где вам есть пожива… Вы хитры… нет, вы умны. Зачем лезть на верную погибель, с дурацкой честностью, прямотой, достойной нелепого осла? Не лучше ли посидеть, обождать, пошевелить в раздумье усами, а когда уйдет этот несносный Генрих Штаден, заняться «делом»… Хитрость спасает ничтожных – вы правы!
Увы, сегодня Генрих не уйдет скоро. Повремените, не торопитесь… Глядите на его перо. Он может поднять весь мир на московита. Вы еще не знаете, на что способен немец.
Итак…
«…Чтобы захватить, занять и удержать страну великого князя, достаточно иметь двести кораблей, хорошо снабженных провиантом; двести штук полевых орудий или железных мортир и сто тысяч человек войска. Так много надо не для борьбы с врагом, а для того, чтобы занять и удержать всю страну».
Щеки Генриха покрылись густым румянцем.
Он поднялся из-за стола, потирая руки. Ему так ясно представляется победоносный поход императора Германии на Москву. Начать его надо обязательно с Поморья.
Гордитесь же вы, презренные твари, кабацкие тараканы! Вы являетесь единственными свидетелями того, как создается гениальный план порабощения московитов.
«…воинские люди императора должны быть такие, которые ничего не оставляли бы в христианском мире: ни кола ни двора» (weder Haus, noch Hoff).
Волнение охватило Генриха с такою силою, что рука его стала дрожать, пришлось отложить перо в сторону. Хотелось еще написать о пушках. Они должны будут разбивать ворота деревянных городов, а мортиры должны все сжигать в деревянных городах и монастырях…
Но об этом после… Надо поглубже убрать написанное… На сегодня довольно.
Генрих мягко, на носках, подошел к подполью, рассмеявшись своим скрытым мыслям, открыл подполье и спустился в него.
* * *
Боярин Никита Фуников, выпятив озабоченно губы, сопя, прикрыл окна изнутри плотными, непроницаемыми ширинками; приказал слугам закрыть ставни со двора накрепко и прибрать до времени псов в сарай, чтоб не шумели.
Ожидались: боярин Иван Петрович Челяднин, а с ним князья – Александр Борисович Горбатый и Иван Иванович Пронский-Турунтай.
Боярин Никита даже слезу пролил: вот времечко-то! Боярину, знатному князю, славному воеводе, стало опасно с другими такими же вельможами не только дружбу вести, а даже и слово молвить на людях. Во дворце ли, в приказах ли, даже в храме, на улицах и площадях от друзей отворачивайся, прикидывайся невидящим, неслышащим, чужим, незнакомым. Черная, тяжелая туча мрачных ожиданий повисла над Москвою. Ах, князюшка Андрей Михайлович, горячая ты голова! Поторопился. Надо бы тебе через людей, через бродяг каких-нибудь, уведомить своего друга, Никиту Фуникова: «Собираюсь, мол, утекать в Литву». Бессердечный ты человек! Лишь бы самому было хорошо, а как другие – Бог спасет. До них тебе и дела нет. Грешно так-то. Жену и ту бросил, не пощадил, да еще с малым сыном. По-божьему ли это? И всех друзей своих под царскую опалу подвел. Боярина Телепнева-Овчину не иначе как через тебя задушили царские псари. «Содомский грех» – одна придирка. Басманов Федька подучен был врать. Телепнев-Овчина – ближний друг Курбского, – всем то известно. Эх, эх, князь! Видать, все друзья только до черного дня. И клятвы твои только на устах, ради успокоения были, а не в сердце. Тухло получилось. Предал ты лучших, самых близких своих приятелей.
«Что делать? У царя глаза открылись. Страшно. Многое теперь ему известно. Малюта со своими пронырами-дьяками и палачами уже выпытал целые вороха боярских тайн. Теперь по ниточке начнут клубок распутывать, и Бог знает, кого завтра-послезавтра?
Теперь вот попробуй докажи Ивану Васильевичу, что любой князь, боярин может, как в старину, по своей воле невозбранно отъезжать, куда захочет, рассердившись на великого князя. И в мыслях то – боже упаси. Было времечко – пожили люди. Куда хочешь, туда и утекай: в Литву так в Литву, в Польшу так в Польшу, в Ерманию так в Ерманию, а ныне… изменниками тех людей величают, ловят их и головы им секут. А за что? Не крепостные же люди: боярин, князь, дворянин? А царь всех ныне к своей земле прикрепил. По-божьему ли – древние обычаи менять?»
Фуников прислушивался к каждому шороху, охваченный желанием поскорее сойтись с друзьями, да погоревать с ними наедине, да поразмыслить сообща: как быть дальше? Где искать спасения? Опасность велика. Государь уже не тот, что был. Срубить неповинную голову ему стало нипочем.
Но вот послышались шаги за окнами. Фуников встрепенулся, побежал к входной двери.
Челяднин, Горбатый и Пронский-Турунтай, одетые просто, в темное, только сапоги зеленые, сафьяновые. Помолились на иконы, облобызались и расселись по скамьям. Молча переглянулись. Тяжело вздохнули.
– Горько! Горько, Никита свет-Афанасьевич, – голосом, похожим на стон, проговорил Челяднин.
– Так оно и есть, друг Иван Петрович, – горько, горько, но что же теперь нам делать?
Задумались. Старик Пронский-Турунтай скорбно поник головой, положив нога на ногу.
– Стал я на службу великим князьям еще при Василье, три десятка с годом назад… – сказал он. – На рубеже в Нижнем Новеграде служил… Плакать хочется – хорошо в те поры жилось!.. На Волге-матушке воеводой был, в сторожевом полку служил и ни от кого худого слова не слыхивал… опричь похвал… в бояре пожалован был… Нет такого похода, где бы не всадничал Турунтай, и вот теперь на седую голову мою гнев государев обрушился… За что? И сам того не ведаю… Поручную запись стребовал от меня царь о неотъезде… Срамота.
– С меня тоже, батюшка Иван Иванович, стребовали!.. – хмуро проговорил Челяднин. – Дьяки да подьячие, словно бесы скачущие, обволокли меня, жмут, с ножом к горлу лезут – государь-де приказал взять с тебя поруку многоденежную и со многими подписями!.. Что тут будешь делать? Дал. Леший с ними! Тьфу!
– А у меня тоже. И не токмо у меня – у сына малого взял подпись. Господи, што же это? Да и письменностью-то нас Всевышний не умудрил, пиши, говорят, что не отъедешь в Литву либо иное чужое царство! Как вот теперича ускакать к князю Андрею Михайловичу в Литву?
Фуников, зашуршав кафтаном на шелку, наклонился, тихо спросил:
– Аль зовут?
Князь Горбатый, худой, с жиденькой бородкой, вздохнув, шепотом ответил:
– Зовут. – Узенькие раскосые глазки оживились, вокруг рта улыбчато разбежались морщинки.
– А кто?
– Чернец один…
Фуников посмотрел на Челяднина.
– Не Малютин ли какой? Подсылает и он. Поймал так-то Гаврилу Подперихина один пес… Тоже чернец. Можно ли верить? А?
– Не! – хитро подмигнув, затряс головою Горбатый. – Подлинный, самый литовский… Клейменый. На ягодице знак… Показывал.
– Берегись бродяг… Они и туды и сюды. Сумы переметные, – строго погрозил на него пальцем в перстне Челяднин.
– Что же нам, дорогие, одначе, делать? Подумаем-ка о том, куда нам-то приткнуться. Как вот теперь в Литву отъехать?
– Опасно, братья, опасно. Сидеть спокойно надо, – покачал головою Челяднин. – Отъедешь – десяток-другой своих же друзей за собой на плаху втянешь. Сам того не хотя, в яму спихнешь поручителей… Да и баб их и ребятишек сгубишь. Кругом кабала.
– Будто паук, опутал всех нас царь-государь хитрою паутиною… Никак не вырвешься. Цепкая, – скорбно вздохнул Турунтай.
– В одной паутине запутаемся все мы, чует мое сердце. Пошлет и о нас обо всех государев дьяк синодики в монастыри… Хитрый царь. Спервоначала истребляет, а посля заставляет монахов Богу молиться о душах, им же загубленных. Заботливый.
– Коли утекать в Литву, так сообща, всем вместе, с поручителями…
– Не выйдет так-то… За меня поручился Мстиславский – побегу ли я? Нет. А я поручился за него… Побежит ли он? А вместе всем бежать не удастся… Зол я на Ивана Васильевича, одначе вижу – перехитрил он всех нас. Так сделал, что и шевельнуться страшно. Мудрец великий, а мы ротозеи, проспали свое время.
– А за меня поручился Бельский…
– Бельский никогда не побежит…
– То-то и оно! Говорю: тонко царем придумано.
– Вот тут и беги… – развел руками Фуников. – А ну-ка, Иван Петрович, расскажи-ка нам, как тебя допрашивали?
Иван Петрович, высокого роста, сановитый старик, приободрился:
– Царь Иван Васильевич милостиво сказал мне: не дружи с изменниками, будь подале от князюшки, моего брата, Владимира, и я сделаю тебя первым боярином и судьею на Москве… Он сказал мне: ты – честный воин и праведник, не мздоимец, как иные, не лиходей, человеколюбив и мудр… Будь наибольшим судьей у нас…
Челяднин с самодовольной улыбкой осмотрел разинувших рты от удивления своих друзей.
– Так-то, братцы мои… А супруга наша, боярыня, в вотчину уехать поторопилась, почла меня уже погибшим, голову сложившим за правду.
– Выходит, ты обласкан царем?
– Будто этак… – рассмеялся Челяднин. – Однако кривое веретено не надёжа… Не лежит у меня сердце к службе Ивану Васильевичу…
– Отказался?
– Нет. Для нашего же блага принял я от царя сию честь. Можно ли отказаться?
– Честь великая, неча нам тут притворяться… Кто бы из нас от того отказался? – произнес Фуников. – Польза всем – свой человек.
– Буде уж, Никита Афанасьевич. У тебя ли не честь? Вся казна под твоею рукою. Кому завидовать, только не тебе. Тоже близок к великому князюшке.
– Не время вам, бояре, спорить. Честь у нас у всех одинакова, – укоризненно произнес князь Горбатый. – Всем, видать, придется у Малюты побывать.
Словно холодной водой окатило бояр при упоминании имени Малюты. Вздрогнули, побледнели, плюнули с досады: «Штоб тебе! Типун тебе на язык!»
– Буде вам. Поживем еще, поторжествуем на Руси… Тем лужа не погана, что псы из нее пили, – сказал Челяднин.
Горбатый рассмеялся жалко, принужденно, ибо и сам он испугался своих слов. Да, Малюта шутить не любит. Иван Васильевич умеет подбирать злодеев. Ишь, какого дракона откопал. Васька Грязной, Гришка, его брат, Басмановы, князь Вяземский… Разве это люди? Лучше не думать о них. Разбойники один к одному. На боярские вотчины глаза у них разгорелись, завистливы, алчны. Взалкали о землишке…
– На чем же порешим мы, друзья мои, дорогие гостьюшки? – спросил Фуников.
– Обождем, – сурово промычал Челяднин. – Обождем малость. Не велика доблесть уподобиться Курбскому. Не пощадил и жены своей со чадом… Господи, вот народ! Не след торопиться. Обождем. Бог милостив. Осторожность. Мудрое слово, святое… Иди тишком, где склизко.
Согласились, чтобы никому с отъездом в Литву наперед не лезть. Обождать еще месяц-другой до удобного случая, а там видно будет…
* * *
Воскресный день.
После утреннего бдения в белесоватом рассвете утихли мирные, молитвенные благовесты. На московских улицах по бревенчатым, омытым утреннею росою мостовым, окаймленным высокою травою и репьем, тихо, степенно расходятся по домам богомольцы, одетые в праздничные кафтаны, зипуны и однорядки, – строгие, задумчивые. Женщины в длинных ферязях, сарафанах бредут молчаливыми вереницами, опустив глаза долу. Богомолец чувствует себя облегченным от повседневной суетной жизни. Каждый представляется сам себе лучше, чем в будни: чище, совестливее, добрее, смиреннее, – и не скупясь оделяет грошиками сидящих в репье у канав нищих, полунагих, юродивых, убогих… «Рука дающего не оскудевает». Каждый твердо верит в то, что его лепта после подаянья вернется приумноженной. Выше нет радости для богомольца, как чувствовать себя праведником, которого ждет милость Божья… А как приятно сердцу приходить к церквам с верою, с приношением, со свечою, с просфорою, с фимиамом и ладаном, с каноном, с кутьею и с милостынею.
Все то сделано. Душа торжествует. А там, возвратясь в свой дом, как радостно мужу с женою и домочадцами в молчании и со вниманием и с краткостоянием молитву сообща, по-семейному сотворить да за праздничную трапезу чинно, без смеяния и причуд сесть.
А днем как весело совершить прогулку по зеленым улочкам и полянкам, показывая свое благочиние и наряды, цветущую молодость, красоту, мужское дородство и степенную, умудренную годами тихую старость…
В один из таких праздничных дней в послеобеденное время на Печатный двор въехал нарядный, знатный всадник. Охима, стоявшая в это время на склоне холма, в саду, под стенами Печатной палаты, еще издали заметила его. Она побежала в палату и доложила о всаднике Ивану Федорову.
Въехав во двор, всадник соскочил с коня, поманил к себе воротника-татарина, отдал ему повод.
Иван Федоров узнал в высоком, чернокудром, красивом госте ближнего к царю человека, Бориса Федоровича Годунова. Поклонился ему низко-низко.
– Добро жаловать, милостивый батюшка Борис Федорович. Рады видеть тебя у нас, в нашей Печатной палате…
Годунов приветливо поклонился выбежавшим из палаты друкарям-печатникам:
– Давненько сбирался я к вам, да все недосуг, винюсь, добрые люди, винюсь… – мягким, приятным голосом ответил он на их приветствие.
– Пошто пожаловал к нам, гость дорогой, Борис Федорович? – еще и еще раз поклонившись, спросил Иван Федоров.
– Государь-батюшка, наш отец родной Иван Васильевич, присоветовал мне побывать у вас да посмотреть, что и как и в чем нужду имеете. Не обижают ли, спаси Бог, вас? Обо всем поведайте мне без утайки и без страха… Страшитесь одного: нерадения к делу, лености да супротивности государевой воле… А того уж, как ведомо мне, у вас и в помине нет, чтоб грешили вы против Господа Бога и премудрого государя…
– Што ты, милостивец, што ты… творим волю государеву в полную меру сил своих, нелицеприятно, ибо несть иной власти на земле, коя была бы от Бога, опричь царской, великокняжеской…
– Добро, братья, светло от ваших слов на душе, покажите же мне плоды усердия вашего, да как того добиваетесь вы и на что благословил вас Господь Бог.
После обмена приветствиями Борис Федорович, сопровождаемый печатниками, вошел внутрь Печатной палаты.
Охима, спрятавшись в кустарниках, следила за беседою Годунова и печатников. У нее была своя мысль. Ей хотелось что-нибудь узнать о кораблях, на которых поплыл ее дружок, пушкарь Андрей. Вот ведь так под молодою грудью сердечко и полыхает… Так уж и не терпится. Непривычно одной…
Решила подождать, когда Годунов выйдет из палаты, и спросить его: не знает ли он чего о тех кораблях?
Иван Федоров, знакомя Годунова с хитростями книгопечатания, сообщил ему, что буквицы русские, полууставные, придуманы самими русскими, не кем иным, как русскими. Латинский и немецкий шрифты не служили им образцом. Говорил он об этом с явной гордостью.
– Плачут ныне книжные писцы. Отбиваете у них деньгу, – весело рассмеялся Годунов, рассматривая груду отпечатанных книг «Апостола». – Много хлопот нам с книжными писцами. Воровское искажение перевода одного списка на другой трудно улавливать и добиваться единого чтения, трудно!
Иван Федоров сказал Годунову, что книжные писцы не только плачут, но и злодействуют против друкарей, и многих на улице побивали и грозят хоромину Печатного двора сжечь, а друкарей всех истребить. Многие бояре и приказные идут против печатания же, тайно натравливая чернь на Печатный двор.
– Живешь постоянно под страхом… И сам того не чуешь, отколь беда нагрянет, – вздыхал Иван Федоров.
Годунов внимательно слушал его.
– Христа распяли за новины, за противоборство старине – к лицу ли нам, грешным, пенять на свирепое невежество неразумных? Новины во все времена рождались в грозе, в крови и слезах. Однако я буду бить челом государю, чтобы прислали тебе стрелецкую сторожу… Боже сохрани от поджога.
Затем, помолившись на иконы, Годунов вышел на крыльцо.
Тут-то Охима и подошла к нему.
– Добрый боярин… – тихо сказала она, низко поклонившись. – Ведомо ли тебе, где ныне корабли, что отправил батюшка-государь в заморские края?
Борис Годунов удивленно вскинул бровями:
– Зачем тебе знать, где ныне те корабли?
– Мой дружок там, пушкарь Андрей Чохов, – смущенно произнесла Охима. («Какой красавчик!» – мелькнуло у нее в голове, когда она смотрела на Годунова.)
Годунов приветливо улыбнулся Охиме:
– Знаю я пушкаря твоего… Добрый пушкарь, изрядный… Скоро вернется он к тебе… скоро… Не тужи! А глаза у тебя бедовые… Смотри. Не согреши против дружка. – И, обернувшись к Ивану Федорову, сказал: – Из дацкого царства весточку прислал нам с мореходами посольский дьяк Совин. С Божьей помощью счастливо добрались наши люди в ту страну. Бог милостив, привезут они и тебе, что ты наказывал. Ныне плывут в аглицкую землю.
Охима покраснела, смутилась, когда, обернувшись к ней, Годунов сказал:
– Времена переходчивы, а девичья грусть что роса… от тепла высыхает.
Что было ей ответить на это?
– Не высохнет, – отвернувшись, смущенно ответила она.
Годунов рассмеялся. Друкари окружили его. Татарин-воротник подвел коня. Ловко вскочил на него Годунов, стройный, ласковый, простой.
Попрощавшись со всеми, он тихо поехал по двору.
Охима проводила его восхищенными глазами до калитки. Несколько раз тяжело вздохнула: «С таким бы красавчиком на край света пошла…»
Долго глядела ему вслед, пока он не скрылся из глаз, тогда она подумала: «И Андрея тоже взяла бы на край света…» И рассмеялась.
Глава X
Разношерстная ватага бродяг, собранная Василием Кречетом, приближалась к монастырю близ Устюжны Железнопольской. Дорогою бродяги ограбили торговый караван, пробиравшийся с севера в Москву. Василий Кречет, развалясь на подушках, лежал в повозке, запряженной двумя крадеными конями. У него была охранная грамота, которую дал ему Василий Грязной. Он чувствовал себя боярином. Когда ему повозка надоедала, вылезал наружу, строгим взглядом осматривал своих товарищей и то ругал их, то шутил с ними.
– Терпите, братцы, народ бессовестный ноне… Нет правды. Один раз украл – и уж навек вором стал. Што это такое? А того не понимают: воровать – не торговать, больше накладу, чем барыша… Не горюйте, братцы, – вором пуста земля не будет, хотя его и повесят. Воровской род все роды переживет.
– Правду сказываешь, атаман: вора повесят, на то место новых десять, – отозвался бойкий молодчик, одетый в кольчугу, Семка Карась.
Кречет погрозил ему кулаком:
– Не мудри! Будь смирен. Говори всем: лучше по миру сбирать, чем чужое брать.
Бродяги сипло расхохотались.
– Чего ржете?
– Уж больно смешно… «чужого не брать». Да как же это так? Чудно́!
Хохотали до слез.
Семка Карась развеселился, хоть куда.
– Во Святом Писанье сказано: «Кто украл – один грех, а у кого украли, тому десять». Стало быть, вор праведнее…
Снова хохот на весь лес.
Василий Кречет важно осмотрел свою дружину и плюнул:
– С вами тока душу опоганишь…
И снова влез в повозку. Толкнул в бок возницу, совсем юного бродягу, одетого в женскую ферязь, прозванного Зябликом.
– Чего, гнида, дремлешь?
– Я, батюшко атамане, думаю…
– О чем те думать, коли атаман позадь тебя сидит?
– Об отце думаю…
– Чего о нем думать?.. Ноне я – твой отец и твоя голова.
– Жив ли он? Телепневские мы, Овчины, боярские… Ушел мой отец в лес… Казнил царь хозяина нашего…
– Стало быть, отец теперь жив будет и счастлив…
– Со Спиридоном, нашинским мужиком, ушел… Царя испужались… Боярыня напужала… Ревела на сходе. Да вот у нас дядя Ёж есть… Зовет он их обратно. «Дураки, – говорит, – не на нас гневается осударь, а на князей…»
– Живи и ты с умом, паря. Боярским слезам не верь. Притворчество. Поживились вы иль нет на усадьбе-то после боярина?
Снова важно развалился в повозке.
– Не! Боярыню пожалели…
– Вот уж за это не люблю мужиков. Гнилой народ!
– В лес, говорю, убегли мужики…
– Што ж из того? Давался дуракам клад, да не умели его взять. Э-эх, вы, лапти! А ты што ж с ними не утек?
– Отец не взял. Мне стало неохота, сироте, с теткой в избе сидеть. Ушел и я, со страху, с тоски убежал…
Немного помолчав, Кречет сказал:
– Вижу. Не горюй. Со мной человеком станешь. Погляди кругом, какая благодать. Какой лес! Самый наш приют… В лесу вольный человек – выше царя. Счастливее. Нет у него ни вельмож, кои могут его отравить, зарезать, удавить… Нет грабителей-дьяков. Вольный лесной человек сам кого хошь ограбит. Одни звери и птицы. Словно в раю. Особливо если кистень да сабля есть. Слушай, дурень, и учись. Помру – у кого будешь учиться?
По сторонам узкого проселка в гуще пышных папоротников, перемешанных с синими колокольчиками, высокие, прямехонькие сосны, и хотя день жаркий, солнечный, в проселке приятный сумрак и прохлада. Где-то поблизости кукует кукушка.
– Што есть боярин? – глубокомысленно произнес Василий Кречет. – Возьми вот Судный приказ… Работал я и там… Посылали меня дьяки боярские к купцам, вино штоб подбросить… Иду я к купцу, несу ему винишко, а за мной дьяк с целовальниками… Накрывают нас. Купца за горло: «Ах ты, сукин сын! Как смеешь вином торговать?» Тот божится, клянется, што и в уме-то у него той торговли не было… Ему не верят, спрашивают меня; я тыкаю пальцем в купца: «Продавал, продавал, мне продавал сей купчишко вино». Обоих нас грозят на съезжую стащить… Купец раскошеливается, откупается… Деньги – в боярскую мошну, да приказным – малая толика, и мне кое-што… Вот те и Судный приказ… А в Разрядном либо Разбойном приказе? Всяк разбойник, самый убивец, боярину доход дает… Казанский и Астраханский приказы так ограбили улусы луговой и нагорной черемисы, што я едва с голоду там не сдох… Застращали, до бунта довели да на царя все и свалили, будто то по его приказу… Вот те и бояре. На многих я работал… Да, по совести сказать, опротивело мне, стыдно стало; в лес вроде потянуло, на чистую работу, без предательства… Так-то, дружок. А ты вздыхаешь о своем боярине… Да черт с ним! Их еще немало осталось.
– Наш боярин, Митрий Федрыч, не такой. Он – справедливый, хороший… О боярыне того не скажешь… А Митрий Федрыч – как отец родной…
– Коли не врешь, благодари Бога, што его казнили. Всё одно ему бы не жить. Воры не любят, коли среди них честный кто объявится… Забодают. На рога посадят. И твоему боярину было бы то же. Воры любят одинаковых… как и сами они. Насмотрелся я на них!
Позади повозки бродяги затянули песню.
Василий Кречет впал в раздумье. Ежели не похищать эту самую грязновскую инокиню («леший ее подери!») и, не доехав до монастыря, сбежать, уйти в лес по своему обыкновенному делу, то в Москву тогда лучше и не показывайся, распрощайся тогда с Москвою навсегда, не придется уж тебе промышлять около приказов, не удастся морочить добрых людей, и навеки суждено будет остаться лесным бродягой. А это, пожалуй, теперь и не к лицу ему, Василию Кречету. В стольном граде, около приказных людей, все-таки прибыльнее, нежели в медвежьих трущобах у леших да ведьм. Не такой он стал, Кречет. А разбойникам, бродягам, что идут с ним в Устюжну, надо говорить иное… Пускай надеются, что Кречет будет с ними разбойничать по лесам. А на деле: удостой только, Господи, игуменью, оную блудницу, увезти к Василь Григорьичу, а там всех бродяг по шеям… Правда, конечно, и то, что в лесных налетах, в битвах с купеческими караванами куда больше удали, куда веселее и честнее, нежели на гнусной предательской работе по указке боярских дьяков, но нельзя же разорваться. Надо выбрать что-нибудь одно.
«Ба! Каково заботушки-то! – почесал себе затылок Кречет. – И так хорошо, и этак не худо».
Зяблик тоже думал. Он тоже по-своему разбирался в том, что с ним происходило. Василия Кречета он слушал будто бы и со вниманием, а на самом деле его мысли были далеко. Он думал о своем отце и с горечью осуждал его: зачем отец не взял его тогда с собою в лес? Теперь вот скитайся с чужими людьми, да еще с разбойниками. Убежать? А как и куда? При случае все же надо освободиться от воровской кабалы. Грешно с такими людьми скитаться, еще грешнее из одного горшка с ними пищу принимать… Бог накажет. Отец учил сторониться лихих людей.
– Ты, курносый! Опять задумался? Мотри у меня! – погрозил ему пальцем Кречет. – Вот уж истинно: дурака учить, что мертвого лечить. Ты ему свое, а он тебе свое…
Долго ли, скоро ли – с разговорами-перебранками, прибаутками да песнями добрались-таки до того долгожданного монастыря, показали воротнику из-под полы кистень и хлынули в обитель.
– Где игуменья? – вылезая из повозки, грозно спросил Кречет первую попавшуюся ему на глаза черничку.
– Милые вы мои, нешто вы не знаете? – пролепетала она, дрожа от страха.
– Да ты не бойся. Чего трясешься? Мы люди простые, баб без нужды не трогаем. У нас ножички ростовские, молодчики мы московские, мыльце грецкое, вода московская! Так пропускай народ – отходи от ворот! Вот какие мы!
Кречета забавлял испуг чернички.
– Ладно, Дунька, не бойся… Указывай, где игуменья. Худа ей никакого не будет, постничаем. Мы народ жалостливый. Веди к ней.
Черничка проводила Кречета до самой кельи игуменьи.
– Пришли мы по ягоду, по клюкву, с царским указом. – И, обратившись к своим товарищам, Кречет крикнул: – Живей! Штоб у меня вихры завить, ус поправить, да и на своем поставить. Место, видать, ягодное. Поостерегитесь, однако, не завиствуйте. Кистенем облобызаю. Запрещенный плод сладок, а человек падок – вот и терплю, и вас остерегаю. Думаете, легко мне? Сам неустойчив.
Грузно шагая по ступенькам в сопровождении двух бродяг, поднялся Василий Кречет в келью.
Вошли. Помолились. Кречет как взглянул на стоявшую перед ним инокиню, так сразу догадался, что… «она». «Эге! Василий Григорьевич понимает!»
– Кто вы? Что за люди? – удивленно спросила инокиня.
– Охрана к тебе пожаловала, матушка игуменья… Агриппина ли ты? Постой, дай на тебя посмотреть… Ничего!
– В пострижении Олимпиада… По миру была Агриппиной…
– Тебя, ангельская душа, нам и нужно… В Москву приказано тебя, матушка, везти. Хочешь не хочешь, а поезжай. Не то силою скрутим. Глянь, сколько нас.
– В Москву?! – испуганно переспросила инокиня.
– Государево дело. Сбирайся в путь-дорогу… Не мешкай! Пора уж черничке счастью не верить, беды не пугаться.
– Коли государево дело, могу ли я ослушаться. Да будет на то воля Господня… Везите меня в Москву, – смиренно произнесла инокиня.
Бледная, дрожащая от страха, молча она стала на колени перед иконами.
Кречет и его товарищи сняли шапки, перекрестились.
– Всё в мире творится не нашим умом, а Божьим судом, красавица боярыня, – миролюбиво улыбнувшись, сказал Кречет, когда инокиня поднялась с пола. – Поешь на дорогу и нас накорми… Да нет ли у тебя винца-леденца? Не худо бы чарочку-другую за твою красоту испить.
– Вина у нас нет и не было. Ступайте в трапезную, там накормят, – тихо сказала она.
Выйдя во двор, Кречет внимательно осмотрел все кругом: и кельи, и сараи, и другие постройки.
– Бог спасет! Гляди, сколько у них тут всего понастроено. Што у них там, в сараях-то? Любопытный я человек. Совесть замучает, коли не погляжу. Люди тут, видать, добрые и безбедные. Вишь, в трапезную зовут. Недосуг, а надобно бы посмотреть. Пойдем всей оравой. Гляди, ребята, не балуй… Воровства и блуда не позволю. Где сладко, там мухе падко… Остерегитесь!.. Убью на месте, кто к черничкам полезет. Я бы и сам не того… Полакомился бы, да боюсь Грязного… Вдруг узнает!
«Что делать? Надо подчиняться, – вздохнули разбойники. – Истинно: воровской глаз корыстен. Так и хочется согрешить. А черничек много молоденьких и красивых… Главное, смотрят смиренно, просто… Никакого испуга. Вот тебе и лес, и глушь. Это смирение пуще лукавства задорит молодецкое сердце. Грехи тяжки!»
В трапезную избу изобильно втиснулись кречетовские ребята, так что повернуться негде и дышать нечем. Старая монахиня, кашеварка, с трудом добралась до стола.
– Плачь не плачь, а есть надо, – приговаривал Кречет, торопливо черпая ложкой постную похлебку.
– Такое дело, братцы, – разжевывая хлеб, отозвался на слова Кречета самый пожилой в палате – седобородый дядя Анисим. – Брюхо – злодей, старого добра не помнит.
– А много ли нам надо: щей горшок, да самый большой. Вот и всё.
Разговорились по душам: деревни свои вспомнили, словно бы и не разбойники, а честные посошные мужики после покоса собрались.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.