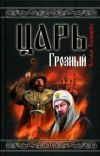Текст книги "Море"
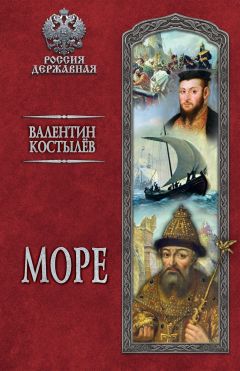
Автор книги: Валентин Костылев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Глава VII
Сильный стук в наружную дверь разбудил Феоктисту Ивановну. Отец ее, стоявший двое суток в Кремле на охране дворца, спал крепко, не слыша всё возраставшего грохота в дверь. Феоктиста, накинув на себя халат, побежала в его опочивальню.
– Батюшка… Батюшка!.. Очнись… Стучат… Ой, ой! Господи! Да что же это такое? Дверь ломают, батюшка!.. Дверь!..
Истома открыл глаза, вскочил с ложа и, не понимая, в чем дело, ухватился за саблю. Анисья Семеновна спрашивала в дверях, кто стучит. Раздался знакомый голос Григория Грязного: «Отворяй, старая ведьма!»
В открытую дверь ввалилась ватага опричников. Топот сапог, грубые голоса нарушили сон стрелецкого дома. Поднялась суматоха.
– Истома! – прозвучал в темноте пьяный голос Григория Грязного. – Одевайся. Государево дело есть до тебя.
Анисья Семеновна пришла из кухни с зажженной лучиной. Осветила озлобленное лицо Грязного.
– Полно тебе, Григорий, – чай, не глухие! – сказала она укоризненно.
– Видать, глухие, коли мешкотно дверь государевым слугам растворяете, – проворчал Грязной. – Скажи-ка старине, штоб поторапливался… Малюта Скуратов его требует.
– Не шуми. Поостерегись! – послышался голос рассерженного Истомы. – Одеваюсь.
Вскоре в переднюю комнату вышел одетый по-походному, как бы собираясь в караул, Истома Крупнин.
– Оставь саблю-то… Не нужна тебе она! – усмехнулся Грязной.
– Ты мал чином, штоб мною повелевать. Щенок неразумный! Государь-батюшка единственно может лишить меня сабли…
Истома поцеловал рыдавшую Феоктисту, перекрестил ее, облобызал и Анисью Семеновну и спокойным голосом произнес:
– Ладно. Идем.
Долго стояли обе женщины на крыльце, дрожа от страха всем телом, прислушиваясь к топоту удалявшейся грязновской стражи. Совершилось это все так быстро и неожиданно. Дома они стали на колени, вознося Богу молитву о благополучном возвращении Истомы домой.
Грязной и его стражники ехали верхами, Истома шел пешком, то и дело скользя и спотыкаясь в темноте. Он был спокоен, уверен в том, что тут или какая-то ошибка, или злоумышление его недругов. И в том и в другом случае Истома полагал легко оправдать себя. Он не чувствовал за собой никакой вины. С юных лет был верным рабом и слугой великих князей как Василия Ивановича, так и Ивана Васильевича; готов в любую минуту умереть за царя; нередко приходилось ему охранять царя в его разъездах по богомольям. Сам царь Иван Васильевич не раз награждал его за верную службу. Чего же ради теперь ведут к допросу? Диву давался Истома, размышляя об этом, но шел смело и бодро на таинственный допрос. Всё же… там, где-то в глубине, сосало сердце чувство острой обиды. За что? Кому понадобилось издеваться над седовласым стрелецким сотником?! А что скажут стрельцы его сотни? И что подумают посадские люди, когда узнают… Нет, уж лучше не думать. Позор! А главное, уже второй раз в его дом врываются Грязные… Мстят за Феоктисту? Надо поведать о том государю… Надобно подать на них челобитье!
Григорий Грязной всю дорогу смеялся, шутил, перекидываясь пустыми разговорами со своими товарищами, как бы стараясь этим показать свое небрежение Истоме. Он хотел выглядеть веселым, беспечным – человеком с чистой совестью. Шутя он сказал: «Опять нас сегодня дурным ветром в кучу сбило!» «Ветер будет дуть, покуда не выдует всех врагов государя», – сказал один из опричников в угоду своему начальнику.
И много других обидных для самолюбия слов услышал Истома от грязновских молодцов.
Стрелецкого сотника втолкнули в подземелье к Малюте, туда, где допрашивали и пытали самых опасных преступников.
Истома недоумевал: неужели и его обвиняют в измене?
Грязной, выйдя наверх после того, как оставил Истому в подземелье, громко рассмеялся:
– В сети сей, юже скрыша, и увязе нога его!
Словно из-под земли появился Василий Грязной. Ласково поглаживая одного из коней и прижимаясь к нему щекой, Василий спросил:
– Неверную душу привели? Давно бы так.
– Знамо: душа согрешила, а тело в ответе!.. – громко, с усмешкой в голосе произнес кто-то в темноте.
Своими злоречивыми шутками и насмешками над обвиняемыми они усердствовали один перед другим, стараясь казаться неумолимыми к заподозренным в измене людям. И теперь с большою охотою издевались над своею новою жертвою, соперничая друг с другом в ядовитости своих шуток.
Истому охватил в подземелье холод, сырость, какой-то неприятный смрад, напоминавший запах паленого мяса. В большом сводчатом каземате, в углу которого тлели кучи углей, у стены, на широкой скамье неподвижно, будто истукан, вырубленный из дерева, сидел Малюта. Лицо его рассмотреть было невозможно. В отсвете жаровни жили одни его большие, искоса улыбчатые глаза.
Истома огляделся по сторонам, перекрестился. В каземате, кроме Малюты, никого не было.
– Здорово, сотник! Аль не узнаешь? – вдруг ласково проговорил незнакомым голосом Малюта. – Начадили, надымили, словно тараканов, нехристи, жгли!.. Посоветуй. Сижу тут, как в геенне огненной. Шестую неделю варева не видал и забыл, каково оно есть. Едим тут с ребятами всухомятку. Колотья в животе ежедень не переходят. Тяжела служба у Ивана Васильевича. Не так ли?
– Не тяготился я службою государю и не тягощусь никогда, – скромно ответил стрелец.
– Добро. Не от льсти словеса твои. Да как же иначе доброму дворянину на свете жить? И то сказать – с кем греха не бывает! Один Бог без греха. А бес не дремлет… Нешто не знаешь – сатана и святых искушает. Силен бес! И горами качает, и людьми, что вениками, трясет. Не так ли?
– От бесовской проказы оберегаюсь Христовым знамением. К тому же поведай мне, Григорий Лукьяныч: пошто меня привели к тебе?
Малюта медлил ответом. Вздохнул. Уперся взглядом в землю.
– Не торопись, дружок. Отгадай, в каком ухе звенит?
– Не знаю, – покраснев от досады, буркнул Истома.
– Нет. Скажи.
– В левом.
– В левом? – Малюта захихикал тоненьким, дьявольски ехидным голоском. – Когда так… приступим к делу. Угадал. Спасибо! Невесело хороших людей за жабры хватать, однако мое такое дело, што и отца родного, коли вина есть, отделал бы. Не гневайся, Истома, а скажи-ка мне без кривды: в каких мерах ты с князем Курбским? Помнится, в Черемисии, в походе, будто… не знаю, правда ли то… вы в одном шатре с ним жили. Не так ли?
Малюта поднял тяжелый, оловянный взгляд на Истому.
– В те поры кто не дружил с воеводою Курбским, возвеличенным высоким боярским саном самим батюшкой-государем? И я почитал за честь жить с ним в едином шатре и дружбою его гордился и похвалялся.
– Это так. Правильно. Но, как говорится, друг мой: «Козла выжили, а все псиной воняет!» Почитателей и друзей немало осталось у князюшки на нашей святой земле. Вот хоть бы вассиановцы! Кто того не знает: Курбский дружил и с заволжскими старцами, помогал им. А теперь оных еретиков и смутьянов прячут у себя на куту друзья Курбского. По какой причине, скажи, у тебя укрывался Зосима? Кто, как не бес, внушил тебе мирволить оному злодею, пожегшему Печатную палату?! Спрятали вы его у себя, да напрасно. От нас не укроешься… Со дна окиян-моря достанем. Из земли выроем.
Брови Малюты сурово сдвинулись, глаза сверкнули, зашевелились ноздри, и вздрогнула широкая борода от внезапно вытянувшейся вперед нижней челюсти. Весь он, Малюта, как-то разом перекривился.
– Не укрывали мы его. Меня не было и дома в те поры. Прикинулся старче замерзающим, мои бабы сдуру и ввели его в избу, пожалели. А кто ж его знал, что он за человек? Мало ли по Москве шатается безвестных нищих!
Малюта прошипел:
– Через царскую грамоту ты убил человека в лесу тоже по незнанию. Не так ли?
– Того человека, Ваську Кречета, убил я по приказанию Никиты Васильевича Годунова. Разбойник он был и царское имя порочил!
Малюта встал, отошел в угол и, пригнувшись, как будто собрался прыгнуть на Истому, проговорил:
– Кто бы ни был тот человек, убивать его через цареву грамоту не дано тебе. Ко мне приволок бы, а не убивал. Кому вручена государева грамота, тот государев человек. У нас морской разбойник с нашими кораблями ушел в море по государевой грамоте, так ты и его бы порешил? Ой, неверный Истома! Нагрешил ты знатно. Умножаются беззакония и без того. И не лишне было бы тебе открыть здесь всю истину, без понуждения. Чью прихоть ты исполняешь? Кто надоумил тебя кривить душою и преступать закон за спиною государя? Отвечай! Кому в угоду нарушил ты крестоцелование? Раскаивайся. Нелегко мне выводить измену наружу, ибо действие сего злого духа глубоко в душе человека таится. Облегчи мне тяготу мою: поведай чистосердечно, чью волю ты вершишь? Без боярской ехидны тут дело не обошлось… Ну, говори!
– Не вижу я вины своей, совесть моя чиста, и лжеучение Вассиана не по душе мне, и Курбского князя я проклял с той поры, как узнал об его измене, и разбойника убил за то, што, прикрываясь именем царя, он грабил народ. Нередко государевой грамотой во зло государю же вершат свои дела неверные слуги.
– Истома, смирись. Не мудри. Долой гордыню! Признавайся! – выпучив глаза и сутуло съежившись, подскочил к стрельцу Малюта. Вытянув голову, сжал кулаки. Казалось, он вот-вот набросится на Истому.
– Помилуй, Господи! Григорий Лукьяныч, чего ради мне наговаривать на себя? – спокойно, с улыбкой, ответил Истома, пожав плечами. – Не лукавил я перед тобою, говорил правду. Не дорога мне голова моя, дорога честь. Коли моя душа лишняя на белом свете, возьмите ее, убейте меня, но лгать не буду!
– Знай же, Истома, как ни хорони концов, а правда сыщется! – погрозился на стрельца Малюта, сразу приняв вид спокойный, невозмутимый, тяжело вздохнул и снова уселся на скамью.
– Правда чище ясного солнца, Григорий Лукьяныч, а коли так, спокоен я. Не пугай меня. Не боюсь. Видит Всевышний Творец – чиста совесть моя. Горд я тем, что малодушия ради не сказываю ложно на себя вину.
Малюта захлопал в ладоши.
Вбежали двое верзил в красных рубахах, схватили за руки Истому.
– Устройте! – мотнул в сторону Истомы Малюта.
Вскоре Истома понял, что дело плохо: его отвели в темную земляную нору под железною дверью, куда сажали тех, кто обречен на казнь.
* * *
Придет беда – отворяй ворота! На другой же день после увода Истомы в дом стрелецкого сотника явился приходский священник, отец Сергий, и стал упрашивать Феоктисту, чтобы она вернулась к своему мужу Василию Григорьевичу Грязному. Того требует митрополит, коему принес свою жалобу обиженный бегством жены, убитый горем супруг.
– В Послании к коринфянам сказано: «Жена своим телом не владеет, но муж», – тихо, вкрадчиво говорил старичок-священник. – Муж и жена по закону составляют одну плоть. Апостол Павел, будучи девственником, по долгу учителя христианского, говорил мужу и жене: «Не лишайте себя друг друга!» Коли ты, матушка, сделалась женой, то и должна выполнять обязанности жены, вот што, милая Феоктистушка! Вернись, не гневи Бога.
Долго уговаривал отец Сергий Феоктисту. Она твердила в ответ: «Лучше руки на себя наложу, но не пойду к тому надругателю и мучителю! Да и не могу я в таком горе оставить свою матушку».
Священник, покидая стрелецкий дом, низко поклонился Анисье Семеновне и ее дочери:
– Не обессудьте, государыни вы мои! Святитель наказал мне побывать у вас, а каков конец дела, повинен я доложить его святейшеству, и боюсь, не учинили бы вам горшего худа грязновские похлебцы… Царь-батюшка сторону опричников по вся дни держит. Дай-то вам, Господи, невредимыми быть… боюсь, страшусь за тебя, жено. Благословение Господне на вас!.. Аминь!
После его ухода еще тоскливее стало на душе у Феоктисты и у ее матери. Страшно! Теперь некому за них заступиться. Беззащитные, одинокие, сразу ставшие чужими для всех своих не только соседей, но и для родных и друзей. Вот и Никита Годунов перестал навещать. Не ходит. И он… Стыдится, опасается опалы, людской молвы… Даже попик постарался выйти из их дома незаметно, через сад. Одно утешение – в молитве. Да и то не надолго. Как помолятся да взглянут одна на другую, так слезами и зальются… Вот того и гляди, нагрянет грязновская ватага и силою уведет Феоктисту в Васькин застенок-дом, и надругается над нею ее лютый истязатель, и насмеется над ней своим дьявольским смехом, без стыда, без жалости.
Но не в этом дело. Великие муки, всякие страдания готова принять Феоктиста, лишь бы освободили из тюрьмы ее ни в чем не повинного отца, лишь бы пощадили его седины, его честь…
Особенно тоскливо и нестерпимо жутко в стрелецком доме при наступлении сумерек, когда на улицах в настороженной тишине поднимают вой бездомные голодные псы да грызуны в подполье пищат и возятся… Лампады освещают скорбные глаза Спасителя в терновом венце, кровавые слезы на Его желтых ланитах… И хочется плакать, бежать из дома, но куда? Кругом черная, грозная московская ночь, и кто знает – спаси господи! Может быть, в этот час там, где-то в подземелье, пытают огнем отца-батюшку, старенького, добренького, хорошего…
Нет. Нет! Не надо думать о том. Не может быть! Государь справедлив, государь знает Истому Крупнина как честного своего слугу. Он не допустит…
Анисья Семеновна шепчет молитвы. Ее в темноте не видать, но слышны ее слезы. Слышны ее слова: «Царь-батюшка не ведает, что творят его слуги… Ох, ох, чую беду! Чую нашу гибель».
Феоктисте хочется утешить матушку, но – увы! – как и чем? Да и сама-то она, Феоктиста, того и гляди будет уведена. Она сама несчастна вдвойне. Она сама видит один исход в смерти… Где же ей утешать свою матушку?
* * *
Митрополит Афанасий, взволнованно отдуваясь, поправляя прилипшие от пота ко лбу волосы, на носках приблизился к государевой приемной палате. Попросил Вешнякова доложить о себе. Услыхав ласковый голос царя, бодро вошел в палату.
Иван Васильевич склонился под благословение.
– Радуюсь, что пожаловал ко мне, святой отец, – приветливо сказал царь. – Всегда готов слышать мудрые слова первосвятителя. Богопочитание есть главнейшая из причин величия царств.
Митрополит не сразу решился высказать свою просьбу.
– Так уж повелось, государь наш батюшка, что пастырь духовный печалуется о чадах своих, и то было в прежние и предпрежние времена.
Царь сразу нахмурился. Афанасий продолжал:
– Сильна твоя держава, и нет в мире более мудрого и справедливого владыки, дозволь же мне принести тебе, батюшко Иван Васильевич, челобитье мое слезное, дозволь иноку смиренному слово молвить в защиту некоего опального человека…
– Говори! О ком? Кто он? – нетерпеливо перебил митрополита царь, поднявшись с кресла.
– О сотнике стрелецком, Иваном Истомою Крупниным зовут! Помилуй его, государь! Неповинен он. Верно служил он тебе, батюшко, от юных лет и до сих дней…
Царь холодно ответил:
– Не проси попусту. Казню я его. В изменных делах замешан он.
– Государь… – начал было, низко поклонившись, митрополит, но царь перебил его:
– Иное дело – свою душу спасти, иное дело – о многих душах и телах пещись… Иноческое, постническое правление – быть подобным агнцу, царское же правление требует страха, запрещения и обуздания и конечного истребления злейших человек лукавых. Ты, мой духовный отец, больше того пользы принесешь, помолившись о прегрешениях государя… Твоя молитва наиболее угодна Богу! Помолись же Богу и о прощении казненных изменников, не слушающих помазанника Божьего, своего государя. Они грешнее царя. Грешнее презренного ката. Грешнее изменников никого нет. Подтачивая государев трон, они подтачивают веру Христову и благоденствие народа Божьего…
– Но, государь…
– И слушать мне недостойно о том. Истома – изменник, и нет ему прощения! Давай обсудим, как бы мне не посрамить имени своего в веках, чтоб не проклинали меня дети и внуки. И как бы нам изменные дела извести да и царство наше сберечь.
Царь жаловался на непрекращающееся коварство бояр и их прихлебателей. Вотчинники и монастыри всё еще норовят Москву голодом морить – хлеба не везут в Москву на торг, землю обрабатывают, чтобы только им самим и их людям сыту быть, а до прочих им дела нет. Чем труднее Москве, тем больше радости им. Боясь опалы, вотчины свои они жертвуют монастырям, чтоб царю не давать. Всем им поперек горла стала Москва. Никак не могут примириться они с ее властью над собою. За Новгород, за Псков хватаются. И Печатную палату сожгли из ненависти к Москве – не печатай-де никаких указов нам, не печатай единую для всех науку и книги церковные, апостольские по единому для всех образу…
– Этого старца Зосиму, вассиановца, лютого врага нашего, медвежьей потехе подвергнем, – сказал Иван Васильевич. – И дивное дело! Ни одного своего покровителя он не выдал даже под великою пыткою. Да еще лютыми словами поносил нас, бусурманом меня, царя всея Руси православной, называл. Так поведал мне Малюта. Вот какие они. Силен бес!
Иван Васильевич покачал головой, улыбнулся какою-то для него несвойственною, растерянной улыбкой и сказал:
– Какой человек! А? Мне бы таких! И слуга Курбского, Васька Шибанов, тож… Пытали его. Отрекись, мол, от своего князя. Нет. Не отрекся. Мальчишка ведь, юнец! Казнил его Малюта, хотя и не нахвалится им. Крепок был, бесстрашен. Какие люди у них! Твердые, преданные слуги. Побольше бы и мне таких. Правда, есть у меня много верных слуг. Они дороже жизни почитают мою правду. Но старое все еще крепко. Во все монастыри послал я синодики, чтоб молились о казненном Ваське! О подобных ему помолимся. Господь примет их на лоно свое, ибо не своекорыстны были они, но, заблуждаясь, стали верными слугами врагов родины. Любо мне видеть твердость и прямоту. Вот и сотник Истома такой же, а ты захотел, чтобы я его отпустил… Он – преданный Курбскому слуга.
Афанасий слушал царя молча, опустив голову, не поддакивая, не льстя, с тяжелым чувством обиды видя, что его заступничество не увенчалось успехом, что лют стал государь и трудно теперь с ним ужиться ему, митрополиту.
Царь сказал митрополиту, что во имя блага царства он попробовал разделить Русь на две части: земщину и опричнину. Поместному приказу велено написать грамоту: какие города и уезды отойдут в опричнину и какие в земщину. Может быть, такое деление пойдет на пользу государю и народу. Царь должен искать лучшего.
– Велика ли заслуга государя, коли он топчется на месте?
Афанасий продолжал молчать, слушая царя и удивляясь его словам. Старцу непонятно было: зачем все это нужно? А когда Иван Васильевич объявил, что он из Кремля уедет в новый дворец, построенный по его приказу за Неглинкой-рекой близ Сивцева Вражка, по щекам митрополита потекли слезы.
Царь, приметив это, сказал с улыбкой:
– Что? Иль не по душе тебе, святитель, мои дела? На весь мир и сам Бог не угодит!
Афанасий, смахнув ладонью слезы, тяжело вздохнул:
– Малоумен я, батюшка-государь, стар делаюсь… Коли бы на то была твоя воля, ушел бы я в обитель, на вечное смирение…
– Обожди, святой отец, не время! В оные дни твоя твердая молитва, твое крепкое стояние за царя наипаче необходимы… Война не утихает, но более того прибывает: подобно морскому прибою, полчища врагов ползут к берегам нашего царства, а ты говоришь об уходе в монастырь. Молитве места не искать… Есть о чем молиться. Покажи твердость, но не малодушие…
Митрополит помолился на иконы.
– Дай, Господи, мне сил исполниться мужеством и разумом, достойным, чтобы стать полезным моему монарху.
Иван Васильевич поднялся с кресла:
– Благослови меня на благополучное совершение моих новых дел.
Митрополит встал и широким быстрым движением руки благословил царя.
– Да будет благость Господа Бога над твоею державою!
Глава VIII
Непогода – ветры, мокрый снег; над приземистыми хибарками на берегу Москвы-реки мутно-серая мгла. Канун весны. Порывистые холодные вихри подсекают, словно топором, почерневшие от сырости сучья деревьев; у корневищ проталины; рухнули многие тыны, загромоздив улицы, и без того едва проходимые от грязи.
Малюта только что вернулся домой из церкви от вечернего бденья, заботливо прикрывая ладонями огонек свечи, который он сумел уберечь от ветра. Под мышкой у него завернутая в полотенце «своя» икона, перед которой постоянно молился он. Икона Пантелеймона-великомученика. Волосы Малюты тщательно расчесаны и густо смазаны маслом. На лице – богомольная кротость. Щедрою лептою наделил он в храме нищих, калек и юродивых.
Дома застал Бориса Годунова, который тихо беседовал о чем-то с Прасковьей Афанасьевной. При появлении Малюты оба встали, большим поклоном приветствовали его.
Малюта помолился на иконы, зажег от своей свечи лампады.
– Бог спасет! – тихо молвил он.
– Спаси Христос! – хором ответили ему жена и вышедшие из соседней горницы обе дочери с Годуновым.
– Вот пришел проведать тебя, Григорий Лукьянович, – смущенно произнес Годунов, переминаясь с ноги на ногу.
– Добро жаловать. Такому гостю всегда рады.
Дождавшись, когда сядет хозяин, расположились на скамье вдоль стены и все остальные.
– Батюшко, Григорий Лукьянович, государь мой, дело у него до тебя есть… – вкрадчивым голосом сказала Прасковья Афанасьевна. – Ну, што ж ты… батюшка Борис Федорыч… Говори! Суров наш Лукьяныч, да без норова. Выслушает тебя.
Годунов встал, вышел на середину горницы, еще раз низко поклонился Малюте и смело сказал:
– Не гневайся, Григорий Лукьянович, дозволь слово молвить бескорыстное, от чистого сердца идущее.
Малюта насторожился, сощурил глаза:
– Бескорыстное слово – куда как заманчиво. Ну-ка! Дерзай!
Борис спокойным, твердым голосом рассказал Малюте об издевательствах Василия Грязного над женой и о том, как она ушла от него, испугавшись его угроз. Рассказал, как Грязной посылал толпу бродяг-разбойников похитить из монастыря, что близ Устюжны Железнопольской, вдову покойного Колычева Никиты – инокиню Олимпиаду. Если бы не Ермак, то пришлось бы Москве пережить великий позор от такого бесчинства ближнего к царю человека. Никита, его, Бориса, дядя, совершал объезды дорог и столкнулся с грязновским наемным вором Василием Кречетом и его шайкой. Грабили и убивали они черных, посошных людей. Деревни опустели, крестьяне все попрятались в лес. Никита приказал сотнику Истоме Крупнину застрелить Ваську Кречета как государева врага. Теперь Василий Грязной мстит ему, стрелецкому сотнику Истоме, отцу своей жены. Тяжкая несправедливость постигла несчастного, но едва ли найдешь среди государевых слуг человека, более преданного царю, нежели воин Истома. А особо важно то, что Васька Грязной облек разбойника властью государева слуги… Он ему дал государеву грамоту ради своих похотливых затей…
Долго говорил Борис Годунов, доказывая невиновность сотника Крупнина.
Малюта слушал его молча, не перебивая, часто в хмуром раздумье покачивал головою в знак удивления и укоризны:
– Так ли оное, Борис Федорович? Уж больно складно ты говоришь! А правда – не речиста. Нет!
– Так, родной Григорий Лукьянович! Незачем мне кривить душой. Я и государю-батюшке Ивану Васильевичу говорю всю правду без боязни, ибо несть большего греха, чем тот грех, когда ради своей выгоды спасешь государева недруга, вора и предателя! И еще того горше грех, когда из боязни царского гнева не говоришь государю правду, умалчивая о кривде, особливо ежели хотят загубить слугу, преданного царю… Подлинные враги потешаются истреблением преданных царю слуг… Известно. Уж не обессудь меня, Григорий Лукьянович, голову сложу на плахе за правду своих слов. Не допусти позора и гибели сотника Истомы!
Малюта потер ладонью лоб, тяжело вздохнул:
– Все то дело ведомо царю. Как же быть мне, коли сам я обсудил Истому? Стало быть, Малюта государя-батюшку в соблазн ввел? Обожди два дня, а может быть, раздумаешь и отступишься? Срам ведь мне! Пущай уж сложит свою неповинную голову сотник, а мне штоб не срамиться. Не ты будешь в ответе, а я! Неладно мне на попятную-то идти. Сам Господь Бог не разберет теперь тут, кто виноват, а кто неповинен в изменах.
– Грех так-то, Григорий Лукьяныч… Не одному тебе грех, но и мне, и дядюшке моему. Как же это? Знали мы ту неправду и промолчали. Выходит, и мы ту голову срубим? Грех ляжет не только на меня – и на будущую жену мою и детей моих… Не так ли? Боюсь кары Божьей!
Малюта задумался.
– Упрям ты! А што греха боишься, то гоже… Надобно думать и о потомках своих, штоб Бог их не покарал… И то истинно! Ладно. Уж покаюсь перед Иваном Васильевичем… Свалю вину на проклятого Ваську Грязного… Што будет, не знаю, но попытать – попытаю… доложу царю. Дюже осерчал государь на Истому.
– Попусту, отец мой Григорий Лукьянович, обманули государя Грязные братья. Они виноваты в обмане!
– К лихоимству и лжи Грязные зело способны. Говорил я уже не раз о том государю.
– Так заступись же за Истому, не губи неповинного стрелецкого начальника!
– Знаю я тебя, Борис, и люблю тебя. Молод ты, но наделен разумом, приличным людям достойнейшим. И дело то решим мы по чести. Не верь, кто винит меня в суетном душегубстве. Правду скрывать не стану: изменников не жалую, пыткам предаю и казню лютыми казнями без пощады – и в том раскаянья не имею. Мое имя проклинают, знаю… Вижу страх в глазах и лицемерное уважение к себе; не весело быть пугалом, страшно умерщвлять людей… Страшно, Борис! Сам я боюсь кары Господней, руки мои в крови, не скрою. Но сердце во мне человечье, русское, хочется мне жить, нельзя отдать земли нашей в руки ворогов… Грешно идти на поводу у изменников. Всё рухнет тогда! Рушится и церковь Божия, а басурманы осквернят веру Христову, обратят в пепел наши города и деревни, а женщин и детей в полон угонят. Гроза немалая: Жигимонд, забыв крестоцелование свое, вкупе с изменниками, отъехавшими в Литву боярами, – умыслил великое нападение… Курбский уже пошел с панами разорять Русь, подбивает к тому же и крымского хана… сжег Великие Луки! Государю всё то ведомо. Свейский король тоже напал на нас… Ливонские немцы точат мечи об ерманские камни, чтоб напасть на нас… Пущай меня проклинают! Не откажусь я от греха истребления! Так самим Господом Богом устроено: кого-то нужно людям проклинать при переменах в царстве. И кто-то должен в аду гореть. За Истому стану бить челом государю. Иван Васильевич лют иной час, но и милостию тароват… Он лишает жизни; он же и о душах убиенных молится сам и монастырям приказывает, штоб простил Господь им их измену, их великие преступления против родины и царя.
Немного помолчав, Малюта вдруг со всею горячностью произнес:
– Коли государь воинским обычаем пошлет меня на поле брани – и там буду биться с ворогами до той поры, пока голову не сложу! На полях брани не терялся я… Слыхал, чай? Воинское дело более по душе мне.
Борис Годунов смиренно кивнул головой: «Слыхал». Затем поднялся, помолился и с почтительной улыбкой на красивом молодом лице отвесил поклоны Малюте и Прасковье Афанасьевне.
– Спаси Христос, Григорий Лукьянович!.. Прошу прощенья, коли не в раз пришел!
– Ты у нас во всяко времечко желанный.
Малюта ласково взглянул на Бориса.
– Будьте здравы. Прощайте!
– Бог спасет!
* * *
На ветке вишневого дерева, у самого оконца, покачивалась птичка малиновка, зорянка красногрудая. Тепло. Солнечно. Она весело насвистывала, расправляя перышки, вертя головкой, бойко осматриваясь по сторонам.
Феоктиста, затаив дыхание, следила из своей светелки за дивной птичкой. Мысли ее опять стали горькими. Ах, отец, отец! Жив ли он: вот уже третью неделю о нем ни слуху ни духу. Кто нашептывает, будто его уже и в живых нет, кто – будто он отослан на покаяние в монастырь; болтают, что услан он на Студеное море; кто пытается утешить: будто он жив и здесь, в Москве, но сидит окованный железами у Малюты в подземелье. А правда никому не ведома. Кто может раскрыть тайну, кроме кровожадного зверя Малюты? Мало ему крови! Бог его накажет за всех! Сколько он народа замучил, того и сам он сосчитать не в силах. Анисья Семеновна и она, Феоктиста, утром и вечером на молитве проклинают Малюту, просят Господа Бога, чтоб покарал Он лютою казнию самого Малюту. Да и царь-батюшка тоже… Окружил себя душегубами!.. Тысячу душегубов собрал в свою опричную дружину. Черные, страшные, с собачьими головами у седла, скачут они по улицам, пугая всех. А зачем? Мало, что ли, разбойников на Руси? Все в округе шепчутся, и есть слух, будто государь «ума рехнулся». Тогда уж не жди доброго! Погубит он бедного батюшку, оклеветанного ворогами, коли не сгубил уж.
Никита Годунов тоже. Словно в воду канул. Бросил в несчастье ее, Феоктисту, и, будто прокаженной какой, всячески ее сторонится! Вот они, нежные, ласковые его слова. И он, как и все другие, от отца родного отречется, боясь навлечь на себя опалу.
«Бог им судья! – говорит Анисья Семеновна. – Каждый человек о себе помышляет. Может статься, и жалеют нас, а своя одёжа ближе к телу. Кабы не было страха – не было бы и власти».
Феоктиста никак не могла примириться с опричниками, в душе продолжала жестоко осуждать и даже презирать, как трусов и ничтожных людей, тех, кто, страшась мести царя, избегал ее и мать и кто дружил с опричниками.
Глядя на стайки птичек, порхавших в саду у окна, Феоктиста с тоскою завидовала этой птичьей беспечности, и ее толкало унестись куда-то в иную жизнь, где нет опричнины, темниц, дыбы, плетей и цепей… Но может ли быть так? Одни ангелы достойны беспечальной жизни и святые праведники в Царстве Небесном. Если батюшка казнен, то и он, страдалец, будет стоять у трона Всевышнего как праведник!
Вдруг Феоктиста увидела подъехавших к дому двух «черных» всадников. «Они!» В ужасе бросилась к матушке в опочивальню.
Раздался сильный стук в дверь, а затем в дом вошли два рослых опричника.
– Василь Григорьич Грязной приказывает своей супруге Феоктисте Ивановне вернуться к нему в дом, – громко провозгласил один из них.
Анисья Семеновна и все вышедшие в переднюю горницу сенные девушки и дворовые люди залились горючими слезами, подняли вой.
Феоктиста спряталась в чулан. Ее заперла одна из девушек засовом.
– Увольте, православные воины, не принуждайте мою доченьку к тому, штоб вернуться ей в нелюбезный тот дом… Изобидел ее, надругался над ней Василь Григорьич, Бог ему судья… и хоть бы…
– Веди ее сюда! – злобно крикнул рыжебородый опричник с рыбьими, навыкате, зрачками, со всею силою толкнув Анисью Семеновну.
Лицо его испугало сенных девушек. Они взвизгнули и убежали.
– Коли не выведешь ее к нам, так мы сами ее найдем…
– Убейте меня, злодеи вы окаянные, но не отдам я вам на поругание моей дочери!
Эти слова взбесили опричников. Оттолкнув старушку, они принялись обшаривать все углы в доме.
Поднялась суматоха. Девушки выбежали на улицу, стали кричать в голос, призывая соседей на помощь. Собаки подняли неистовый лай. Кто-то из темных сеней бросил поленом в опричников.
И вдруг все стихло.
Опричники добрались до чулана. Феоктиста слышала, как они начали шарить в темноте, ища дверь в чулан. Она похолодела от страха.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.