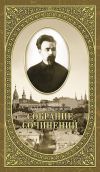Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Второе распятие Христа. Антихрист. Пьесы и рассказы (1901-1917)"
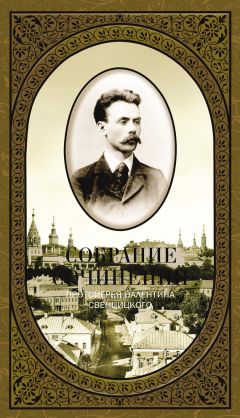
Автор книги: Валентин Свенцицкий
Жанр: Литература 20 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Послесловие
По поводу «Антихриста» мне был предложен целый ряд вопросов. В конечном счёте все они сводятся к трём основным:
Во-первых, являются ли «Записки» исповедью?
Во-вторых, в каком смысле автор записок назван «Антихристом»?
И в-третьих, действительно ли я думаю, что узнать Христа можно, только пережив Антихриста?
Я считаю нужным печатно ответить на эти вопросы потому, что ответ на них может уяснить многие неясности в моей книге. А раз я выпускал её в свет, то есть по совести признавал зачем-то нужной и важной для людей, я не могу не считать столь же нужными и важными свои разъяснения. Тут дело не в каких-нибудь необычайных достоинствах книги, наоборот: недостатки художественного произведения скорее могут оправдать появление этого послесловия, ибо, коль скоро мне не удалось выразить с достаточной определённостью в художественных образах то, что пережито душой, единственное средство хоть сколько-нибудь восполнить невысказанное – это написать послесловие. Во всяком случае, как бы ни было ничтожно значение книги, я полагаю, всякий поймёт желание автора быть понятым вполне.
Первый вопрос, едва ли не самый важный для разъяснения «Записок», в то же время и самый трудный. Он настолько интимен, что ответ на него граничит с исповедью.
Однако по двум причинам я считаю для себя возможным, несмотря на всю трудность его, ответить и на первый вопрос. Первая причина заключается в некоторых личных обстоятельствах, о которых говорить здесь неуместно и которые в ближайшем будущем поставят меня в исключительное отношение к жизни, облегчающее возможность безусловной правдивости публичных признаний; вторая причина в глубоком убеждении моём, что наступает время, когда на религиозных людей возлагаются громадные исторические задачи, связанные с не менее громадным личным подвигом. В такое время каждый должен помогать друг другу и нести свой религиозный опыт другим людям, как бы слаб, немощен, недостоин ни был сам.
Итак, первый вопрос почти дословно повторяет последний вопрос «Записок»: «Исповедь это или роман?»
По совести говорю, мне немыслимо было бы односложно ответить на этот вопрос – да или нет. Мне пришлось бы сказать: да, исповедь, да, роман.
Чтобы действительно ответить на вопрос, чтобы действительно разъяснить, в каком смысле это исповедь и в каком смысле роман, я должен, хотя бы в общих чертах, сказать о самом мучительном периоде моего религиозного развития.
Несколько лет тому назад во мне закончился переход от юношеского «гимназического» отрицания к положительной религии.
В отрочестве я отдал дань, как и большинство нашей интеллигенции, и теоретическому отрицанию, и увлечению Писаревым, Михайловским, а в более позднем возрасте увлечению Шопенгауэром и Ницше. Под словами «закончился переход» я вовсе не разумею прекращение всякого рода теоретических сомнений и хотя бы временное приближение к безусловной правде в сфере личной жизни. Нет. Но в смысле теоретическом для меня уже с несомненностью определилось, что в христианстве заключена полнота истины, а в смысле нового отношения к жизни для меня столь же определённо христианство встало уже как задача и смысл моего существования.
Я начинал с радостным восторгом, который поймут все верующие люди, ощущать в себе робкие проблески зарождающейся религиозной жизни, меня начинала волновать таинственная сладостная надежда; хотелось всех полюбить, всем простить, ношу всю взять на свои плечи, хотелось подвига, новой «преображённой» жизни!
И вот в это время, сначала почти бессознательно, в виде какого-то тяжёлого, грязного, мёртвого осадка на душе, а потом уже с полной отчётливостью, я с ужасом заметил в себе какого-то двойника.
Это был мой образ, плод моей фантазии, если хотите, вышедший незаметно, но властно из каких-то тайников духа. Он был совершенно такой же, как я, по своему виду, по своей жизни и в то же время диаметрально мне противоположен.
Определившись, этот «образ» занял совершенно исключительное положение в моей жизни; точно это было не моё воображение, а живое, вполне реальное, хотя и никому не видимое существо.
Он сопровождал каждый шаг моей жизни. Что бы я ни говорил, что бы я ни делал, он диаметрально противоположно по существу, но с безусловной тожественностью по внешности повторял и мои слова, и мои действия. Даже в редкие минуты, когда я уже мог молиться, и он вставал на молитву в моём воображении и молился вместе со мной, как-то рядом в моём сознании, хотя и диаметрально мне противоположно.
Я совершенно не в силах был объяснить себе, почему, но для меня стало ясно, что я должен победить в себе что-то, чтобы освободиться от этого кошмарного образа, что этот образ не так себе, не какое-нибудь нервное расстройство или простое случайное явление. Что это враг мой, что между нами идёт борьба не на жизнь, а на смерть, что здесь таится возможность моей окончательной духовной гибели.
Чем дальше шло время, тем он становился отчётливее и, делая то же, что и я, как-то ближе подходил ко мне.
Наконец, была такая одна минута, описать которую я даже приблизительно не в силах, когда я и он встретились лицом к лицу, когда кто-то во мне должен был выбрать или меня, или его.
Теперь, когда уже всё это стало прошлым, я во всей ясности сознал, что тогда решалось.
И вот «Записки странного человека» есть исповедь моего двойника. Вот почему «Антихрист» в одно и то же время и роман, и исповедь. Роман, потому что всё же этот образ есть плод моего воображения, есть моё творческое создание. Исповедь – потому что это не простой продукт воображения, не просто художественный образ, а нечто имеющее более органическую связь с моей душой.
* * *
Ответ на второй вопрос – «В каком смысле автор “Записок” назван Антихристом?» – тесно соприкасается с некоторыми основными проблемами христианской философии, излагать которые здесь нет никакой возможности, а потому для тех читателей, которые никогда не интересовались сферой религиозных идей, я боюсь, что он останется не вполне ясным.
Среднее нерелигиозное интеллигентное сознание воспринимает слово «Антихрист» как туманный фантастический образ, созданный в древности и удержавшийся в настоящее время лишь в верованиях тёмных масс, наряду с верой в домовых, русалок, леших и т. д. Вера в Антихриста светских мыслителей, как, например, покойные Вл. Соловьёв или князь С. Н. Трубецкой, либо вовсе игнорируется, либо объясняется теми отвлечёнными чудачествами, которые простительны мистикам-философам, ни к чему не обязывают и вообще дело их личное, нечто вроде какой-нибудь дурной привычки.
В отношении духовных писателей дело решается ещё проще: их вера – заведомая ложь, грубая фальсификация, подобна вере в чудотворные иконы и заздравные молебны.
Никому из представителей нашей средней интеллигенции, которая обычно не берёт на себя труда, по крайней мере, узнать то, что она отрицает, вероятно, и в голову не приходит, что идея Антихриста есть величайшая, можно сказать, мировая идея, придающая всей религиозной концепции и законченность, и красоту, и силу.
Впрочем, если даже откинуть религиозный смысл Антихриста, то и тогда, с чисто исторической точки зрения, чаяние его пришествия вряд ли может быть названо безусловной нелепостью и невежественной, дикой грёзой. Разумеется, лишённое религиозной почвы, оно становится ни на чём не основанным, и потому ненаучным, – но всё же остаётся вполне правдоподобным.
Ведь несомненно, что до пришествия Христа в еврейском народе жила идея Мессии, какого-то лица, с которым связывалась мысль о мировом перевороте; жила смутная надежда, «фантастическая» грёза о каком-то новом Царе нового Царства. И как бы мы ни относились ко Христу – всякий признаёт, что в известном смысле всё же сбылись эти смутные исторические предчувствия.
Почему же Христос, лицо, открывшее собой новую эру христианской европейской истории, мог быть и был, а Антихрист, лицо, которое выступит на окончательную борьбу с Христом, во имя новых откровений, которые также могут оказаться новой эрой, кажется столь же неправдоподобным, как леший или водяной дедушка?
Повторяю, такого рода рассуждение о допустимости вполне возможно с какой угодно, самой что ни на есть научной, точки зрения. В лучшем случае здесь можно говорить не о том, что это нелепость, абсурд, а о том, что ожидание такое ни на чём не основано.
Разумеется, совершенно иное отношение к Антихристу с точки зрения религиозного сознания. В идее Антихриста получают своё разрешение, свою законченность самые жгучие вопросы, самые глубокие религиозные переживания: смысл мировой истории, идея прогресса, смысл жизни, вообще отношение к судьбам человечества и вселенной – всё это без Антихриста не получило бы своего разрешения в христианстве, и гигантская по глубине и захвату концепция христианская была бы без вершины, без последнего слова, и всё бы в ней распалось, разрознилось. Христианство не какую-нибудь отдельную полосу жизни, один ряд проблем приводит в стройную систему, оно всё разрешает, всё включает в себя, всё охватывает, всему даёт смысл, значение, оправдание.
Великое и таинственное слово, свобода как творческая беспричинность положена христианством в основу понимания мира.
Свободным актом мир отпал от Божества, раскололся, разрознился, отдельные части самоутвердились, обособились и породили борьбу; длинным мучительным путём мир свободно восстанавливается в своём единстве!
Вся жизнь вселенной, от ничтожной жизни инфузории до сложной жизни человеческого гения, давно вымершие дикие племена и новые народы, ещё не вышедшие на историческую сцену, – всё в идее богочеловечества получает свою стройную законченность. Человек уже не теряется в безграничном море отдельно живущих организмов, земля не бледнеет под яркими лучами бесчисленных звёзд, бесчисленных солнечных систем.
Всё начинает жить как стройный, единый организм, разрозненное становится стройным, хаос приходит в порядок. Каждая индивидуальность, каждый атом – всё в идее богочеловечества находит и своё место, и свой смысл.
Страшное, беспорядочное чудовище, зачем-то, куда-то несущееся, именуемое жизнью, в христианстве становится великим, радостным общим деланием. Духовным очам открываются великие судьбы и человечества, и мира. Туманное слово «прогресс» из бесцветного учения о каком-то всеобщем благополучии, которое воздвигнется на «унавоженной» трупами, слезами и кровью почве, получает свой настоящий смысл, который всё же бессознательно, наперекор своим логическим определениям, вкладывали в него всегда лучшие люди.
История мира встаёт как цельный, полный глубочайшего смысла путь к окончательной гармонии, к преображению тленного мира, путь к новой земле и новым небесам, к вечной радостной жизни в Боге.
История мира для христиан – медленное, свободное разделение Добра и Зла. Разделение, на одну сторону которого встанет всё готовое к воссоединению с Творцом своим, – на другую всё стремящееся к окончательному самоутверждению.
Всё мировое зло соберётся в один сгусток крови, все детища самоутверждения: страдания, смерть, тление, злоба – всё соберётся в одно место, в одну беспросветную, пустую бездну, и из бездны той выйдет Зверь, страшный образ последнего самоутверждения – Антихрист.
В окончательной борьбе Христа и Антихриста, в победе Добра над Злом и в преображении материи и всей жизни, как следствие этой победы, получают свой ответ, своё успокоение все вопросы, которыми изболелось человечество и от которых без Христа не излечится никогда! Вопросы о смысле жизни, о смысле страдания, о судьбе мира…
Итак, почему же герой моих «Записок» назван Антихристом? В связи с только что сказанным, на вопрос этот могу ответить так.
Если бы наше зрение было чисто, если бы могли видеть, что всё виденное нами «только отблеск, только тени от незримого очами», если бы мы могли прорвать тленную кору мира, через которую люди прорываются только ценою смерти, – то мы увидали и поняли бы, что внешний прогресс, внешнее изменение мира обусловливается внутренними процессами, внутренними его изменениями. Мы увидали бы, что состояние Зла не одинаковое в эпоху великого переселения народов и в наше время. Зло «возрастает», оно питается, множится, подымает голову. Зверь ещё не может встать на ноги и выйти из бездны, но уже явственно чувствуется дыхание его.
И если бы мы могли заглянуть в бездну, если бы мы были над ней, то опять-таки очам нашим иное бы открылось в эпоху первых веков христианства, иное в эпоху нашу.
Я назвал автора «Записок» Антихристом потому, что, по моему глубокому убеждению, если бы в настоящее время мог воплотиться Антихрист, если бы личинка чудовища могла сейчас принять человеческий образ – и человек этот написал бы свою исповедь, он написал бы именно то, что написано в «Записках странного человека». Я не говорю, что я всё выразил, что я всё исчерпал. Но главные черты, мне думается, переданы верно.
Я пришёл к заключению, что мой двойник, мой кошмар, мучивший меня образ, был точное изображение того, что в настоящее время «подползает» к миру.
Я теперь осмыслил своё тогдашнее религиозное состояние и с полной ясностью вижу, что та погань в душе моей, которая впервые почувствовала настоящую опасность для себя в зарождавшейся во мне религиозной жизни, имела органическую связь с мировым Злом, с коллективным Антихристом, и потому я, восстав, хотя и очень робко, на эту погань и грязь, встретился лицом к лицу с тем, кто был её носителем. Победив в себе этот образ, я, разумеется, не делался безгрешным, но я уже, как христианин, выбирал себе Господина. Я окончательно выбирал себе путь.
Таким образом, исповедь моего двойника, исповедь того, кто встал в моей душе защищать свои права, права на Зло, – есть исповедь Антихриста в данный момент его мирового развития.
* * *
Ответ на третий вопрос – «Действительно ли я думаю, что узнать Христа можно, только пережив Антихриста?» – в значительной степени вытекает из всего мною уже сказанного.
Да, я действительно думаю, что на пути ко Христу обязательна для всякого в том или ином виде встреча с Антихристом.
Характер этой встречи, время её, вся психология борьбы – всё это зависит от склада душевного, от обстановки, среды и тысячи других внутренних и внешних причин, но встреча всё же будет, и борьба не на жизнь, а на смерть неизбежна.
Без боли, без страшного внутреннего разрыва с «прошлым», «ветхим», «мёртвым» человеком не может родиться новый человек; без мучений Добро не отделяется от Зла. Зло слишком когтисто, чтобы с лёгкостью отдать свою добычу, оно слишком впилось в неё, чтобы можно было вырвать её без крови.
При малейшей попытке жить по-настоящему, при первом, самом робком шаге ко Христу дорогу преграждают чьи-то страшные руки, и без бою, без пытки, не «пережив Антихриста», ко Христу не приблизиться никогда.
Но немногим людям приходится переживать и видеть образ всего Зверя, ибо каждый борется и видит перед собой только то, на что Антихрист имеет право, видит отражение только того, что в душе принадлежит Злу. Вот почему, считая «странного человека» за тип, воплощающий основные черты, религиозную сущность Антихриста в данную эпоху, я убеждён, что в большей или меньшей степени, в том или ином отношении, но «странного человека», безобразного двойника моего, всякий, хоть краешком одним, но пережил.
* * *
В заключение позволю себе сказать следующее.
Я признаю вполне искренно, что книга моя имеет много литературных погрешностей. Всё же я считал и считаю опубликование её необходимым делом своей религиозной совести. Религиозный опыт мой не мог и не должен принадлежать одному мне.
Да, конечно, с Антихристом боролись, борются и будут бороться многие люди, бесконечно меня достойнейшие. Несомненно, что и Гаршин, вырвавший из сердца своего красный цветок, и Глеб Успенский, великий страдалец за народ, не говоря уже о «полубесноватом-полусвятом» Достоевском или великом философе земли русской Вл. Соловьёве, – все они боролись ни с чем иным и в себе, и в жизни, как всё с тем же зверем – Антихристом.
И я был бы безумцем, если бы осмелился думать, что хоть тысячную долю сделал в этой борьбе того, что сделали они.
И всё же пережитое мной индивидуально, впервые, не как литературные перепевы, а плотью и кровью своей, я обязан был передать другим.
Если написал без достаточного таланта – пусть простят: я выполнил свой долг, насколько хватило сил.
Пьесы
Смерть
Драма в трёх действиях
Посвящается моей матери
Тот, кто видел лицо смерти, не мог не видеть при свете молнии и лица истины.
Габриеле д’Аннунцио «Джиоконда»
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Эдгар Гедин, знаменитый композитор.
Ванда, его жена.
Арнольд Реллинг, молодой человек, 22 года.
Карл Виндиг, композитор.
Фанни Виндиг, его жена.
Садовник.
Девочка с фиалками.
Два мальчика.
Действие первоеБольшая, со вкусом обставленная комната на даче Эдгара Гедина. Несколько бюстов, картины, мягкая мебель. Стеклянная дверь на балкон отворена. По обе стороны двери окна. Они тоже отворены. Видны цветущие яблони. Яркий, солнечный день. Ванда стоит против окна, вся залитая солнцем. Ей не более двадцати трёх лет. Черты лица строгие, почти классические; фигура стройная, гибкая, сильная. Движения то слишком сдержанны, то преувеличенно развязны, точно она стыдится своей молодости, красоты, своего тела и постоянно силится преодолеть свою стыдливость. Одета с большим вкусом. В дверях Эдгар Гедин, высокий, сухой, без бороды и усов, с сильной проседью. Он в изящном летнем костюме, в руках мягкая шляпа с широкими полями.
Гедин. Я пойду к морю.
Ванда (продолжая смотреть в сад). Ты что-то хотел сказать?
Гедин. Да-да! Надо велеть садовнику обрезать яблоню, которая у моего окна.
Ванда. Хорошо.
Гедин. Цветы обсыпаются прямо на стол.
Ванда. Хорошо. Я скажу.
Гедин уходит. Тишина. Слышно, как в саду поют птицы.
(Кричит в сад.) Эдгар! Ты забыл ключ. Подожди, я сейчас… (Берёт со стола ключ, бежит в сад.) Как же вы прошли? Разве калитка не заперта?
Арнольд (из сада). Вы думаете, я не умею лазить через заборы?
Звонкий смех.
Это сломало ветром. Надо сделать подпорку, она не погибнет.
Ванда (из сада). Какое солнце!
Арнольд (на балконе). Профессор, по обыкновению, пошёл гулять?
Ванда. Да. Он всегда гуляет перед вечерними занятиями.
Арнольд (входя в комнату). А экскурсия наша опять не состоялась.
Ванда. Это какой-то миф.
Арнольд. Наоборот, всё чрезвычайно просто, если бы я только мог решить. Я никогда ничего не могу решить.
Ванда. Вам нужно брать пример с Эдгара.
Арнольд. Да… Я ему так завидую.
Ванда. Тому, что он аккуратно, каждый день, ходит гулять?
Арнольд (серьёзно). Всему… У профессора есть определённое призвание – это всё.
Ванда. О, когда вам будет пятьдесят лет…
Арнольд (перебивая). Напротив, старость только увеличивает сомнение.
Ванда (задумчиво). Да, в Эдгаре есть что-то страшно определённое.
Пауза.
Арнольд. Хорошо здесь работается профессору?
Ванда. Он кончает последнюю часть своей симфонии.
Арнольд (с энтузиазмом). Это будет его величайшее творение. Он говорит о своей симфонии, как пророк.
Ванда. Последние дни Эдгар работает по ночам.
Арнольд. Какое счастье работать ночью! Творить новую, свободную жизнь, когда всё погружается в сон. Один на вершине горы. И кругом море звуков. Волшебный мир звуков. Незримая, таинственная жизнь.
Ванда (тихо). От симфонии Эдгара веет ужасом смерти.
Арнольд. А разве выразить в звуках весь ужас смерти – это не значит поднять жизнь на новую высоту?
Ванда (встаёт). Я совсем забыла. (Подходит к балкону и кричит в сад.) Садовник!.. Ах, ты здесь. Надо подрезать яблоню у окна профессора.
Садовник (из сада). Срубить совсем?
Ванда. Нет – чтобы цветы не падали на его стол.
Садовник. Хорошо, хорошо. Сейчас можно будет сделать.
Арнольд (подходит к окну). Какая роскошь!
Ванда молча смотрит в сад.
Кажется, никогда ещё так не цвели яблони.
Ванда. Начали обсыпаться. (Пауза. Делает движение, как бы купаясь в солнечных лучах.) Какое солнце! Только весной бывает такое солнце.
Арнольд. Профессору следовало бы гулять в саду. В цветах столько музыки. Если уметь прислушаться к этому саду, можно было бы услыхать не одну симфонию.
Ванда (идёт на прежнее место). Эдгар ходит гулять к морю.
Арнольд. Вы удобно устроились. От вас до моря, я думаю, можно дойти минут в десять.
Ванда. Летом я каждый день буду ходить купаться. Постойте, однако. Я сегодня всё забываю. Вы, может быть, голодны?
Арнольд. Говоря откровенно, да. Дома пообедать не успел.
Ванда (быстро встаёт). Вы бы сказали.
Арнольд. Я тоже забыл.
Ванда уходит. Слышно пение птиц. Кричит кукушка. Сколько я проживу лет… (Считает.) Раз, два, три, четыре… (не большая пауза) пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать… (Пауза.) Ах ты, глупая…
Ванда входит с подносом.
Почему вы сами?
Ванда. Эдгар опять прогнал горничную.
Арнольд (ест очень быстро). Весной у меня развивается какой-то безумный аппетит.
Ванда (ласково смотрит на него). Молодость. Арнольд (улыбается). Мы с вами почти ровесники. Девочка (из сада, в окно). Фиалок не возьмёте ли? Ванда. Фиалки! (Быстро идёт к окну.) Совсем распустились! (Берёт букет. Прижимает его к лицу.)
Пауза.
Арнольд. Вы не заметили… сегодня какой-то особенный день…
Ванда (тихо, не отрываясь от букета). Заметила…
Арнольд. Что это?
Ванда. Не знаю… Как будто бы всё оживает. Всюду цветы и солнце!
Пауза.
Вы никогда не учились музыке?
Арнольд. Нет. Но иногда мне кажется, что я создан быть композитором.
Ванда (шутливо). Вы слышите симфонии?
Арнольд. Нет, не симфонии. Но какие-то ликующие, стремительные мелодии.
Ванда. Фиалки совсем живые…
Арнольд (внезапно). Вот смотрю я на вас… Нет, я, кажется, с ума сошёл.
Ванда (смеётся). Ну?
Арнольд. Вы не рассердитесь?
Ванда. Нет.
Арнольд. Как вы могли выйти замуж за профессора?
Ванда (покраснев и смешавшись). То есть, почему… Я не совсем понимаю…
Арнольд (сконфузившись). Простите, Бога ради… Это, может быть, ужасно глупо.
Ванда. Нет, право. Почему вы так сказали?
Арнольд (восторженно). Вы сегодня точно цветущая яблоня!
Ванда (спокойно). Эдгар был моим учителем.
Арнольд. Да-да, знаю… Как можно около вас писать такую симфонию и около профессора… так расцвести…
Ванда (снова краснея). У Эдгара есть какая-то великая идея, к которой он стремится всю свою жизнь с железной непреклонностью.
Арнольд (задумчиво). Он достигнет её в своей симфонии.
Ванда. Он стал рассеян. Говорит точно сам с собой. Кругом никого не замечает.
Арнольд. Великий художник и не может никого замечать. Он вечно на ледниках, где свистит ветер… Блестит молния… Поёт хор таинственных голосов… На земле люди такие незаметные…
Ванда. Вы про другое… У Эдгара совсем не то…
Арнольд (с живостью). Это грубейшая ошибка, что наша жизнь не очень разнообразна. Жизнь должна быть разнообразной, должна искриться миллионами огней. Но у нас всего-навсего какой-то семисвечник.
Ванда. Как вы не похожи на Эдгара!
Арнольд (не слушая). Вот я о себе вам скажу. Кто такой я вот здесь, в нашей теперешней жизни? Никто. Мне нет места. Вы скажете – молодость. Нет, нет! Это совсем не то. Я художник. Я чувствую в себе все силы художника. Моё воображение создаёт волшебные грёзы. Я вижу красоту в каждой былинке. Она вливается в мою душу, как солнечный луч в распускающийся цветок. Мои уши слышат неведомые простым людям мелодии. Творческие силы подымают меня, как лёгкую птицу – широкие белые крылья… Я живу не одну свою жизнь – я изживаю десятки воображаемых жизней… Но я не писатель, я не музыкант, я не живописец, не зодчий. И не потому, что я не учился. Нет. Я мог бы учиться – и был бы плохим музыкантом, плохим поэтом, посредственным живописцем. Я чувствую, что мои силы могут найти своё приложение в какой-то совсем другой жизни; что здесь, у нас, где всего семь свечей, моему огню нет места. Это я, мужчина. Формы, в которые может вылиться моя деятельность, всё же разнообразнее. А женщина?
Ванда. Да, да… Я сама часто думала совсем так же. Эдгар говорит, что всё в жизни надо понимать через смерть.
Арнольд. Может быть. Может быть, для того, чтобы понять, какой жизнь должна быть. Но нашу семисвечную жизнь и понимать нечего. Учительница, кассирша, фельдшерица, музыкантша, жена, прислуга, артистка, швея… ну ещё пять, шесть, десять этикеток… Вот и всё. Но где же, в чём же выразится вся душа женщины, со всеми безграничными своими силами? Нет, нужно всю жизнь перестроить сверху донизу. Я не о политических и социальных побрякушках говорю. Всю, всю! Там, внутри, чувствуешь, как горит, переливается самоцветными камнями какая-то скрытая жизнь. А здесь – учительница, переводчица, жена, кассирша… Где же те силы, которые дадут возможность наконец прорваться на свет Божий великой симфонии, разрывающей на части человеческую душу? Если бы только когда-нибудь это случилось, какое бы безграничное счастье ожидало человечество. Земля бы наконец примирилась с небом. Симфония понеслась бы от земли к небесам. И воочию чудо свершилось бы: и земля и небо стали единым, великим целым!..
Ванда (возбуждённо смеясь). Я сделала открытие.
Арнольд (серьёзно). Открытие?
Ванда. Могу указать вам ваше призвание.
Арнольд. А именно?
Ванда. Вы – проповедник.
Арнольд (меняя тон). У меня одно время была мечта поступить на сцену.
Ванда. Вы, на сцену?
Арнольд. Да. Мне казалось, что это моё призвание. Я часто мысленно сочинял драмы и сам же разыгрывал главного героя. (Улыбается.) Мать всегда замечала во мне перемену и говорила: «Ты, кажется, сегодня в новой роли». И до сих пор иногда я чувствую себя в жизни, как на сцене.
Ванда. Теперь я вижу, что вы художник, значит, настоящей жизни не знаете.
Арнольд. Что вы! Да я уверен, что профессор знает жизнь как никто другой.
Ванда. Вы думаете?
Арнольд. Уверен. Только великие художники знают настоящую жизнь.
Ванда. Он о жизни говорит с ненавистью.
Арнольд. Это не ненависть, а ревность.
Ванда (с чувством боли). Ужели Эдгару жизнь пропела симфонию смерти? Вы слышали вторую часть?
Арнольд. Нет.
Ванда. Это песнь самой смерти! (Тихо.) Иногда мне кажется, что нельзя жить. Там, на горе. Если ветер поёт всегда такую песнь.
Арнольд. Жизнь всякого художника – загадка.
Ванда. Которую он способен разгадать менее, чем кто-нибудь другой.
Арнольд. Во всяком случае, он гибнет, чтобы разгадать её.
Садовник (из сада). Спилил. Только не знаю, довольно ли.
Ванда (подходит к окну). Там две большие ветви в цвету. Ты обе спилил?
Садовник. Нет, одну. Та, которая повыше, до окна не достаёт.
Ванда. Ну, хорошо. Если понадобится, другую можно потом.
Арнольд (подходя к окну). Нынешний год вам придётся нанимать караульщика.
Ванда. Вы думаете, так много будет яблок?
Арнольд. Ещё бы! Весь сад в цвету. Деревья совсем без листьев, все белые.
Ванда. Половина пустоцвет. (Наклоняется в окно, срывает ветку яблони.)
Арнольд. Видите – завязь.
Ванда (нюхает). Почти не пахнут.
Арнольд наклоняется и тоже нюхает. Пауза. Они стоят молча, оба залитые солнечными лучами.
Если бы можно было поверить, что новая жизнь действительно будет…
Арнольд. Будет.
Ванда. И мы доживём? При нас?
Арнольд. Как хочется сказать – да!
Ванда (грустно). И не можете?
Арнольд. Себе говорю. Твержу каждый день.
Ванда. А других не хотите обманывать?
Арнольд. Всё равно не поверят.
Ванда. Смотрите: это пустоцвет. (Обрывает цветок и рассыпает лепестки на подоконник.)
Арнольд. Надо в себе услыхать жизнь, которая рвётся наружу.
Ванда. И тогда?..
Арнольд. Тогда нельзя не поверить в её торжество.
Ванда. А смерть?
Арнольд. Что смерть?
Ванда. Смотрите, они обсыпаются – дня через два сад отцветёт.
Арнольд. Надо прислушаться к своей душе.
Ванда. Там не только жизнь, но и смерть.
Арнольд. Я смерти не слышу.
Ванда. Никогда?
Арнольд. Когда слышу жизнь… А вы?
Ванда молча стряхивает лепестки на пол. Пауза.
Ванда (сама с собой). Вы совсем непохожи на Эдгара.
Пауза.
Арнольд (решительно). Я хотел вам задать вопрос.
Ванда (возбуждённо смеётся). Опять. О том же?
Арнольд (волнуясь). Не смейтесь. Это совсем не любопытство. Я должен знать. Только вы не сердитесь.
Ванда (смеясь). Если нельзя ответить, я не отвечу. Вот и всё… (Быстро идёт к балкону.) Фанни Виндиг… ах, оба!..
Входят Карл Виндиг с женой. Совершенно одинакового роста, оба низенькие, довольно полные. Он в очках, с седыми бакенбардами, без усов. Она в чёрном чепце. Похожи друг на друга. Оба улыбаются доброй, радостной улыбкой.
Фанни. Вот и мы, госпожа профессорша!.. (Целует её.)
Карл. А где же маэстро?.. (Пожимает руку Арнольду.) Вы, кажется, доктор?
Арнольд. Нет. Я без определённых занятий.
Ванда. Художник.
Карл. А… Это тоже хорошо! Очень, очень рад…
Фанни (оживлённо и несколько восторженно). Ну что у вас за сад, что за сад! Прямо очарование! Весь в цвету. Я даже такого цвета и не видала.
Карл. Масса птичек. Целый концерт.
Фанни. Мы с Карлом не удержались и прошлись по саду.
Карл. Вы по воскресеньям пускаете гулять детей из колонии?
Ванда. Да, здесь такой хороший воздух. И они очень бывают довольны.
Фанни. Воображаю восторг детей!
Карл. А солнце печёт, как летом.
Ванда. Не хотите ли выпить воды с сиропом?
Фанни и Карл смотрят друг на друга.
Карл (улыбаясь). Я бы не отказался.
Ванда. Ну конечно. Ведь так жарко.
Ванда уходит. Молчание. Карл продолжает улыбаться.
Карл (к Арнольду). Вы… вы… молодой человек… простите, я не знаю, как ваше имя.
Арнольд (просто). Арнольд.
Карл. Постоянный житель здешний?
Арнольд. Нет, я живу в городе.
Карл (улыбаясь). Музыкант?
Арнольд (тоже улыбается). В душе.
Карл (смеётся).
Фанни. Все молодые люди – музыканты в душе.
Карл. А все музыканты – в душе юноши.
Оба смеются. Ванда приносит поднос с водой, стаканами, сиропом и ставит его на стол.
Ванда. Я к вам вчера собиралась. Да всё как-то некогда.
Карл. Всё ухаживаете за профессором.
Смеётся и пьёт воду. Наливает стакан и подаёт Фанни.
Фанни (берёт стакан). Молодые люди и должны ухаживать за стариками.
Ванда. В таком случае я отказываюсь от молодости.
Карл (сияя). Скоро ли маэстро подарит нас новым творением своего гения?
Фанни. Я благоговею и боюсь его музыки. Это так глубоко, так глубоко, что я почти не могу!..
Ванда. Эдгар через неделю кончит.
Карл (с умилением). Эдгар – великий композитор.
Фанни. Карл посвятил ему свой новый вальс.
Карл (конфузясь). Как же, как же… На днях занесу вам.
Ванда. И сыграете.
Фанни. Очень миленький вальс. «Белые цветочки». Уж признаюсь: мы пробовали с Карлом танцевать под него. (Смеётся.) Карл насвистывал, а я аккомпанировала.
Карл (совсем сконфузившись). Ну, не совсем так…
Смеются.
Арнольд. Вы давно знаете профессора?
Карл (живо). Вместе учились. Как же. В одной консерватории.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?