Текст книги "Показания поэтов. Повести, рассказы, эссе, заметки"
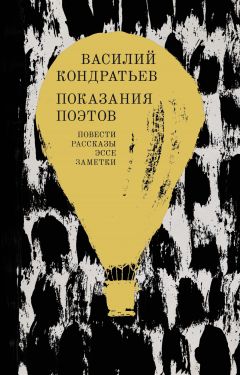
Автор книги: Василий Кондратьев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Это высохнет. Ничего страшного, в наши дни больше людей не испытывает потребности ни в каких отправлениях и любит скорее спасать, чем спасаться. Это рентабельно. Что меня беспокоит, это то, сколько крыс развелось в городе.
– Что, теперь будет вымирание? – безнадёжно и не совсем искренне огорчилась Софа.
– Боюсь, нет. Замеченный тобой казус, конечно, от непривычки шокирует. И всё же кругом перемены. С тех пор как мы все, слева направо, ощущаем духовность и плюрализм, всё больше людей чувствует и пробуждение ранее скрытых качеств ангелов. То ли будет, как пишут, лет через десять…
– А как же, извини, дети? И это же, говорят… приятно?
– Приятно сознание. По данным международной ассоциации независимых медиков, количество беспорочных отцов и матерей, выявленных врачебным осмотром, растёт. На это можно лишь возразить, как общество медиков-евангелистов, что всегда, в сущности, так и было. Здесь обе стороны яростно спорят с тем, что высказал Лиотар в своей последней книге «La famille postmoderne». В любом случае культурный мир обсуждает. Фашистов забыли, теперь говорят – «фалист».
Семён поцарапал пятно кофе, поджёг спичку и смотрел, как тонкая струйка огня проползла по ткани, погаснув, когда стало чисто.
– Мне снилось, – сказала Софа, – то же, что днём. Но во сне это было нагромождение звуков, формы и цвета, большое мерцающее нечто. Мне было хорошо, что я не чувствую никакого тела, кроме прозрачного ветра; потом и он исчез. Всё померкло, а затем я внезапно представила себе, как лечу, головой вниз, в пролёт лестницы. Утром я впервые плакала, что проснулась одна.
– Тяжёлая амнезия, – сказал Семён, – предшествует прозрению. Утром я понял, что коньяк придуман алхимиками и не было никакого камня. А он горек и изнутри обжигает, заставляя смотреть вокруг, как пылает незримое, оставляя стекло, а потом ничто. Любовь, эта штука с падающим моноклем, как мне кажется, требует отдельного разговора.
– Но объясни хотя бы, почему остаёшься один. Один потом становится на карачки и убегает в лес, другой рулит к небесам, и только убийца зовёт и манит, как будто такое бывает счастье.
– Ни в одной колоде, – сказал Семён, – игральной или гадальной, нет карты «убийца». Никто не напишет философию безнадёжности. Нет таких карт, которые бы давали полный расклад, и нет у астрологов схемы, способной стать точной картой. От взгляда на этот одному и для бесполезного предназначенный чертёж любой падет мёртвым. Мысль ищет пользы, а не познания. А что смерть? Всё поменялось местами: где, казалось, поражение, окажется победа.
– Я видела, как самка тарантула жрёт самца, чтобы рассыпаться тысячью паучков. Я смотрела, как самурай на пикирующем истребителе врезался во дворец возлюбленного императора.
За мостом в пепельном зареве чернела мечеть среди деревьев, дворцы и дорога из светляков, уводившая проспектом в сторону моря.
– Я вспомнил пророков, – взял её за руку Семён, – как твёрдо, неотвратимо они шли к крушению и гибели. Умер ли Рас Тафари, Чёрный Христос на Соломоновом троне, в горах, расстрелянный? Не тогда ли начинается империя, когда, достигнув физических пределов, она рушится, как Вавилонская башня, расходясь безгранично? Война магмой пылающих ручейков уходит под землю, чтобы, прорываясь в вулканических толчках, дать ей новую кровь. У меня в глазах полыхало зелёное. Гадатель – убийца, когда находит чужую судьбу, и самоубийца, когда узнаёт свою.
Софа чертила жемчужным ногтем зелёную скатерть, пока за круглым столом горел чай, негр и белый крутились синкопами на экране, совпадая в один профиль. Когда она взяла его руку идти танцевать, то заметила перстень, который змеёй шёл по среднему пальцу вокруг головы льва.
– Любовь, – улыбнулся он ей, – обречена на летальный исход уже тем, что никому не интересно знать, что будет потом.
– За победу Хусейна?
– Купи мне, Боже, мерседес-бенц.
На Гатчинской улице прошёл туман, и весенняя вьюга опрокинула над городом чернильное небо в пробоинах звёзд. Мимо закрытых кафе и затухающих окон бежит, прижимая шляпу, Василий Кондратьев, а над ним луна высоко в кружевных папиросных тучах. Тёмный фонарь, башня со шпилем, повис на ветру, не качаясь. На углу три хариты, прикрывшись полотенцем, хохочут, отворачиваясь друг от друга.
В крытой террасе, нависшей над пахнущим полуночным дневным светом и баштурмаем парадным двором с Невского, Софа и Симон танцуют среди толпы и столиков. В баре светилось от электрической пыли, а бесподобная Гюэш-Патти пела запинающимся, меланхолическим соловьём, содрогаясь всем телом от каждого прикосновения трости. Софа ближе и ближе кружилась к Симону, чувствуя наконец твёрдость и очертания.
Больше нечего рассказать о начинаниях Софы Кречет. Её первый любовник, конечно, умер (как говорят) от сердечного приступа, и умер, из скромности напишем слитно, вовремя. Она переехала в Голландию, в Амстердам, где проживает, for business sake, под именем Евдоксии, русской инокини. Её предсказания популярны.
Зал, хотя и малый, был переполнен под люстры; давали «Коппелию». Только цветочница, выпорхнув из‐за куклы, на тридцать втором фуэте стукнула ножкой, раздался публичный шквал, а Энгель шепнул, наклонившись к Семёну:
– Бесподобна! – но тот, выгнув спину, уже прыгнул с первого ряда на авансцену с розами для примы.
– Что сделаешь, – сказал он, когда они уже шли, вдыхая летнюю изморось, по каналу. – Я же не мог ей тогда объяснить про хвост. Сказал только, что я русский голубой, и был, разумеется, понят неправильно.
– Ты что, обиделся за породу?
– Что ты. Я разве что не понимаю, кто же тогда ей попался. Боже мой, неужели орангутан? Для них же холодно в Ленинграде…
– Кто знает. Кто бы он ни был, мы знаем теперь, что, словами поэта, именно там он узнал нечто лучшее.
<1991>
Зелёный монокль
Фейдт и Рихтер улыбнулись,
Двери тихо повернулись…
М. Кузмин
Известно, что весну на Невском проспекте обозначает Володя Захаров, его лёгкое пальто – как зелёная гвоздика в петлице Аничкова моста. Я сейчас скажу непонятно, но представьте себе: его пальто для меня – тот монокль, в который видны весь Изумрудный город, совсем прозрачные, насекомые явления. В элегантности, скрадывающей, как стеклянная бумага, новизну вещей, есть такой невнятный и мистический смысл. В мире предметов, изысканных вкусом и воображением, реальность необыкновенная: мы потому любим старину, а ещё больше её подделки, что все черты, швы и узоры кажутся поизносившимися до своего понятия. В общем, парвеню, одевшийся с иголочки по журналу, неинтересен. Напротив, впечатление вещи «из вторых рук» срабатывает как магический кристалл, показывающий и далёкое нечаянное родство, и самые странные метемпсихозы. Я не удивлюсь, если в рисунке пятен, оставшихся от росписей кабаре «Бродячая собака», вдруг узнаю молодого человека с зелёным цветком в петлице, вылитого моего приятеля. Потому что вечная, во все времена встречающаяся порода денди, лунарных кавалеров-курильщиков, сообщает вкусы, привычки и даже черты лица.
Эти любимчики, блуждающие по вечерам огоньки на проспектах, раздробленные отражения сияющего над городом бледного зеленоглазого бога; индусы зовут его Сома и верят, что он даёт поэтам вдохновение, солдатам твёрдость и подсказывает гадалкам. Маги учили, чтобы разглядеть его лицо как в зеркале, нужно «вернуть себе полное тело», т. е. выкурить в полнолуние папиросу. Однако это лицо спящего, потому что ведущий тебя взгляд видеть нельзя.
Итак, зелёный взгляд можно принять скорее как поэтическое, чем портретное указание. И правда, Одоевский пишет, что «преломление зелёного луча соединено с наркотическим действием на наши нервы и обратно», а дальше, что «в микроскоп нарочно употребляют зеленоватые стёкла для рассматривания прозрачных насекомых: их формы оттого делаются явственнее». Но что меня поразило, так это тонированный зелёным монокль: я очень хорошо помню, как в детстве заметил такой за витриной в антикварной лавке.
Этот, можно сказать, окуляр – теперь редкость, которую я поэтому понимаю почти символически: особенно то, как он выпадает у актёров, изображая вопиющий взгляд, даёт намёк эстетический, двусмысленный. Недаром его обожали сюрреалисты, выступавшие при своих моноклях, как мастера часового завода. Однако передо мной была не идея, а подлинник, даже с ушком для шнура, а рядом на футляре ясно читался «Карл Цейсс». Так что жестокая, слегка порочная пристальность монокля осталась в памяти вроде какого-то немецкого дежавю.
Я не читал, к сожалению, рассказа Кузмина «Берлинский чародей» и только подозреваю, какую легенду мог повстречать автор «Римских чудес» среди тёмных бульваров, дансингов, нахтлокалей, русских кабаре, теософских и литературных кругов. Самые диковинные образчики человеческой прихоти были собраны здесь с немецкой дотошностью, и каждый блуждающий в поисках своего «сокрытого» мог подобрать его под фонарём где-нибудь в дебрях берлинских закоулков и перлью. А там же, куда ни одного пророка не пускали без карточки, на гала-презентациях последних истин целые братства свободного духа бились в джазовых дебатах, сатанисты танцевали с кармелитками, гости вкушали салаты из мандрагоры и тушёных капитолийских гусей в яблоках Евы под каннское вино, лакримэ кристи, иные баснословные яства. Именно здесь, в эпицентре послевоенной Европы с её кризисами и революциями на короткое «веймарское» время, как в собирающей линзе, запутались реальность и её метафоры, чтобы дать нашу новую, вовсе не классическую эпоху: сегодня, когда наша былая реальность стала колыбельной сказкой, а былые мифы и аллегории разбросаны по всем прилавкам и модным журналам.
Интересно, почему это вдруг всплывающее и очень конкретное название – русский Берлин – тоже вырастает как-то в понятие? Хотя если мы говорим о мифическом городе, то и его зарождение и падение связываются, конечно же, с русским нашествием: сперва эмиграция, потом советская канонада. Но это не всё.
Картина, стереоскопически чётко раскрывающаяся на старой фотографии: советский, в белом кителе, офицер с ребёнком на фоне пустыни развалин за Бранденбургскими воротами. Однако, несмотря на семейность, здесь «образ триумфа» на месте, ограничившем Россию и Неметчину. Этот мальчик – теперь поэт и мой старший друг; для него, едва ли не первого на сегодня писателя, раскрывшего живительную и фантастическую перспективу, которую даёт нам тихий русский нигилизм, выстроенный в строгом европейском стиле, это кажется неслучайным – родиться на развалинах Берлина и проживать в Петербурге.
Может быть, потому, что в памятниках нашего города и в самой его речи (этот теперь редкий, не по-славянски чёткий акцент) так странно соединились Италия и Германия – вообще родина и горнило высокого искусства, располагающего большой мир в малом, – миф о Берлине во всей его значимости кажется мне специфически петербургским явлением. На родине русской романтики её обыватель всегда ощущал себя обособленным, но с большим кругозором. (К тому же и такая жизнь, когда перейти границы реальности легче, чем государственные; вспоминаются все романы и кинофильмы с заграничными прогулками по Васильевскому острову и Выборгской стороне). Для питерского чудака если не в его кабинете, то уж точно по Северной столице расчерчиваются континенты. Да не отсюда ли и навязчивые прозвания кафе и ресторанов? Поскользнувшись на краденых воспоминаниях, а то ли от сырой летней жары и духоты я вдруг заметил, как русский Берлин внезапно показался мне за дверями багровой кафейницы на углу Баскова переулка – теряющийся в окрестностях Надеждинской улицы.
Кварталы вокруг Надеждинской, остров, омываемый торговыми проспектами, ограниченными костёлом, немецкой кирхой и загадочным Таврическим садом: здесь тихо и в разгар дня, улицы заполняются только звоном колоколов собора Спаса Преображения. Как будто поминальные о пока несбывшемся искусстве. Кафейница вдруг напоминает, что в этом доме когда-то было издательство «Петрополис», сначала местное, потом берлинское; точно так же из этих кварталов, светских и художественных, а в ленинградские годы вымирающих, уезжали, замышляли, но сделать не пришлось. Берлин для этих мест – вроде того света; в его мифе есть и русские кости. Но все годы здесь остались и жили самые мистические поэты Петербурга, жил Хармс, жили Кузмин и Юркун.
Я не читал рассказа «Берлинский чародей»: от него, кроме заглавия, ничего не осталось. Но раз мы разобрались, что за симпатия между странами и эпохами, то с прототипом, который завещал Володе Захарову его пальто «со сквозняком», ещё проще. В самом деле, кто не знает, что немецкая вещь – вещь во всех смыслах?
Нет невероятных догадок, есть расстояния; когда собираешься с мыслями, проделываешь далёкий путь. В наши вещественные времена поток сведений, рассеяние мест и фактов дают с трудом преодолимую реальность, от стыдливости сказочную. И ведь человеку, этому мученику искусства, приходится иногда воплощать больше, чем кажется.
Далеко на юг от Невского проспекта, в глубине Персидского залива ближе к берегам Кувейта лежит остров Фаилака, маленький и правда как будто распростёртый: когда-то Александр Великий, остановившийся здесь в походе на Аравию, называл его Икарос – в память о том месте Эгейского моря, где разбился легендарный сын Дедала. На малом каменистом мысу, откуда весь остров на ладони, стоит ограждённый стеной грубый столп. Археологи нашли, что это незапамятное святилище. Со времён забытых империй до последней «войны в Заливе» считается, что именно в этих местах соединяются внешний и подземный миры: нефть выходит к поверхности, солёные и подземные чистые воды соприкасаются, жемчуг, называемый здесь «душой бессмертия», пузырьками лежит по дну. Бывали и времена, когда люди видели здесь того, кого до сих пор зовут «Зелёным человеком», говорившего от имени богов. Тогда, по легенде, луна сходила на землю. Древние поставили на острове храм великому лунарному Энзаку, греки посвятили его Артемиде; арабы и сейчас ссылаются на суру Пещеры, рассказывающую о встрече здесь пророка Мусы с откровением «зеленоликого» Аль-Хидра. Их женщины верят, что от «зелёного взгляда» излечивается бесплодная, если проведёт ясную ночь у священного столпа.
Зелёный взгляд, преследующие поэтов глаза безнадёжно возлюблённых, точнее всего определить как сомнамбулический; в слепом зрачке монитора сменяются образы, блуждающие в эфире: возможно, мерцающая и невыразимая причина влечения, постыдной зависимости? Подозрительный гость и безукоризненный денди, этот бледный Пьеро при луне бродит по городу, или, как говорят, клубится вовсю.
Как говорят, «я сею на все ветра».
Его душа то и дело забегает, покидает его, взор стекленеет, и каждый раз новая тень появляется на тротуаре. Он, собственно, и не плоть, а элегантная камера, может быть, без дверей и окон. Ему, видимо, хочется знать, где его подлинное тело: он ходит по кладбищам, завязывает встречи на партиях, разбивает сердца, иногда окуляры. Он спрашивает и получает вести: персонаж и правда неумолкаемый. Наконец свидание назначается, и вовремя на этом месте он кончает с собой. В живых тающее облачко его папиросы.
«Я курю и сгораю.
Я ухожу в разные стороны одновременно».
В его глазах исполняется ясная и звонкая, словно всё перевёрнуто, наркотика окружающего порядка (с черепом, разнесённым вдребезги, он видит уже неподвластное), бездонный взгляд как будто ожившего для меня в «Багдадском воре» Конрада Фейдта.
Если вы помните «Калигари» и сомнамбулу Чезаре, которого этот шарлатан и, как говорят французы, «курилка» возил в чемодане по всей Германии, вы знаете, как этот взгляд буквально навис, заставив Европу оцепенеть. Плакаты «Ты должен стать Калигари» и куклы берлинской сомнамбулы заполнили все синема и балаганы от Сан-Франциско до Петербурга, а немецкий гений кино вдруг сосредоточил в Берлине ту камеру-обскуру, которая и сейчас пронизывает нас излучением странного мира, рассказывает новую легенду какого-то очень забытого предания. Неужели история Каспара из тьмы?
Бертран описывает встречу с ним в Дижоне: этот моментальный незнакомец с костлявыми пальцами и прозрачным взглядом оставил поэту одноименную рукопись. Мы не знаем, что это было за наваждение, однако точно известно, что некий назвавшийся Каспар появился на нюрнбергской ярмарке 1828 года: бледный и как будто безумный, он уверял, что с рождения содержался во мраке – и говорил много других тёмных вещей. Его загадочные происхождение и потом гибель породили толки, спириты даже считали, что всё это связано с темнокожим волхвом Каспаром из Аравии, покоящимся, как известно, в Кёльнском соборе. Если это и правда такой блуждающий образ, то ничего удивительного, что он кинематографически возник на заре нашей эпохи, когда танцующие чернокожие пророки заполнили церкви и дансинги, проповедуя скорое воцарение и мученичество нового мессии на Соломоновом троне Эфиопии.
Перед тысячами из прокуренной тьмы на экране появился Фейдт. Возможно, вы вспомните эти интермедии «Опиум» и «Иначе», ночные берлинские закоулки, освещаемые только напёрстными звёздами слепых рук потерявшегося артиста. Магическое пространство другого мира, застывшее для старых романтиков в бескрайнем стереоскопе, всё пришло в движение, залучилось в сомнамбулическом взгляде. Но, кажется, об этом писали. Занятно всё же, почему Кузмин назвал его зеленоглазым? Хотя до «Багдадского вора», когда берлинский чародей появился в образе крылатого персидского всадника, со стрелой во лбу падающего фаэтоном на вечный город, никто здесь не знал, что эти глаза свинцово-голубые, и не слышал какой-то загробный акцент голоса, жестокий, как прицел монокля.
Не знаю, чем меня тогда задержал тот зеленоватый немецкий монокль, и не могу на Невском найти тот магазин. Однако в одной из таких прогулок я зашёл в заведение «Три семёрки»; там стояли автоматическое казино и компьютерные игры, эти дешёвые макеты бесконечности на пёстрых экранах: была там и такая, в «Персидского принца»… кто же забыл о фильме «Багдадский вор»? Сюжет получился интересный.
По воле чародея Джафара я заключён в лабиринте, где должен найти и проложить себе дорогу к принцессе, которая ждёт меня в сказочных чертогах. Это весьма торный путь. Однако моя удача, к которой мне нужно идти так долго, преодолевая все двенадцать ярусов лабиринта, – на самом деле всего лишь конец, а потом мне остаётся начинать всё сначала. Этот лабиринт представляет собой архитектурный гротеск сводчатых галерей, тупиков и мостиков, украшенных дымящимися кувшинами, стражниками, магическими зеркалами и падающими решетками. В своих долгих попытках я стал наконец блуждать по нему без всякой цели – и здесь вдруг ясно обнаружил, что каждый ярус лабиринта является замкнутой сферой, а богатая дверь выводит из неё в следующую, и так все двенадцать следуют друг за другом в почти планетарном порядке. Я снова и снова убиваю волхва, но каждый раз непостижимым образом замкнутой системы оказываюсь опять в сердцевине своего лабиринта. Таким образом, моё путешествие хуже, чем бесконечно.
Я ещё иногда захожу по дороге к игорному экрану следить за его бесконечно пустыми комбинациями, но боюсь, что скоро и это будет мне не по карману. Всё меняется. Увы, мы уже не подозреваем в непривычно элегантном прохожем загадочного гостя из Берлина; он не стучится по ночам в двери тихих квартир, а их хозяева не вздрагивают от звука своих позабытых немецких фамилий; гаванские мальчишки, эти частные советские сыщики, не выслеживают его в переулках. Белый китель полковника-победителя вы можете приобрести у Бранденбургских ворот.
Но Володю Захарова знают многие; пока что никто не ощущал опасений. Он прогуливается по Петербургу, со своей камерой испытывая и разыгрывая бесконечные артифисы: едва ли малая их часть вполне очевидна. Не вторгаясь в его частности, я скажу известное: все его вещи смотрятся.
<1992>
Нигилисты
(мартышкина повесть)
Борису Останину
…выходили они ночью тайно из города в одно место, где стояли некоторые домы, построенные квадратом и имевшие разные комнаты, которые все великолепно были расписаны…
К. Ф. Кеппен
1
Прежде чем изложить вам причуды одной кампании, я бы заметил, что она складывается из бесплодных усилий, идущих от чистого сердца, из взаимоисключающих слов и поступков. Это известные черты русской жизни, они питают нашего патафизика, инженера воображаемых решений. Его тип – исторический, но мне кажется, что обострившиеся сегодня во всём противоречия вот-вот привлекут своего героя, которого до сих пор мы держали в мистиках и курьёзах. Сейчас, когда как бы на развалинах сталкиваются разные измерения, его лучшие времена: молчаливые, наперекор мысли и всякой другой напраслине, безнадёжно счастливые. Всё это напомнило мне полёт разведчика, который я видел в старом кино; как говорил француз, этот – действительно королевский пилот.
Отец Пуадебер, первопроходец воздушной археологии, – так и тянет назвать её пневматической, – уверял, что особые свойства почвы и необычный для европейца свет дают на его снятых с самолёта фотографиях поразительный вид на римскую Месопотамию, исчезнувшую больше тысячелетия назад: весь обширный лимес укреплений, ассирийские развалины, города, парящие, как паутина проспектов и улиц, на нити большой дороги – всё, невидимое под землёй даже с высоты полета, возникло на снимках. Иллюзию нарушают только безлюдье или вдруг нелепо, не в перспективе раскинувшийся базар; одни верблюды, невольно бредущие в пустыне, укладываются в призрак порядка.
Такой эпиграф. Здесь начинается рассказ о том, как двое нашли пуп Земли на реке Мойке, где-то возле Юсуповского дворца. Это было, хотите – верьте; и хотя некоторые вычисления указывают скорее на Заячий остров, все разногласия кроются не в природе, а в безумии совмещаемых её планов. По-своему прав будет поэт, что «разумение человека в его почве», и мир невидимый, мир мёртвых и возможных, представляется своему страннику (у того, по масонскому обычаю, на глазах повязка) в очертаниях особенной геометрии – что вполне соответствует скрытому за превратностями истории замыслу города Петербурга. Зачем же, сперва поступая из чисто археологического любопытства, потом оступаются в поисках, соскальзывая, так сказать, по ту сторону луны? Но изыскатель вдруг ощущает в природе городского замысла пока ещё невнятную волю: очевидно только то, что он обязан ей своим происхождением и окружающей реальностью. Теперь его не остановишь. Он раскрывает книги, рисует фигуры. В его воображении – остров, открытый на все ветры, распускающийся, как вертоград. Не знаю, летучий ли этот остров или в океане, как устроена его утопия, четыре ли, пять, сколько граней у её звезды. Ведь те богато фантастические края, которые показывает нашему путешественнику его картография, – всего лишь новая перспектива уже обитаемых, открывающихся перед ним на последней ступеньке, когда повязка спадает с его глаз. На входе в кафе «Норд» ему встречается Трисмегист, высокий и седобородый, как Леонардо, чародей из Винчи.
Я знал одного такого; утомительный дед, я встречал его и в кафейницах, где толпа, у канала на колоннаде, везде среди тех, кто собирался «смотреть слона» под пыльные или дождливые марши Гудмена, тасовки уличных растаманов, торгашей, незваных танцоров и ободранных белогвардейцев.
Его «корона», разумеется, были кафе; он был из тех, кто находит собеседника в задних рядах: говорит нехотя и свысока, невнятно, в то же время как-то придерживая вас за рукав, заставляя смотреть в его пустые глаза, вслушиваться и глотать дым.
Мы познакомились по поводу, что моя сумка была набита «волшебными фонарями», этими вышедшими из употребления стеклянными пластинами для проекции. Он решил, что я покупатель, и показал мне из своего кармана причудливое резное яблоко для трости: такие в 20‐е годы носили последние петроградские масоны; на вид круглые, от света они отбрасывают на стену символические знаки. Старик вообще, как потом оказалось, больше всего любил разные игрушки: по-моему, его коммунальную комнату занимала немецкая модель железной дороги с человечками, домиками и деревцами, а с пенсии он купил телескоп и вечерами мастерил всякие милые, развлекающие безнадёжное воображение гаджеты. Так загадочно и напрасно было всё это. У Майринка написано, что так старый сом, залегающий на глубине, где его прозелень фосфоресцирует в этой бездне, клюет только на редкие, изысканные безделицы. Он, кстати, любил и бесконечно рассказывал о животных: лысые мартышки, собаки «бабочки» и французские бульдоги, волосатые птички населяли его, как карлы и юроды своего феодала. Не было ли в этой его комнате и большого аквариума с чистой водой, для сильфиды? Ведь он был не самозванец. Он не плутал картами, как какой-нибудь Сен-Жермен, стараясь казаться фигурой загадочного, проникновенного беспамятства Вечного жида: это был попросту человек местной породы. Его происхождение, вехи, семья, даже сама дата его рождения были, видимо, очень трудны для советской жизни – а теперь, спустя столько лет, всё уже так позабылось, запуталось, что, если внимательно рассудить факты, я готов верить, что беседовал не с гражданином, а с египтянином… По своей манере он мне скорее напомнил бы капризную патологию брамина со старой индонезийской картинки: движения, расстроенные болезнью и забывчивостью, были изящные и скрадывающие друг друга, как в пантомиме. Но это же Египет, страна, не поддающаяся описанию, не требующая его? Я даже не знаю, а он наверняка забыл, как его настоящее имя: возможно, Милий или Эмиль… Он помнил, по крайней мере, что дети в гимназии звали его Мыло.
Этого Египтянина Мыло я и вызвал в памяти, как всегда зовут старых друзей, оказываясь на мели. У меня не было даже на папиросы, я развлекался дома, перечитывая записки Гурджиева и воображая его приключения здесь, в Петербурге, нашёл всё это тоже способом для денег. Ведь если отклониться от «Четвёртого пути», да и от всякого вообще, вы сразу найдёте мага на экранах «Фантомаса» или на страницах приключений Ника Картера, вступив в борьбу с д-ром Ванг Фу, который заполонил весь Нью-Йорк своими двойниками, сразу везде и нигде. Я взял себе французский псевдоним и начал развивать историю, где возникли, конечно же, юный повеса, вилла миллионерши, прорицательница… Мне нужен был человек, способный на преступление. Такой нарушитель границ, какими бы они ни были, связующий воедино все одиноко яркие странности, фантазмы, заставляющие предполагать в этой жизни некий заговор. Ведь если нет сговора, разве нельзя его составить?
Я вспомнил поэтому Мыло; найти его адрес по рассказам о доме казалось нетрудно. Его фасад, украшение своего проспекта, в стиле скандинавской сказки, я сразу же заметил из трамвая; мне бы ещё знать квартиру и кого спросить. За каждой дверью шли коммунальные лабиринты, превосходящие барокко. В одном из их тупиков я и мог повстречать старика, обнаружить его следы – или хотя бы чувство нашего знакомства. Я не боялся разочарования, а хотел видеть, на что это похоже; затем и приехал.
Я обошёл всю парадную лестницу, спустился искать под глубокую арку: везде открывая только всё новые двери и переходы. Никаких признаков нужного мне номера не было. Я зашёл в одну незапертую квартиру, бесполезно прошёл по тесно заставленному коридору. Здесь была только ещё одна дверь: я вышел на чёрную лестницу, спустился во двор… но попал на улицу.
Арка, оказывается, открывалась в мощёную улочку с низкими домами, пустынную и какую-то неживую. Эта улочка затерявшаяся, без перспективы. Я стал искать её название, не нашёл. И более того, её слепые домики, прижавшиеся друг к другу… их номера были все одинаковые: целый квартал, скрытый за одним сказочным фасадом. Я вспомнил историю об улице призраков, замурованной и забытой в старинном квартале, легенды об эпидемиях, изъедающих, как термиты, камень, рождающих неприютные мёртвые города «без фасадов». Я побежал обратно, в сторону арки, словно боялся, что её решётка окажется закрытой.
Увы, я оказался слишком героем своего романа! Один толчок, какое-то заграничное переименование вдруг дало мне уверенность и приключение. Но я слишком отдался на волю существующего в нашем городе свойства напоминать… чужие края и эпохи, скрытые от нас, как экзотический антиквариат, за пределами своего собрания. О, как эти запертые здания, тёмные музеи, дразнят воображение! В часы ночных прогулок одинокое окно с улицы кажется косморамой, изощрённой китайской коробкой, заключающей в себе все сферы жизни. Спящие красавицы… Однако не похоже ли это на окошко той камеры-обскуры, у которой линзы и призмы чудовищно преображают окружающую панораму на столе безумного обозревателя? Я читал, что сохранились три такие игрушки, одна в Англии и другая на мевере Италии, но никому не известно, где третья.
Наконец в четвёртой квартире, куда я звонил, мне открыли, и парень неуверенно сообщил, что «старик умер». Здесь этого старика не особенно знали, никто не знал и меня: парень показал его комнату. Узкая, вся в окно; соседи уже, вероятно, вынесли из неё всё, что понадобилось. Тахта осталась. Здесь я раскинулся и закурил, разыгрывая сам с собой партию в спичечный коробок. Я уже, вероятно, понял, что не найду нужного номера. Но в этой комнате мне стало спокойно, как будто кто-то повесил телефонную трубку. Я щёлкал коробком по столу, рассматривая этикетку: на зелёном в дымке поле стоит забытый велосипед. Если верить надписи, это велосипед Герберта. Я не знал его, но на спичечной фабрике кто-то следит, замечая все важные события – хотя походя, не для того, чтобы из этого вышла очередная история.
А что, в самом деле, на склоне печального года – не отлетела ли ещё одна душа к южным пределам, спустившись, как священный ибис, в родные тростники своей страны мёртвых? Об этом пробуйте прочитать на песке признания, признаки теряющиеся, как разбегаются по блюдцу кофейные трещины сухой гущи. Возможно, испарения нашей трясины, на закате играющие со светом и влажным воздухом Маркизовой лужи, создадут такое смущение, что живой образ сам покажется перед вами. Это здесь настроение, атмосфера и её оптические свойства делают со взглядом на вещи нечто похожее на известное в зарубежной Шотландии «второе зрение»… Спросите того, кто придёт. Попытайтесь разобрать, как шевелятся его губы. Что это будет, неважно: вам будет сказано. Но как бы ни был знаком тот, кто придёт, не верьте ему, кто он и откуда. Лучше довериться самому чувству. Однажды в прогулке оно снова покажется вам, на этот раз совсем неожиданно по-другому: возможно, это будет роман, обещающий так много, что лучше не вспоминать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































