Текст книги "Показания поэтов. Повести, рассказы, эссе, заметки"
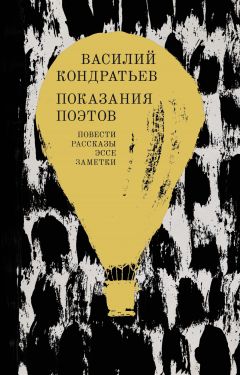
Автор книги: Василий Кондратьев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
За окном слышится шум… похожий на шорох свободного, хаотического эфира. Кажется, у телефонистов, распределяющих незримое пространство, есть словечко «промежуток». Где-то так я и ощущаю себя, свободный от места и времени. Но что будет здесь коробкой Пандоры: неужели забытый в пыли телевизионный ящик, когда повернёшь рычажок – и вспыхнет бледная точка, а потом затрещит, запорхает за линзой лоснящийся чёрный мотылёк, маленький мганга Эм-Си?
♠ ♠ ♠
Когда рано весной гуляешь недалеко за городом, среди дач «в озёрах», мечтательность и ощущение мест привлекают внимание к смутным, поначалу неочевидным связям, которые намечаются в тусклых, как воспоминание, пейзажах. Запущенные строения, от этого близкие природе, и сами заросли, прикрывающие дома и механику, дают здесь сквозящие в обрывках мыслей эфемериды, чудесные встречи и тут же прощание, невнятные отголоски – а теряющиеся тропы и нарочно открывающиеся виды заставляют подозревать, что всё это пасторали, разбитые в памяти леса по догадке искусства; тем более что «большой Петербург» уже обстроился кругом этой долины железной дороги, подчеркнув далеко не географический характер предместья. Оно лежит на закат от мест исторических: здесь острое потайное уединение. С мостков, в дожде, пруд, талый из снега колодец, засвечивают, если вглядеться глубоко, бродячие странного чувства изумрудные искры. Так и начинаются сказки о «болотных огнях», глубоководных рыбках-уродцах, беспорядочно гоняющихся каждая за собственным зеленоватым светляком. Но это первые намёки той скорой поры, когда зелёные завязи, пока что проступающие в камне и бронзе как признак гниения, трупной порчи – вдруг пробиваются из-под спуда лужайками, вырываются из почек, окончательно распускаясь в некий сад среди белых цветов, душистого ветерка и мелодических трелей, обычно навевающих влюблённое, поэтическое состояние духа. В этом пышном расцвете зной собирает себя по тенистым, скоромным купинам и разрешается в нечаянные бельведеры – где все пейзажи, иллюзии и порывы связуются весьма натурально, вдвоём. Впрочем, это домашние нравы садов, тень палящая. От этого зноя и деревья в разгаре июня вдруг покрываются, как изморозью, серебристой паутиной: клещ опутывает на стволах кишащие изумрудные ростки своих червей. Не они ли те бледные мотыльки, мошкара, которая считается дыханием мира ночи и сновидений? Или это насекомое заражение в болотистой местности, эхо ядерных катастроф? Сезоны путаются, все времена года проходят, сменяясь и перемешиваясь, беспорядочно быстро – а времена сливаются в одно.
Единственное усилие, которое стоит сделать, – то, с которым узнаёшь географию своей собственной природы.
П. Боулз
2
С тех пор мои встречи идут своей чередой: трудно пересказывать все их превратности и разговоры. По этим запискам вы поняли, что роман мой не состоялся. За это время вообще многого не случилось, и для меня, и для других – однако произошло многое. Пытаясь передать вам мои похождения и дружеские беседы, я захлебнулся… Внезапные мысли теряются, ничего не сказано напрямую, намерения повисают, всё походя забывается – и какая же сила ведёт нас, сопоставляющих воображаемые миры, чтобы они рассыпались? Вместе с тем что заставляет жизнь вокруг нас меняться стремительно, искажая привычные уголки и лица, исполняя какой-то болью наше уже невнятное бормотание? Возможно, этот беспорядочный вихрь – судороги; а пока что невероятные фантомы терзают наше слабое пробуждение… Я видел изумительные вещи, но разве вы мне поверите?
Среди нечаянных подарков, вообще справляющих нашу игру в этой жизни, её метки и марки, мне тоже выпало яичко. Гость заявился на Пасху, как фокусник, с целой корзиной этих яиц, которая нелепо шла и к восточному лицу со шрамом, и к элегантной чёрной паре под малиновым кепи. Так я узнал Владимира Тамразова, курильщика и чародея, от него – многие халдейские навыки. Теперь это один из моих любимых друзей, однако дальше его история идёт отдельно. Тогда, прощаясь наутро, он подарил мне яичко, белое и со странным запахом. Оно долго было в чашечке у меня на столе, а потом упало, разбилось, и я обнаружил внутри скорлупы неизвестно как – и на каком языке – нарисованные знаки. Когда я с этим разберусь, то напишу вам.
Другую историю мне вспоминать стыдно: то, что связывало меня с этим приятелем, нехорошо. Я жил у него, когда было трудно, а потом избегал его. Какое-то время были ещё случайные встречи в кафейницах, были его телефонные звонки и письма. Последнее письмо он сам опустил в мой почтовый ящик, где-то через неделю после того, как я на ходу возле «ЧК» на Невском проспекте бросил ему, что уезжаю в Америку навсегда… Нечего сказать. Я спешил, баловень, счастливый новым пальто… а рядом, «В двух шагах», меня ждала Милена. Больше я его не видал и не вижу. Иногда мне сдаётся, не уплыл ли он сам за тот океан, на который ему намекали?
Итак, спустя многие события – а не годы – я снова решил заработать на вас, читатели. Я проживаю письмом и пользуюсь беспечными друзьями, чтобы развлекать за счёт их чудной гибели. Поспешно зарывая их в землю, потому что знаю, насколько это ценится…
В письме моего приятеля много такого, что заставляет за него объясняться, толковать и подталкивать его руку, нотами безумия и поэзией сглаживая здравомыслие самоубийцы. Но кто знает, если он жив, не придаёт ли моя работа правды его словам? И тогда нет ли здесь того запредельного опыта, преодолевающего упадок и разобщение – когда не позор живым и не мёртвые счастливы, а пробегающая мимо колоннады по площади душа моя целует меня, и дальше перед нами раскрываются прогулки и объятия, где знать не надо, как в глубине Василия Острова испытывал Андрей Николев
…как мне предметы очертить
и знать, что я, а что не я…
♠ ♠ ♠
Со дня нашей встречи в Ленинграде мы все разъехались далеко: уже и самого города нет, а есть Петербург, и он с каждым месяцем моей новой жизни удаляется от тех друзей, которые всё ещё мысленно собираются за чайным столом – хотя кто из берлинского окна, кто скучая в американском кампусе, а кто с берегов Мёртвого моря, откуда не ходят почтовые корабли.
Что ты, мой дорогой друг, там – откуда твои письма дойдут сюда из прошлого, из‐за океана почти символического? Я вижу, как мы уже поблёкли друг для друга, и только живая память, теплеющая в письмах, преодолевает мир надгробий и незавершённых возможностей, составляющий наше одиночество. Нам даже некого назвать учителями, мы вспоминаем чужих людей, которые начинали и не пережили эпоху: теперь, спустя поколения, мы как будто бы живём заново. И не зря наше рассеивание, наш опыт по-своему новый для вечно поэтического ощущения себя бродягой. Ведь страны, где мы жили, больше нет: рассыпалась и сейчас вместе с нами покоряет иные края. Не удивляйся, если для тебя, издалека, здешняя жизнь превращается в грандиозную фантасмагорию призраков, где мы голодаем, рыщем стаями в беспорядочной войне, и уже не красное, а зелёное знамя окрашивает Россию… А для меня здесь разве существует Россия не мнимая и не хаотическая? Спустя долгие советские годы никакая память не скажет о моём праве на свой личный, организующий кусок земли. Но остаются упрямая страсть пионера и воля к порядку вещей, бесстыдная перед фактами. Так что и мои заметки вроде «письма путешественника в Пекин»…
К тому же Санкт-Петербург не призрак, а напротив – «камень отменный, недавно вышедший из воды на возвышенное место»… Пусть в Москве неуверенный разум бродит по осиротевшему театру сталинской столицы и по всей России разыскивает на пепелище войн и переселения признаки, определяющие его правду и возможности. Но город, раскинутый на бездонном болоте согласно классической утопии, как будто во избежание всего былого, навеки – и это в имени святого Петра – обращённый у моря на все стороны света… этому городу, кроме своего будущего, вспоминать нечего. В его строгих очертаниях и хаос нашего безумия складывается для меня в обновление за пределами боли от стыда, нищеты. Я даже полюбил свои одинокие дни, как наёмный отшельник при усадьбе, связанный по уговору скорбеть и так обретающийся.
Удачный расклад моих дел и хороший случай дали мне наконец занять свободную комнату – и вот я в своём углу. «В. остров, 20-я линия»… я бы и подумал, что это «тот самый» дом и та же фантастическая комната из рассказа поэта, которая когда-то не раз кружила моими походами. Но разве на Васильевском острове мало загадочных мест и этих дежавю, раздвигающих фасады зданий проулками, ведущими в глухие провалы памяти? Вообще-то я надеялся, что оторопь, возникающую при нынешних сумбурных обновлениях от малейшего переезда, сгладит хотя бы испытанная на книгах фантазия, что эта фантазия – кроме здравого смысла – будет моим начётчиком и следопытом… Но дела пошли так, что вместо неё самые дикие домыслы спутали во мне все карты, пока я ещё только устраивался – не без труда, признаюсь, «одолевая родной мне язык квиритов».
Не то чтобы здесь на острове, как теперь повсеместно, стали заново возникать ежедневные названия и понятия, которые, – то ли в новинку людям, то ли взывая к жизни и стыду уже мифологические времена, – всегда оказываются не там, где ждали. Конечно, я не боюсь однажды получить письмо на чужое имя… люди не мечутся по вдруг незнакомым улицам, кварталы на намыве не скрылись под бушующими волнами, а быку ещё, видимо, не надоело быть быком. Но все пути, проторённые нами по безликому Ленинграду, и мнимое прошлое, создававшее эти декоративные фантазии нашей культуры, – истаяли, не дожидаясь и смены указателей.
К тому же ты знаешь, что наш остров, расчерченный, как римская колония, на линии и проспекты, вообще лежит в стороне от культурного эпицентра, от музея и путеводителя Петербурга и следы поэтов, без того петляющие, здесь теряются. Поэты не жаловали остров, они скорее наезжали сюда, чтобы верно ощутить уединение или тайну, манящую в местах неоговоренных. Эти края вроде предместья, скрытого в самом сердце города, ценой умолчания дающие сам замысел искусства. Здесь не случайно по тихим кварталам издавна разбросались учёные лаборатории, лихие закоулки и мастерские художников – а со взморья как на ладони представляешь себе всю городскую дельту и её морские пути вдаль… Что касается тайны, не кроется ли она в упрямстве, однако и в непреодолимой стыдливости души парвеню? Итак, я плутаю по острову, благо за последние годы с упадком муниципального сообщения он почти что совсем обособился.
Намаявшись, сперва вынужденный из‐за любого необходимого мне пустяка пускаться почти на ощупь в переплёты каждый раз неожиданного, а вечером и опасного города, я однажды набрёл на спрятавшийся между домов маленький Иностранный переулок. Это смешно, но пойми, что значит в нашем запустении хотя бы случайное, но к месту слово: я вдруг ощутил себя Робинзоном, которому мёртвый корабль привёз соль и спички. Я прошёл этим переулком как бы в другой мир, и меня больше не соблазняют прежние побуждения. Я зажил начеку, своим домом. Потускневшие изыски моего жилища, резное и морёное дерево, напоминают выгоревшую камеру голландской трубки; прохожий, наконец поселившийся, из своего окна я могу только следить за неожиданными совпадениями жизни и памяти, идей и событий – разыгрывающимися передо мной не в шахматной череде, а пятнами в прихотливых порядках «белого» ар-деко: словно отвыкшие и скучающие игроки по-разному пробуют фигуры, собранные вразнобой, а те спазматически путаются по полю в клубах табачного дыма. Таким образом начинается, как говорят итальянцы, фумистерия.
Нечасто наведываясь из дому, я всегда готов найти только то, чего не искал. Неспособный понять то, что мне говорят, и поэтому сам уже не разбирая своих выражений, я слышу бродящий по улицам наговор, незнакомые дерзкие языки, пробуждающие во мне далёкие закоулки Тартарии, завязывающие вокруг драки, слепые беседы и шашни и многие небезопасные случаи. Каждый день я из трусости перед этим разбоем обмениваюсь словами, которых не понимаю, и мои пёстро одетые собеседники с силой жадно хватаются за них, как будто примеривая себе на заплаты. Попутные события разворачиваются резко, беспорядочно, непонятно, выделывая уличные сенсации, оставляющие меня невольным свидетелем грёзы. Свои собственные сны я потерял и забываюсь, проваливаясь.
Кругом встречая иллюзии прежней и будущей жизни, то руины, то обещающие вывески, и, привыкший развлекаться сам по себе, раскидывая свой покер на экране в углу безлюдного заведения, я различаю все мои видения как происходящие или возможные: всё новые встречи, выдающие мою забывчивость и безразличие, убеждают меня в том, что эта небывалая, наглая рассеянность – не удивляться ничему, не признавать никого – обязана некоей скрытой памяти сродни ликантропии, вполне раздвигающей мои познания, дающей верное чутьё. Иначе я не понимаю близость, которую мне внушают животные – и почему, засыпая, я как будто вижу кота, трусящего в темноту квартала. Я могу объяснить механизмы, но вряд ли это будет для тебя наглядно. Однако наглядное ощущение острова из окна моей небережной комнаты, усиливающееся по мере уединения, когда в сумерках она качается у кораблей и близких доков, заставляет подозревать и другие, ещё более невероятные совпадения, попадания… на которые, впрочем, я не притязаю, мой дорогой, посылая тебе свои вести – издалека.
И без того я уже показался тебе сошедшим с ума в одиночестве и растерянности среди дикой охоты… Но поверь, я не блуждаю по пустоши, как шалый Херлекин, исступлённый своими призраками. Как и прежде, моя жизнь уверена дружбой, а прогулки отмечены милыми лицами, ароматами привычных уголков и мимолетным уютом, – хотя прежние разговоры, зависимости, ревность, определявшие наши связи, утихли, уступая новой, как будто скрытой симпатии. По мере того как уединение скорее сближает, чем разгоняет, на солнечных тротуарах и в иных забавных местах мы оценивающе замечаем друг друга, незаметно обмениваясь любезностями, составляющими наш собственный заговор среди прочих.
Не знаю, насколько прав был византиец, ограничивший верные проявления дружбы болтовней и совместной жратвой: если так, то вышло застольное время и всё кончено между нами. Вспоминая прежние стихи и беседы, – всегда невразумительные, как и сводившая нас вместе зыбкая сопричастность, – и все пережитые мной упоительно слепые блуждания, я теперь посмеиваюсь, что не среди нас оказался Кадм, плутающий по своему острову в поисках прекрасной Гармонии… Мы были скорее светляками от лампы, затеплившейся в зале на время очередного бездействия, потом разлетевшиеся. У самых колыбелей в Ленинграде, в декорациях иногда сгнившей, иногда недостроенной марины – простые страхи одевались во все платья и маски, под скрипучий ветер опереточного колеса разыгрывая свои интермедии, обживая и заговаривая мир, который не был нашим. Увы, сейчас поиски хлеба намного отвлекли нас от этого ритуала, и новые угрозы, непривычно животные и бессвязные, расстроили наше согласие. Исчезли и былые ложи наших собраний: в эти чужие дома теперь кое-кто селит очередных чудаков, и так проживают. Кое-кто сами, подвывая покойным страхам, как ученики лекаря, вступают в уличные спектакли, в оранжевых тогах и в мешковине, голые и лохматые, звякающие бубенцами. Впрочем, и про многих других непонятно, лоскутная бедность или этот новый животный страх выставляют их в таком пёстром, вызывающем виде. Но что касается моих невольных спутников, то здесь свои особые намёки и взаимность вызывают позы, загадывающие ребусы дней.
Одно за другим бесконечные разочарования складываются в пейзаж наших мест, чарующий природной игрой фантастических миров. Каждый раз следуя за ними со страстью влюблённых, но способные расставаться, мы уверились в том, что сама причина наших похождений и есть тайна, всегда желанная и не узнаваемая в абрисе очередного романа, а поэтому заметная только лишь в очертании его окружающем, как будто замысел, едва проступающий для нас в случайных уроках.
Итак, забываясь до смеха, испытывая множество бесполезных усилий, сводящее наши метания, мы с утра выходим из дома, не зная, куда вернёмся. Сперва озираясь в поисках извинения, ещё наталкиваясь на вчерашнее и пряча глаза, мы сами не замечаем, как все наши реплики скрадывают жадные вздохи, увлекающие в круговорот капризного танца, в который мы переходим и теряемся среди пестроты, драки базара, наконец на свободе. Мы бродим, даже не разглядывая курьёзные выпады прохожих сцен, в безопасности из‐за сознания нашей никчёмности, на всё готовые… Калейдоскоп наших дней заключается не в переменах, а в чисто плотском упоении духа, которое возрастает с каждой новостью за углом, раздражающей жесты этого, можно сказать, движимого стыда. Время от времени развлекаясь гаданием, мы вычерчиваем на карте города наши взаимные траектории прогулок за день, и их линии рисуют фривольные, дерзкие узоры, превосходящие все мыслимые схемы порнографии. Когда мы вечерами, каждый в своём уединении, разбираем наши богатые собрания этих весёлых картинок, то всегда находим, что подлинное возбуждение вызывает у нас даже не жаркий момент, а самый образ его двигателя, закрученный в самораспаде двуполого отправления и вместе с тем так грубо изображающий наши рассеянные попытки, слоняющиеся по Петербургу навстречу разве что смерти. Как будто листая старинный альбом «Путешествия денди», где герой, гонимый по Сахаре, через горы Тибета и за океан, везде испытывает столицы, веси и парадизы, каждый раз попадая в новые переплёты взаимной позы. Возможно, ощущение подобного труда и облегчает наши привычки, одинокие и непорочные; мы утоляем своё любознание походя, изредка встречая друг друга как ангелы, вестники общей и тайной связи. Мы узнаём эту связь по фигурам нашего гадания и в их симметрии на карте, заставляющей нас возвращаться к отправной топографической канве, разыскивая её возможный смысл.
Конечно же, не древние лемуры воздвигли здесь первые стены согласно своему обряду, и нет правды в заговорах, союзах и тех суевериях, которые Петербург всегда вызывал у русских людей, не желающих ему добра. Но верно, что этот город всю жизнь привлекал к себе людей особого склада… и привычные пустоты вокруг от многолетнего вандализма не дают нам заметить, сколько незримых зданий воздвигнуто в его пейзаже: и ведь только они – и ничто другое не может достоверно составлять столицу, которая пережила пожарище и вырождение, в самые невероятные времена наделяя нас вдруг неожиданной чувствующей волей, рождающей и внезапную память, с которой передаётся тайное. Но вряд ли это оплакиваемая столица исчезнувшей империи – скорее былая столица рыцарей, мальтийских и розокрестных, убежище учёных диковин, выстроенный в надежде город, где «Рукопись, найденная в Сарагосе» впервые увидела свет, а Клингер создавал в тиши острова свою «Жизнь Фауста». Возможно, это и грустно, что по такой линии располагаются наши имение и всё наследство, делающее нас здесь читателями неписаных книг, ценителями невозможного искусства и научившее жить ради доблести знания о том, что никакая возможность не исчезает бесследно.
Поэтому сейчас, когда «вещи выдают своих мертвецов», среди возникшей давки мы свободно разгуливаем на просторе, украшая призрачные ухищрения своего платья цветами и серебром: в окружении безвкусицы мы встречаемся на Невском проспекте как взаимные модели или витрины, где отражаются наши простые души. Не одарённые глубокими познаниями в истории и в мёртвой грамоте, мы строим жизнь, исходя по сгоревшим законам «Справедливости» Карпократа в череде сатурналий, воскрешающих для нас небывший солнечный Гелиополь, преодолевший злоключения времени. Как видишь, наша традиция беспочвенна, как сами петербургские топи; её истоки скрываются в домыслах и позоре… однако чисты как топографический идеал, заложенный здесь зодчими братьями и измеренный нами вполне. Вот почему надежда на счастливое соизмерение, очевидно несбыточная, всё же не оставляет нас, несколько извиняя наши иногда нескромные причуды.
В самом деле, как часто, прохаживаясь по моему острову, я испытывал наслаждение, раскрывающееся в геометрии его кварталов, чередовании разных картин, дающих вместе самозабвение и какое-то вновь ощущение себя, это знакомое за Петербургом раздвоение. Как часто, окидывая с высоты из Гавани как будто аллегорически возлежащую фигуру острова и города, я вздрагивал, воображая человеческие очертания застывшей спермы поверженного гиганта, и гения, протягивающего на ладони пламенеющий кристалл гомункулуса, и нашу беготню, проистекающую в сети сообщения вен, капилляров – как инфекция тел, закупоривающих и осушающих сосуды, разыгрывающих совокупление, гибнущих невпопад – обуревающая сквозняком, как мёртвые рачки планктона, ложбины воспалённого и обезображенного корпуса. Иногда от бессонницы в полнолуние я выбираюсь на крышу моего дома и под набегающую по небу ночь грежу о спящем или простёртом на посеребрённом луной песке ручья теле: я вижу древнее, восточное платье, растекающееся шитьём в подобие пейзажа, напомаженный, с бородой и ногтями, крашенными хной, он раскидывает руки, мерцающие во тьме серебром и мутными камнями перстней, удерживая за плечи склонившуюся над ним женщину в пыльном покрывале, прикрывшую глаза и оттого уже вперившуюся в него всем лицом, светящимся от бледности… Но я не могу разглядеть черты лиц, до того они сливаются в этой моей фантазии, поэтому создавая сияние, которое вынуждает меня выходить из себя. И я забываюсь и, крадучись в глубокой ночи, рыскаю среди теней домов по городу – чтобы однажды случайная собака загрызла в переулке кота и тут же кто-то скончался в забытой комнате на Васильевском острове. Впрочем, это возможные и бесплотные галлюцинации моих счислений.
По лучшей погоде я выбираюсь в моих изысканиях до Петропавловской крепости, где у внутренних ворот задерживаюсь под бронзовой доской с изображением Симона Волхва, раскрыв крылья низвергающегося по мановению руки Петра на водную площадь перед шпилем, окружённую триумфами флотов императора. Вряд ли я – или кто-то другой сможет ясно распутать сети мифологических противоречий, теряющихся в небытии: двусмысленное барокко петербургской символики будет вечно водить по своему лабиринту. Остались намёки в кружковых изданиях и картины из собрания «Древней российской вивлиофики» Новикова, доносящие редкие обрывки праздников и мистерий, обозначающих установление города: смутно стоит опустевший от грозы Рим, пылающее земной страстью сердце Нерона, излетевшее и носящееся по воздуху, зажигает пожарище, народ собирается в Колизей, где у всех на глазах происходит тяжба двух Симонов, Петра Апостола и Мага, как её описал в своих «Признаниях» папа Климент.
Не скрывается ли здесь намёк, обращающий, как козырь в тароках, Петровские ворота в Царские на входе в Петербург, удивительным образом открывающемся посередине города и как бы выворачивающем его наоборот? Не был ли до сих пор город, выстроенный вопреки всему прошлому в неприютных краях как воплощение преображающего разума, воплощением неоглядной безнадёжности своей империи, в призме его классических очертаний предстающей во всём своём извращении и поэтому наделившей его чертами падшего и проклятого? Получит ли он только теперь, обособившийся – то есть открытый на все стороны света – задуманную гармонию и появится ли свет вместо тени, скрывающей «Великие изъяснения», которых не было никогда? Позабыв все пережитые здесь утопии, мы живём скрытой жизнью, во сне угадывая шорох её произрастания из-под руин.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































