Текст книги "Показания поэтов. Повести, рассказы, эссе, заметки"
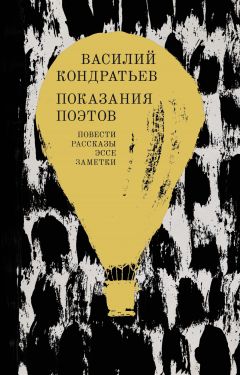
Автор книги: Василий Кондратьев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Соблазнитель змей
На ниве, – как в переводе Виктора выразился Барт, – живые раны наносит то, что видишь, а не то, что знаешь. Пейзажи и вообще лица, сперва как-то манящие нас по пути, составляют наречие такой любви, которой, может быть, и не будет.
Самое признание, продиктованное подорожным письмом (не без привычной в рассеянном духе заботы), может быть времяпрепровождением, таким театром, где засушенные препараты, бетизы, набитые и восковые ляльки, уникальные инструменты, другие предметы, в качестве чисто механических представлений своей замкнутой странностью обостряющие подлинность переживания.
Поначалу его самолюбие ущемлено теснотой этих предметов.
Человек выходит (как бы с вокзала) в посторонний город, не зная, что и ведёт его. Карты, квартиры и авантюры его приключений, встреч и т. д. интересны. Он проходит, как кислотой выжигая следы своего освобождения, оставляя призрачные путевые столпы, для нас составляющие карту кривых и точек, где белое, богатое для всякого поле. Бродить или идти ни за чем, несмотря ни на что, не разбирая новости от повторения, – всё это потребность чисто физическая. Чем дальше и дольше, изнашивается его намерение (оно неважно), от мыслей он обращается к промыслу, иллюзии превращаются в транс. Но исчерпанность вдруг открывает ему много возможностей. Жизнь дарит его культурой, так скажем, практической. Её молчаливые правила среди адюльтера между чувствами и его совестью убеждают, что на этом пути нет ничего полезнее здравого смысла ценителя, любви к чувственной для себя красоте, близкого и бескорыстного любопытства. Они же склоняют его полагать прежнюю «высшую волю» новым и необычным (конечно!) способом думать. Открытое сердце и лёгкое лицемерие теперь придают его шагу осмысленность, а лицу – привлекательность.
Определённо его полюбит всякая девушка.
Обманщики и убийцы, это известно, – надежда женщин.
Потому что он доставляет «предмету» всё удовольствие быть: безразлично и благодарно (то, в чём для него «правдивость» всякого испытания).
Она приносит ему полное, т. е. молниеносное наслаждение.
Близость, точнее, сближение на пути драгоценнее «дружбы», не говоря о «чувствах».
Все эти дороги, начинаясь в предчувствии как мыслимые пунктиры на верстовых следах, дальше объединяются в форму и время, волей нелепой, крепнущей детской речи завязываясь в один путь – лабиринт: очертания становятся из иллюзии в зной, лицо пустыни, прокажённое в катакомбах, несущий каркас, ведущий глубоко под землю его зрения. Как и кроны, жилы, корни, вдруг опутавшие лицо, всё тело, ходы, лестницы и подвалы, уводящие его к обетованному султанату Потоцкого. Он чувствует ветровое лицо себя, продвигаясь. Тень, его очертания, выхваченные в копоти из полудневных тропизмов солнцепёка и сумерек, дальше развиваются как по ту сторону стеклянной пластины, в проекции. Возможны оплошности. Это может оказаться и строение из колёс, вала, пружин и других особенностей, конструкция, как говорится, с винтом. Под угрозой нервного срыва тогда он начинает поправлять галстук, смотреться и пр., задерживаясь у различных и интересных предметов. Эта попутная близость, точнее, сближение и очищает; конечно, не в плане «света», а строя и перспективы.
Он попадает в неё как в комнату.
Без дверей, с окнами на любой ветер. В дыму, стало быть, от сигареты несколько душной и сладкой, как будто с кем целуешься, напротив окна в трюмо он лежит, гасит окурки о чёрный диван, развалины неодиночества. Когда окно треснет, зеркало разобьётся, останется то же самое. Мизантропия. Извне украшать её, слепую камеру для картинок, карточек и обманок, поздравительных на неудачу. На всех карточках, лицах – сомнамбулизм. Вместо мишени лицо Лиа де Путти, напрасной возлюбленной. Причуды, проблески неустойчивой череды поражений составляют в его уме партию, прихотливую jeu d’echecs в тропических, шахматных видениях Каломана Мозера: кровь, истекающая кьяроскуро. Кровь, сквозимая в ткани, лёгкая алая занавесь на золотом, сосновом полу. Павлин, мерцающий канителью по чёрному сукну, золочёная чашка с кофе, кюрасо на белом столике, пилястры, белые среди чёрных панелей, и шёлк, блестящий, как её исполненные глаза, в болотной свежести: в раковине из-под шали плещется, бьётся, её руки (бледные, как у рыжих) сжимают под зелёным паром своё тело. Звезда, сомкнутая в полумесяц, – это кольцо на её большом пальце. Нет, не звезда, кудри: Габриэль в летящих крыльях ртути – или (вдруг) голова, сжатая в острый серп? луны? звезда за зелёным паром? трепещет, бьётся, водой проливается на его тело под простынёй, в холод и вовсе не летний сквозняк от разбитого окна комнаты.
За окном будет видна, недалеко от высокой арки, полуотстроенной в никуда, какая-то кипящая ваза гранита, а дальше под синим небом пылится из камня тяжёлая звезда.
В своих воспоминаниях о ней он верил в силу тайного, непечатного слова. Вышел после дождя на скамью, закурил, и, когда опять всё стекло поплыло в глазах, так выругался, что этого, слава богу, и не запишешь.
<1992>
Между семантикой и синтаксисом
Живопись Вальрана трудно назвать камерной; но сейчас же напрашивающиеся поиски «красочной идеи» или аллегорических фигур здесь тоже не проходят. Это скорее тот случай, когда завязывается «большой русский секрет»; искусство вызывает у прохожего зрителя род смущения. Вместо готовых решений (или пиететов) он вдруг находит себя здесь не к месту – но и не вчуже, как будто возник неожиданно личный, частный интерес к художнику. Это иллюзия тихого сговора, исчерпывающегося (из‐за непреодолимой стыдливости) в простых вещах.
Итак, художник не делает заявлений и поневоле навлекает смутные симпатии зрителя на себя. Рассказывают, что о Вальране написан роман. Портретов, во всяком случае, с него написали немало – и, вероятно, как раз в этой разноликой галерее начать высматривать черты ещё не избегавшего ни товарищей, ни газетчиков обаяния. У автора этой заметки тоже имеются причины знать, насколько возможно быть литературно обязанным этому художнику – а точнее – всему, что составляет его ателье. Последнее уточним, так как, подсматривая предметы, интимно окружающие Валерия Козиева, мы наверняка подпадаем под чары его искусства тогда, когда не настроены. И в свою очередь переходим на личности, в глубине души также не желая быть косноязычными.
Что касается самого Вальрана, он, очевидно, не поощряет нашего интереса. Там, где он должен раскрываться более лично – в пейзажах и портретах, в абстрактных работах, – Козиев предстаёт как сдержанный интеллектуал, человек культуры, требующей прежде всего порядка и перспективы, а не россказней. Свои натюрморты, во избежание соблазна, Вальран нарекает «метафизическими», не смущаясь некоторой тавтологии (в конце концов, сам жанр по своему происхождению очень двусмыслен). Как счастлив был критик, лет десять тому писавший о «махровой иллюзорности» и «астральном сквознячке», гуляющих в голове кандидата психологических наук… Увы, с тех пор выяснилось, что звёзды значительно ближе, чем думали. Идеи исчезли, показавшись намного скромнее окружающей нас фантасмагории. Сам мир, в котором мы жили, оказался воображаемым, а его названия фиктивными – это и обесценило попытки следовать «правде жизни» и тут же умалило многие происходившие в искусстве фантазии. Но если искусство, как говорил Элюар, именно проверяется в его борьбе с «видимостью», то здесь творчество Вальрана на сегодня только выиграло. Работы, казавшиеся умозрительными, обрели редкую вещность эмоции. В «стерильных пейзажах», где раньше замечали страх перед фактами, выяснились трезвость и выдержка; всё расхолаживавшее отсутствием привычной «литературности» обернулось ошибочнозримым броском мысли помимо иллюзий и оговорок. Ушла, кстати, и та ситуация «второй культуры» в Ленинграде, которая поневоле ставила художника в позу, по банальному образу и подобию обманывавшую его зрителя. Возникло в быту ставшее было мифологическим название Петербурга, и наша настороженность к происходящему делает «вневременное» впечатление от работ Вальрана очень конкретным.
Вальран не знал, что выбирает себе имя, принадлежавшее старинному французскому мастеру натюрмортов «ваните», выражающих суетность возможных определений, бессмыслицу тех целей, с которыми мы разыгрываем предметы вокруг. Для петербургского художника мир вещей сам по себе создаёт реальность верного, может быть, прервавшегося или забытого значения. Прикосновение этой реальности обнадёживает смятение чувств и помыслов. Что это, мы не знаем. Только живописец, владеющий даром необъяснимой симпатии, может показать, что события «по ту сторону» нас происходят здесь.
<1992>
[Три предисловия]
<1. Шамшад Абдуллаев. Промежуток>
В основание каждой поэзии заложен свой камень, сродни тому «натуральному магниту», о котором свидетельствуют розенкрейцеры: «Едва я приложил его к груди, – пишет адепт, – ощутил притяжение жестокости непродлеваемой». Это камень рыхлой породы, с тошным сладковатым запахом, «однако он (Роберт Фладд) не ответил ни о происхождении, ни о природе образца».
Шамшад Абдуллаев принадлежит к тому ряду писателей, которым наша литература будет обязана уже не домыслами о событиях, а непосредственным обновлением. Такое его место. Он житель окраины, как и все мы, – но не спешит всё продать и перебираться в «именитые кварталы».
Культуру, в которой мы пока что живём, можно увидеть в образе «вечной» столицы, с крепостью, верхним городом и предместьями. Стены кремля скрывают музей и администрацию с некрополем. Социальное чувство, живущее в нас, принадлежит верхнему городу, его воспетому магическому значению. Но те, кто туда переехал (а это непросто, ибо требует ловко подделанной метрики), ведут жалкую жизнь; они ютятся в гнилых стенах, созерцая изъеденные внутри формы, о значении которых забыли. Убеждённые в реальности своего экстаза нищие чиновники, разбившиеся на партии; среди них есть, однако, и радикалы.
Все они заезжают сюда, на окраину, обедать: одни негодуют, другие радуются, какая вокруг пустота. И правда, пустыня, не поддающаяся описанию. И как будто промежуток, не то отзвучавший, не то предгрозовой, по которому наши дома раскинуты в странном порядке. Поэт – а ему этот странный порядок сообщает своё невиданное притяжение – должен перейти «болевой предел» простых, неподвластных фактов – и пустота вдруг исполняется.
Абдуллаев пишет: «Вот окраина, где всё неподдельно». Ещё лет двадцать назад Соколов, один из завзятых дачников, считал, что «даже в самую солнечную погоду всё тут кажется ненастоящим». Если так пойдёт дальше, то вскоре мы обнаружим и все механизмы странного, скрытного порядка. И тогда, возможно, изменится и сама наша столица, превратившись в гармоническую сферу.
В искусстве утопии, бывает, совершаются.
<1992>
<2. Александр Скидан. Делириум>
Новым петербуржцам трудно работать в поэзии: наш город издавна считается очень поэтическим местом, и поколения авторов «петербургской ноты» активно эксплуатируют это мнение, поддерживая традиции своей школы: узость, застой, чванство. Эти качества нелегко углядеть в многообразии обличий, где есть и дамская чувствительность, и грубость богемы, и религиозный экстаз, и скепсис, и многое другое, что с большой готовностью отвечает мыслям пробующего свои силы писателя. «Петербургская школа» с ходу предлагает красивую позу и уверенность в себе, в то время как отвечающая своей современности поэзия, написанная в Петербурге, не оформлена и ничего, кроме работы и болезненного самоопределения, не предлагает. Если подлинный и темпераментный поэт не чужд соблазнов, то нерв написанного им – в острой борьбе за себя и его поиски, интересные сами собой, дают характер растерявшегося, но подозревающего свои возможности поколения, в котором «бойцов» пока что не видно. Мне, по крайней мере, кажется, что после первой книги Александра Скидана ни ему самому, ни кому-то другому в мире «знакомого до припухших желез» делать нечего (если это, конечно, честная работа).
Эта книга тревожит нелепым соседством дежурных «школьных» стихотворений, острой «переходной» лирики и настоящих открытий; «Делириум/Фрагменты» можно смело назвать лучшей короткой поэмой последних лет. Идёт, как писал Андрей Николев, «брань человека с самим собой». Борются и два представления о поэзии: одно требует примитивного распева, прозрачности слов и спасается от реальности «метафорами», другое – настаивает на нелёгкой свободе дыхания, на предметности разговора и остроте критического ума.
Скидан предлагает нам вроде бы заведомый поэтический мир: зимние петербургские ночи, фантомы классики, красивая книжность, умозрительный «делирий», в котором виноваты Вагинов, Мандельштам, отчасти Бродский и Кривулин. Это, в общем, обстановка культурного ленинградца. Однако мало кто задаётся вопросами, что из этого для него реально, насколько, и тогда что за этим, в чём личный смысл мерцающего в поэтическом зеркале города. Здесь Скидан может быть просто безжалостен, хотя замечу, что живучая в наших краях традиция может, не разрешая сарказма и безнадёжности, делать их мелодичными и даже приятными. «Зеркало», к которому обращён поэт, похоже на китайского болвана, умеющего только мотать головой. Нет ответа в том, чтобы поймать себя на слове, найти авторитетное совпадение, пройтись по цепи ассоциаций, которая может связать что угодно. Подозреваю, что Скидану часто хотелось надёжного трюизма, кафедры, и вместе с тем знаю, что его вряд ли устроит заведомое решение задачи. Скидан выбрал себе очень невыгодную, торную дорогу «проклятых» вопросов, выбивающих почву из-под ног, и несколько нерешительно, как все мы, следует по пути, на котором окажутся другая жизнь и совсем другая поэзия. Если они будут не столь приятными, то останется утешение, что головой быть лучше, чем хвостом.
<1993>
<3. Владимир Кучерявкин. Танец мёртвой ноги>
Эту первую благополучно вышедшую в свет книгу стихов Владимира Кучерявкина – предыдущая не пережила лучших дней «Советского писателя», что, может быть, и показательно, – хочется назвать дебютом не самого автора, а его, будем верить, заинтересованных издателей. Для тех, кто уже давно следит за работой этого поэта, прозаика и переводчика, знает его редкие публикации, эта книга – долгожданное приобретение, первый шаг в знакомстве с большой сложившейся поэзией.
Значимость поэзии Владимира Кучерявкина определяется по неприменимости к ней формального подхода: она находится вне экспериментальной или нормативной самодостаточности более «литературного» творчества. Автор, её лирический герой, одинок и в жизни, и перед листом бумаги. (Так же как были одиноки «проклятые поэты» или экспрессионисты прошлого.) Это поэзия, неразделимая и значимая в своём корпусе, складывающаяся, как повседневная жизнь, из путаных повторяющихся дней. Своеобразный поэтический дневник, где безжалостное наблюдение и его очевидный гротеск являются средством жить, – это, вероятно, лучший вызов сегодняшнему обществу и то, что может ему дать поэт: искусство безнадёжности. По крайней мере, мрачные, но необходимые, как глоток водки на морозе, слова Кучерявкина – это та самая брань, с которой происходит и развивается наша жизнь.
Не заглядывая далеко, нам уже сейчас необходимо ощущать реальность происходящего ближе и чище, чем позволяют, с одной стороны, газетная и телевизионная хроника, а с другой – не выдерживающее времени самовыражение. Владимир Кучерявкин решает эту задачу средствами, которые мы привыкли считать поэтическими, и это значит, что по сути ничто не меняется ни в жизни, ни в нас самих. Как бы ни было обречено это общество, по прошествии лет именно в поэзии оно останется таким, каким было.
<1993>
Прогулки
Всё, составляющее смысл моей жизни, убеждает меня в том, что я жив по законам, которые Агвиллон в своей «Оптике» называет орфографической проекцией вещей. Ночью и особенно днём я часто испытываю видения, кошмары, которые выражаются в более или менее связных фразах, за которыми не складывается никакой картины.
Милене
Название «Прогулки» наиболее удачно, на мой взгляд, определяет жанр составивших эту книгу вещей, которые иначе можно назвать эссе, рассказами или стихотворениями в прозе.
Некоторые из этих текстов печатали, кроме «Митиного журнала», «Звезда Востока», «Collegium» и «Место печати».
Я рад, что в эту книгу вошла графика Виктории Урман-Куслик, которую я бы рассматривал не как иллюстрации, а скорее как продолжение того содружества, которым были наши перформансы «Заветная мода» и «Русское Таро» – показанные, соответственно, в Запасном дворце в Пушкине и в Шереметевском саду Петербурга.
В. Кондратьев
Путешествие Луки
Если принять, что сегодня, как и некогда, путешествие означает для человека в конце концов выход – то чем хуже или ничтожнее его побуждения, тем больше какой-то страсти и своеобразного упоения, чисто физических. Ведь и воспетый акт в общем неэстетичен. То и другое сближают плачевные результаты. Поэтому жалкая, вполне постыдная цель поездки в лучшие-то времена неповоротливого Луки не стоила своего рассказа, да и такого утомительного пути, на исходе терпения нашего друга у тускло мелькающего окна всё глубже забываясь в спёртом полусне напоминающего камеру купе поезда. Этот поезд шёл уже бесконечно, то ли и правда по полю без края – то ли, согласно административной инструкции, железная дорога петляла, уклоняясь в некие разве что из космоса различимые символические фигуры – чтобы страна, таким образом, расступалась перед заключённым пассажиром в истом смысле своего имперского расстояния, скрадывающего и дни, и ночи, и само время. Точнее сказать, ночь выглядела из окна купе всего лишь как очередная область, даже район, в следовании однообразной равнины развалин и деловых построек – и только названия станций давали заметить вроде бы естественное в поезде (да и заложенное в самом пейзаже) продвижение вперёд. Они сменяли друг друга сперва забавно или исторически, как в учебнике, – но, постепенно удаляясь от знакомого смысла, всё более варварские шипящие и гортанные, – слова, а скорее шорохи чужого враждебного языка, придающие своей русской азбуке загадочность каббалистических знаков. Почти незаметно и уже примелькавшиеся местные лица, вторгающиеся в духоту и толчею вагона с газетами и кислым пивом, приземились и грубели, их возгласы становились всё громче и непонятнее, а глаза сужались или оплывали с тошнотной поволокой. У Луки роман подошёл к концу. Поначалу он тупо лежал, задыхаясь на своей полке, пересчитывая былые пасьянсы и поминая тюрьму «Кресты», где подруги передают в таких случаях узникам тёплые носки, пропитанные настойкой опиума. Ночью стал выходить в тамбур, глотать в разбитые стёкла холод луны.
Размышления о всеобщей схожести и, так сказать, симпатии элементов и, в частности, о том, что, например, строение петербургских «Крестов» в точности повторяет планировку аналогичного заведения «Санте» в Париже и т. д., заставили его счесть, что если поезд и не пошёл по круговой – то окружающие виды, запустение и тоска всё равно повторяются настолько упрямо, как будто продиктованы робкой надеждой. Для Луки же, который ни в чём, ни в каких вещах не чаял, это была бездумная истома, внезапные двигательные спазмы, усиливающиеся по ночам, иначе бессмысленным. Бессонница одолевала и в сумерки, приливая к Луке как беспокойство, ощущение следующего этапа пути по расписанию, которое наползало незримым пунктиром в воображении и жгло под кожей, как татуировка. Едва тусклый во мраке туман за окном и редкие светляки фонарей, зажигающие здесь и там яркие купины домов или сцен, от этой иллюминации выглядевших как аллегории, разыгрывали в поле перед Лукой ночные коляды, загадочные шествия ритуальных личин, минутные, мигающие, проносящиеся мимо. Он снова перечитывал парижский адрес на конверте и клал обратно в свой нагрудный карман письмо от старого поэта, как будто ещё раз обращаясь к мэтру. Это был заграничный, далёкий, но очень реальный адрес; и поэт, которого Лука никогда не видел, поэтому был для него живым ощущением того смысла – скрытого, позабытого в безысходной физиологии окружающих за окном идей, – который всё же существует, создавая мир воображаемый, быть может, однако порядочный – мир, связанный с ним, Лукой, и чудом достигающий его как бы из небытия. (Лука не знал, что Эдуард Родити, о котором он думает, умер в Париже, в мае, за несколько месяцев до происходящего. Поэт, родившийся и живший как странник, теперь обращается к нашему другу в его неведении – не давая ответов, а только слепые помыслы, пока что не раскрывающие живой боли и всей бесконечности предстоящей дороги. Можно сказать, что тревога и приступы, одолевающие Луку, сродни спиритической связи: в любом случае это – правда, которую нельзя не чувствовать подсознательно. То, что он видит из своего окна – картина будущего, поэтому такая нелепая.) Поезд замер на очередной станции.
Перед Лукой, соскочившим на перрон, за тусклым маревом лёг уходящий вниз холмами городок под редкими, как будто сторожевыми огнями, напоминающий его бдения: это и правда возникло вроде галлюцинации в струях белого дыма или пара, курящихся из кратеров тени и свивающихся во тьму за границей холмов, ведущую в пропасть невидимого горизонта. Очевидно, городок, живущий по непрерывной череде работы железной дороги и возвышающихся повсюду, как зиккураты, заводов, всегда в полусне и полупустой, который лучше всего проехать, как фата-моргану, навстречу рассвету. Страшно приезжему, дождавшемуся утра в этом городе, блуждающему по его бдительным одинаковым улицам вслед их названиям, которые не говорят ничего: мимо зданий, выстроенных не то пленными, не то заключёнными на местах, которые редко встречающиеся ему люди называют по-своему, коверкая незнакомые им слова вымерших аборигенов, звучащие в русском произношении как оскорбление или «чёртова дыра». Приземистый, не отвечающий грандиозным пропорциям своего декора в стиле имперского «новеченто» и оттого несколько кондитерский павильон вокзала приютил сбоку подобие триумфальной арки, ведущей в обрыв лестницы, сжатой глухим кустарником. Лука, догадываясь, что оттуда открывается вид на главную площадь, направился к спуску, ожидая разглядеть там внизу монумент – статую или часы без стрелок, – вполне подходящий тому предчувствию, которое стылый воздух уже вдохнул в его прежнюю лень. Однако у него под ногами оказалась только терраса лестницы, спускающаяся в темноту под редкими фонарями.
Кругом за оградой вокзала была мгла, ощетинившаяся колтунами кустарника: отсюда непрерывный гул, рождающий в мыслях Луки невидимый ему ландшафт города, усиливался, но ни огонька, ни искры не проскакивало в чаще – кроме одного зелёного маяка, вдруг замигавшего негде высоко в мареве, создавая брожение и окрашивая туманность, фосфоресцирующую вокруг зрачка надписи: «03–11». Скорее всего, это было табло часов на высоте неизвестной башни или холма, своим возникновением заставившего воображаемый Лукой пейзаж опять запульсировать, ломаясь и вспучиваясь. Это табло снова мигнуло, и минуты пошли. Вопреки тому, чего ожидал Лука, – или же благодаря его возбуждению от сырого воздуха, – их отсчёт выглядел скоро, едва ли не нарастая во взвешенной изморози под всё тот же неизменный гул. Зелёный глаз мерцал, цифра билась, как тик на виске, – но эта невероятная скорость отсчёта времени ничего не меняла вокруг: она даже не торопила рассвет, и поезд всё так же курился паром у своего перрона, а жестяной голос из репродуктора тягуче, как муэдзин, созывал пассажиров, распугивая последних торгашей.
Теперь железнодорожные пути вышли, должно быть, к некоторому побережью: во мраке за испариной стекла Луке удавалось различать смутное, но безошибочное волнение; неверное однообразие вроде бы кишащего в тумане поля вдруг прорезали чёрные острова в деревьях, фантастические сумрачные формы – такие же, как от нагара свечи, образующего магические фигуры, – наплывами на его камышовом берегу, который потом резко свернул за непроглядную тьму, кажется, леса – расступившуюся сразу, как полынья.
Лука очнулся наутро; точнее сказать – внезапный сильный толчок и тут же рассвет, неожиданно застывший за окном в пейзаже замшелого на солнце откоса над сосновым перелеском, – не убегавшем мимо, а напротив, раскрывшем вдали голубую полоску водного горизонта, – такое чудесное пробуждение из забытья, поневоле слившегося с бесконечной морокой пути, заставило Луку вскочить без памяти, вглядываясь и прислушиваясь. Поезд очевидно и непонятно стоял. В вагоне разговаривали, что там (впереди), кажется, задавили кого-то: что правда, группа людей в синей и серой униформе прошла мимо по коридору, и на одном из них был белый халат. Моторы молчали. В любом случае это давало ещё час или два. Лука вышел в тамбур и, повозившись с дверным запором, неловко слез на путевую насыпь; там уже выругался и, не оглядываясь, заковылял к откосу.
Всё ещё невероятное для него пробуждение бодрило, отгоняя любые мысли, лаская тело страстью прогулки, свежим запахом леса и ведущей морской перспективой. Он спустился по склону хвойного перегноя, бледнеющему палевыми и табачного цвета мхами в редких пучках вереска. Дальше скала обрывалась над заводью, ограниченной близкой грядой островных холмов. Устье, выводящее тихий затон на простор большой воды, пересекала – как сперва показалось Луке, – искрящаяся на солнце золотая цепь: эта сверкающая преграда, якобы отражающая верхнюю линию горизонта (неяркую между водой и небом), сомкнула вид, лежащий перед нашим другом, в некую плоскую чашу, опрокинувшуюся на него вроде неощутимой стены, вырастающей сразу же за обрывом – и придающей всему впереди ощущение миража или запредельности. Лука здесь заметил, какая странная прихоть появляется в очертаниях сосен, подходящих ближе к краю скалы. Как будто и впрямь встречая непреодолимое, их корни, уже ползущие по камням, их ветви и сами стволы – изворачиваются, выгибаясь в чувственных и даже похотливых капризах, похожих и на мучительные спазмы детей Лаокоона – и на неутолимые спазмы змей, и на сдавленные поползновения дерева, объятого пламенем.
Взглянув вниз, Лука заметил, как ещё одна светлая полоса замерцала прямо у него перед ногами: там, где вода плескалась у самой скалы, возникла узкая песчаная отмель кишащих светляков, снующих как будто в непрерывной мастурбации муравейника, закипающих пургой искр, уводящей и гаснущей на глубине. Это роение выглядело таким настоящим, животным и отнюдь не оптическим, что Лука поневоле обратился к цепочке огоньков, протянувшейся через устье между двумя островами, лесистыми и сумрачными даже на солнце. И здесь ему показалось, что сам вид застывшей перед ним бухты неуловимо меняется. Сперва далёкий горизонт непостижимо исчез в облачности, должно бы быть, разыгравшейся грозы; но если всмотреться, то эти призрачные тучки клубились, очевидно нависая прямо над парной гладью затона, неумолимо собирающей в свою запруду, как прилив, только что окружавшую её перспективу. Скала, на которой стоял Лука, неожиданно взмыла стремниной над этой чашей – и острова, её замыкающие, стремительно отступили для его взгляда, обнаруживая недосягаемо грандиозный размах, казалось, под самый свод. С того края гигантской чаши зыбкие блёстки по-прежнему подмигивали кишащему у берега сиянию… Но теперь в этой вроде бы беспорядочной жизни пчельника выяснился некий пробег. Всё, что открылось Луке, легло в его воображении за пылающим кругом: этот круг, сомкнувшийся за пределами зрения, казалось, прорывается зазорами внезапного, путаного и завораживающего совокупления искрящихся мух, составляющего своим кипением определённый смысл… манящий, зовущий сделать ещё один шаг вперёд: шагнуть, чтобы перейти видимые пределы и те, которые нельзя видеть или воображать.
Однако разве Лука в силах совершить такой шаг? Нет и нет. Обуреваемый желанием, зачарованный до ряби в глазах, готовый даже сорваться вниз в пропасть, глубину которой не измеришь, – он всё же остаётся здесь, на краю, охваченный и парализованный; но не обездвиженный бессилием, а напротив – в избытке чувств, он исходит в постыдно неутолимых спазмах своего тела перед необъяснимой преградой. Всё же он мог бы шагнуть; но он уже ощущает стыд и боль своего исступления, безумия, разыгрывающегося за пределами понятого: долго ли он сможет пройти, кружась в непотребной пляшущей поступи, нанося себе всё новые раны, истекая в крови и семени этого мазохистического рукоблудия? Или ему лучше сейчас же повернуть назад – в сторону поезда, который должен дожидаться его на косогоре за перелеском, чтобы везти дальше, туда, куда пролегали некоторые надежды, теперь полузабытые и столь же нелепые, как само расстояние, которого стоило их преодолеть.
Там, наверху, никакого поезда нет. Одинокая колея тянется, сворачивая по косе, образованной склоном и – с другой стороны – то ли ручьём, то ли глубокой канавой, достаточно широкой, чтобы прошла небольшая лодочка; еле заметный в зарослях, этот канал тихо протекает мимо кустарника, трав и чертополохов, наконец теряясь как-то под землю, сливаясь с буйными порослями болотца на том берегу. Недалёкое заливное поле ведёт к очередному песчаному откосу: куда он поднимается, куда уводит своим густым сосняком – уже неизвестно.
Здесь нам придётся оставить нашего друга; каким бы неловким ни показалось его положение, оно теперь не более чем забавно и ведёт его за пределы этого рассказа – в края, до сих пор скрытые от нас режимными ограничениями, хранящие тайны нашего государства (Лука, разумеется, имеет необходимый туда документ). Даже поезд, выходящий на их колею, всякий раз задерживается во избежание неприятностей, которые даёт перепад железнодорожного расписания и местного времени: в отличие от нас с вами, опытный машинист знает, что – помимо меридианов и декретов – жизнь проистекает везде по-своему. То, что мы принимаем за незыблемую точку отсчёта, на деле слишком зависит от произвола администрации. Что же до тайны, то мы всё равно узнаем её когда-то – и поэтому без сожаления бросим несколько растерявшегося Луку буквально на краю света.
Везде люди живут. Наша родина до того, в общем-то, широка, что, разглядывая Россию на большой «поликонической» карте мира, я вижу, как она выдаётся за её пределы и за границы моих представлений. Возможно, это искажение проекции. Но, может быть, и на самом деле терра инкогнита, иное измерение вещей, которое древние греки конкретно располагали за Гиперборейскими горами у берегов Великого океана, – существует? Ведь хотя мы и знаем, что Земля якобы представляет собой сферу, – мир, по которому мы прокладываем пути, лежит перед нами на карте: очевидный и всегда возможный, никогда не ограничивающий себя. Фантазия? Однако не слышно ли нам со всех сторон, что мир страны, где мы выросли и живем, – фикция? Во всяком случае, я не хочу фактов, которые до сих пор неспособны эту фикцию выдержать, – так же как не желаю испытывать её сам. Да и чего там искать, если окажется, что все эти пресловутые места, известные из мифов, немного чем отличаются от другой русской земли: разве что подъедаться, возможно, там поскучнее и непривычно… Если бы мы увидели Луку во всей прозе его житейских перипетий, не расхотелось бы нам и мечтать: его ждёт городок, где он будет ходить, как фунамбула, невольно разыскивая на смутно знакомых улицах – ведь всё те же, сменившиеся в Петербурге, названия здесь остались, – похожие дома, повсюду встречая лица настолько бледные, что как будто забытые. Вероятно, всё это и окажется Ленинградом: где иначе располагается это место, я не знаю. Но даже оттуда, где он отстал, Луке добираться уже недалеко. Если он одолеет канаву, то за сосняком выйдет на бесконечно тусклые поля и ещё может вовремя набрести на проходящий по маршруту автобус.









































