Читать книгу "Кавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг."
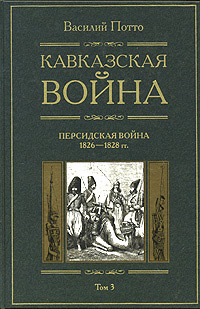
Автор книги: Василий Потто
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Персидская война, случившаяся в один из значительнейших моментов жизни России и сопряженная с неимоверными трудностями, вести о которых разносились по всей русской земле, оставила глубокое впечатление, и ближайшие современники отметили ее целым рядом памятников.
Император Николай установил для всех участников войны серебряную медаль на соединенной ленте орденов св. Георгия и Владимира. “Да послужит знак сей,– сказано было в высочайшем приказе войскам,– памятником мужества и кроткого поведения вашего. Да будет он новым залогом верной службы русского войска и моей к вам признательности”.
Грузия предложила построить в Тифлисе, со стороны эриванского въезда, триумфальные ворота с устроенным внутри их помещением для четырех отставных ветеранов. Сводчатые ворота эти предполагалось сложить из дикого камня, а все барельефы и украшения, представляющие виды взятых крепостей, отлить из чугуна, “дабы время не истребило их и потомство запечатлело бы в памяти своей блистательные успехи российского оружия”. На лицевой стороне ворот проектировался бюст императора Николая с надписью: “Признательная Грузия победоносному российскому воинству”; на другой – герб древней Иверии с вензельным именем императора, а под ним, в лавровом венке, названия покоренных крепостей и тут же на мраморных досках имена генералов и всех полков, участвовавших в персидской кампании. Жители Грузии готовы были пожертвовать для этого значительные суммы, самый проект уже был представлен на высочайшее утверждение, но почему он не был приведен в исполнение,– неизвестно.
К числу памятников персидской войны следует отнести и богатое собрание литографированных видов и картин, изображающих главнейшие события ее. Эти картины были написаны известным художником Машковым, который был прислан на Кавказ академией наук и художеств еще в 1816 году и с тех пор не покидал Кавказа. Находясь в беспрерывных разъездах, он осмотрел все, что было любопытного на Кавказе, и составил богатые коллекции картин, из которых некоторые были представлены императору Александру Павловичу. В персидскую войну Машков сопровождал Паскевича, был очевидцем главных происшествий этой достопамятной кампании и создал целый альбом из тринадцати больших картин, изображающих следующие моменты: 1) поражение персиян под Елизаветполем, 2) сражение при Джеванбулаке, 3) положение победителей и побежденных по окончании Джеванбулакского боя, 4) сдача крепости Аббас-Абада, 5) взятие Сардар-Абада, 6) покорение Эривани, 7) переправа русских войск через Аракс, 8) торжественное вступление в Тавриз, 9) поход на Тавриз, 10) первое свидание графа Паскевича с Аббасом-Мирзой, 11) заключение мира в Туркменчае, 12) персидский транспорт с золотом, переходящий через горы и 13) прием контрибуционного золота в Тавризе.
Художник старался изобразить в своих картинах все роды войск, как русских, так и персидских, в их характерных типах и костюмах. Здесь и кавказские солдаты и черноморские казаки и сарбазы и джамбазы, и куртинцы и прочие,– и в различных положениях этих воинов автор хотел представить их характеристику. Кроме художественного достоинства, удачный выбор момента изображаемых событий и портреты всех наиболее выдающихся деятелей придавали этой коллекции особенную историческую ценность.[14]14
Стоили все эти гравюры в то время пятьдесят рублей ассигнациями. Но сохранились ли где-либо полные экземпляры этой коллекции, к сожалению, неизвестно.
[Закрыть]
Были, как известно, и еще картины, не вошедшие в это собрание. К ним принадлежат “Торжественная встреча русских войск архиепископом Нерсесом в Эчмиадзине”, о которой упоминает Красовский, и “Переселение 40000 армян из Персии в русские пределы под личным распоряжением полковника Л. Е. Лазарева в 1828 году”, о чем упоминается в “Собрании актов, относящихся к обозрению истории Армянского народа.
Любопытно также, что сами персияне оставили в России характерный памятник этой войны. Еще во время пребывания Паскевича в Тавризе, к нему явились два персидские художника и предложили выбить медали в память взятия русскими войсками Эривани и пребывания их в столице Азербайджана. Паскёвич отправил образчик таких медалей из золота, серебра и меди в Петербург и писал, что “медали эти, выбитые самими персиянами посредством штемпелей и машин, сделанных ими же, в самом Тавризе, послужат довольно замечательным памятником этих событий”.
Впоследствии знаменитый русский скульптор и медальер, граф Федор Петрович Толстой, создавая свою известную коллекцию медалей войны 1826—1829 годов, в дивно художественных аллегорических изображениях отметил и славнейшие подвиги персидской войны. Последней посвящены им имение три медали, изображающие Елизаветпольскую победу, взятие Эривани и взятие Тавриза. На медали в память Елизаветпольской битвы изображен всадник, вместе с конем поверженный могучим витязем, чело которого осенено шлемом. Поверженный перс с его характерным лицом и рукой, которой он хочет закрыться от удара, мощный, с крупными формами конь, опрокинутый на землю, наконец, витязь с гордо поднятым челом и с мечом, устремленным на врага,– поражают совершенством художественного выполнения. Медаль на взятие Эривани представляет русского война, напоминающего видом своим императора Николая; у ног его, головой к зрителю, обнаженное тело врага, брошенное на развалины; кругом стены крепости, по местам разбитые и превращенные в груды камней; справа от витязя, на стене, водружены знамена, а слева – восходящее из-за развалин солнце – эмблема новой эпохи свободы и просвещения, наставшей для Армении. Взятие Тавриза изображено так: несколько старшин, облеченных в длинные восточные костюмы, почтительно подходят к витязю, ожидающему их; за ними стены города. Художественная прелесть изображений необычайна на этих трофеях мирного искусства, взятых с воспоминаний о величественных подвигах русских на бранном поле.
С окончанием персидской войны трое из ее виднейших деятелей, Красовский, Бенкендорф и граф Сухтелен, удаляются с военной сцены Кавказа. Красовский, правда, остается еще некоторое время в качестве управляющего Эриванской областью, но Бенкендорф и Сухтелен уезжают с Кавказа тотчас по заключении мира.
Бенкендорф в короткое пребывание свое в воинственном крае сумел приобрести общую любовь и оставил по себе добрую память. Вернувшись в Петербург, он в качестве генерал-адъютанта сопровождал императора Николая в турецком походе. Рассказывают, что привязанность к нему государя была так сильна, что он поменялся с ним шпагами.
Остаться в бездействии, при главной квартире, Бенкендорф не мог по своей подвижной, деятельной натуре и выпросил себе летучий отряд, который, расположившись у подножия Балкан в селении Проводы, служил связывающим звеном между главной армией и ее корпусами, осаждавшими Шумлу и Варну. Но здоровье Бенкендорфа, уже расстроенное знойным климатом Персии, не выдержало новых трудов; он тяжко заболел и умер под солдатской палаткой 6 августа 1828 года, на сорок четвертом году от рождения. Последний вздох его довелось принять его знаменитому сослуживцу по Грузии, князю Мадатову.
“Я третьего дня,– писал Мадатов 5 августа,– приехал сюда (в Проводы) командовать отрядом на место Константина Бенкендорфа. Я нашел его в самом отчаянном положении. Вечером он пришел в память, радовался моему приезду, спросил о Грузии, потом простился со мной и говорил, что ожидает каждую минуту своей смерти. Я успокоил его сколько мог, подавая надежду на выздоровление. Все было тщетно, он был очень труден; на ночь начался пароксизм, он не мог переносить его, совершенно пришел в беспамятство и умер в одиннадцать часов пополудни. Бедные дети остались сиротами. Тело велел отпеть русским священникам, за неимением лютеранского, также сделал гроб свинцовый и отправил на большую дорогу к местечку Казлуджи. Может быть, родные захотят перевезти его в Россию”.
Тело Бенкендорфа, действительно, отправлено было в Штутгарт и предано земле в фамильном склепе.
Занимая почетное место в ряду военных деятелей, Бенкендорф не менее почетное место получил и в русской военной литературе. Изданное на французском языке сочинение его о казаках и вообще о службе легкой кавалерии пользуется известностью и может служить весьма полезной школой для изучения партизанской войны.
Немногими годами пережил Бенкендорфа и товарищ его по персидской войне, граф Сухтелен. Вернувшись в Петербург, на прежнюю должность генерал-квартирмейстера главного штаба, он также участвовал в турецком походе, то начальствуя особым отрядом под Варной, то состоя при особе императора, то командуя корпусом в Бабагаде. Расстроенное здоровье помешало ему участвовать в кампании 1829 года; он ездил лечиться за границу, а по возвращении назначен был, в апреле 1830 года, оренбургским военным губернатором.
Старожилы Оренбурга и до сих пор хранят признательную память о Сухтелене,– так много в короткий период его управления было сделано для процветания тогда еще пустынного, полудикого края. Там он и умер 20 марта 1833 года от нервного удара.
С прискорбием принял государь неожиданное известие о кончине графа и не велел печатать приказа об исключении его из списков, пока не будет приготовлен к этой печальной утрате престарелый отец покойного. Это было вполне заслуженное внимание государя к человеку, оставившему после себя прекрасную память в рядах всей русской армии и в народе, с которым ему доводилось приходить в соприкосновение.
Среди жителей Оренбурга внезапная смерть Сухтелена вызвала выражения истинного горя.
Тело его, по настоянию жителей, погребено было в самом центре города, в ограде собора Петропавловской церкви, где и теперь виднеется его одинокая, к сожалению, уже забываемая могила, со скромным памятником, представляющим гранитную скалу, увенчанную большим золоченым крестом. Короткая надпись на черной мраморной доске гласит: “Здесь погребено тело раба Божия, графа Павла Петровича Сухтелена”.
До какой степени народ благоговел к его памяти, может служить следующий факт. Когда обер-прокурор святейшего синода узнал, что Сухтелен был реформатского вероисповедания, и возбудил вопрос о незаконном погребении его в ограде православной церкви,– государь приказал запросить об этом мнение нового начальника оренбургского края, Перовского. Перовский отвечал категорично, что “заслуги Сухтелена слишком велики для того, чтобы поднимать вопрос о принадлежности его к тому или другому исповеданию, что погребение его в ограде Петропавловской церкви сделано согласно собственному желанию покойного, что это желание было известно всем жителям города и неисполнение его могло бы произвести в народе, непросвещенном и преданном покойному графу, ропот и даже негодование”. Народ, помнивший его доброту, действительно, не хотел справляться, какого он вероисповедания, и усердно служил по нем панихиды, тысячными толпами собираясь к его могиле, сокрывшей преждевременно так много надежд, заслуг и добродетелей.
XXXV. ПОСОЛЬСТВО И СМЕРТЬ ГРИБОЕДОВА
Туркменский трактат положил конец неприязненным отношениям между Россией и Персией, и император Николай, в возобновление дружеских сношений, учредил пост полномочного министра при персидском дворе. На этот высокий пост получил назначение Грибоедов. Славный во всем великом отечестве нашем как творец “Горя от ума”, Александр Сергеевич Грибоедов мало известен в качестве дипломатического деятеля на Кавказе. Между тем он, пробывший свои лучшие годы в Персии и на Кавказе в одну из самых героических эпох тамошнего русского владычества, принимавший, наконец, весьма близкое участие в заключении Туркменчайского мира, представляет собой одного из весьма замечательных кавказских деятелей на дипломатическом поприще, на подготовку к которому он отдал лучшие свои годы.
Грибоедов родился в Москве, 4 января 1795 года, в обстановке богатого помещичьего быта, и получил солидное юридическое образование в московском университете. Но тогдашнее поприще юриста не манило его. Был к тому же роковой двенадцатый год, самый разгар борьбы с Наполеоном, когда все молодое поколение стремилось стать под знамена отечества; Грибоедов не мог оставаться равнодушным зрителем грозных событий и последовал общему примеру, поступил корнетом в Иркутский гусарский полк. Полк этот назначен был, однако же, в кавалерийские резервы, – и Грибоедову не удалось участвовать в кровавых битвах, наполеоновской эпохи. Вместо победных полей он очутился среди невылазной грязи литовских европейских местечек. Гусарская жизнь, проходившая тогда среди нескончаемых кутежей, попоек, карт и обожания женщин, не могла, конечно, поглотить собой Грибоедова, натуру глубокую и проницательную. Он слишком ясно видел сокровенные пружины, двигающие жизнью, чтобы отдаться с увлечением пустому существованию. Но пламенная душа его требовала деятельности, ум – пищи, а в томительной тоске и бессодержательности окружавшей его действительности не было исхода молодым силам. И вот он нередко предавался самым крайним проявлениям страстной жажды жизни. То он устраивал оргии, которые надолго нарушали спокойствие мирных обывателей, то появлялся на коне в каком-нибудь танцевальном зале, то прогонял органиста в костеле и, заняв его место, после дивных импровизаций, изумлявших церковь глубиной молитвенного настроения, вдруг начинал играть “казачка” или “комаринскую”.
К счастью для Грибоедова, эта пора разгула страстей, разрушительно действовавшая и на его здоровье, скоро прошла. Он познакомился и подружился с С. И. Бегичевым, который обнаружил на него самое благотворное влияние. Случайно сошелся он также с князем Шаховским, известным русским драматургом. Под влиянием этих двух личностей Грибоедов сознал необходимость покончить раз и. навсегда со своей беспутной молодостью. Он круто переменил свою жизнь, стал заниматься литературой, вышел в отставку и, поселившись в Петербурге, сблизился с кружком, тогдашних литераторов (князем Шаховским, Хмельницким, Жандром и др.). Прекрасно образованный, свободно изъяснявшийся на четырех языках, притом отличный музыкант-импровизатор, Грибоедов стал душой столичных салонов. Но жизнь его и тогда продолжала время от времени выбиваться из правильной колеи, сказывались следствия пылких страстей, которые и привели его в конце концов к кровавой истории, заставившей долго говорить о себе весь Петербург.
Это была известная в свое время дуэль между Шереметьевым и Завадовским, по поводу знаменитой тогдашней танцовщицы Истоминой. Грибоедов принял в этой дуэли случайное участие, благодаря вмешательству одного из секундантов, а именно Якубовича. По настоянию последнего составилась двойная дуэль: Шереметьев должен был стреляться с Завадовским, Якубович с Грибоедовым. Очередь была за первой парой. И когда Шереметьев был убит, Грибоедов и Якубович нашли необходимым отложить свои личные счеты до более благоприятного момента.
Тяжелые наказания, ожидавшие всех участников дуэли, были значительно смягчены, благодаря заступничеству старого отца Шереметьева. Завадовский был выслан за границу; Якубович, служивший поручиком в лейб-гвардии уланском полку, переведен тем же чином на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, а Грибоедов отделался, кажется, одним замечанием. Но ему не легко было примириться с собственной совестью: он беспрестанно видел перед собой тень убитого юноши, так что самое пребывание в Петербурге стало для него невыносимым. В это время поверенный по русским делам в Тавризе, Мазарович, предложил Грибоедову ехать с ним в Персию в качестве секретаря посольства. Грибоедов охотно согласился и 30 августа 1818 года уехал из Петербурга.
В Тифлисе его ждал Якубович. Они стрелялись, и Грибоедов был ранен пулей в ладонь левой руки, от чего у него свело мизинец. Это увечье, спустя одиннадцать лет, помогло отыскать тело Грибоедова, изуродованное до неузнаваемости тегеранской чернью.
Дуэль с Якубовичем была последняя дань, уплаченная Грибоедовым молодости. Жизнь, обставленная серьезными задачами, которую он вел уже и в последние годы в Петербурге, сложилась еще строже в Персии, в “дипломатическом монастыре”, как он называл посольство. Здесь его крепкая воля и сильный ум окончательно сложились и получили определенное направление. И если он утратил навсегда веселость и беззаботность юноши, то приобрел взамен их другие, более солидные качества, заставившие его взглянуть серьезнее на свои обязанности к родине. Грибоедов принялся учиться, знакомился с восточными языками, читал персидских поэтов, наблюдал нравы и быт Востока,– и вскоре богатством познаний выдвинулся из ряда дипломатов, успев даже оказать серьезные услуги. Его именно энергии и настойчивости Ермолов был, например, обязан тем, что персияне согласились освободить всех русских пленных, томившихся в неволе еще со времен Цицианова. Грибоедову, во время этой благородной миссии, ежеминутно грозили опасности со стороны раздраженной фанатичной черни, и он знал это; и тем не менее дело было им начато и энергично доведено до конца. Ермолов назвал эти действия храбрыми,– и они, действительно, были под стать спокойному и холодному мужеству Грибоедова.
Три года, проведенные под знойным небом Ирана, неблагоприятно отозвались на здоровье Грибоедова. Но пребывание его в Тавризе было до некоторой степени ссылкой,– и поэтому только в 1822 году, по ходатайству Ермолова, указывавшего на Грибоедова как на достойного кандидата в директора школы восточных языков, тогда только что еще проектировавшейся, ему разрешили, наконец, вернуться в Грузию. Ермолов назначил его состоять при себе в качестве секретаря по иностранным делам.
В первое свое пребывание в Персии Грибоедов задумал и обессмертившую его имя гениальную комедию “Горе от ума”. Вот что рассказывают о том, как она впервые родилась в уме Грибоедова.
Как-то летом, в 1821 году, утомленный зноем, заснул он в садовой беседке. Снилось ему, что он на родине, в кругу друзей – и рассказывает о плане новой, будто бы, написанной им комедии. Тотчас по пробуждении, под свежим впечатлением загадочной грезы, Грибоедов записал сюжет к набросал первые сцены приснившейся ему комедии. Это и был сюжет, легший в основание одного из гениальнейших произведений всей русской литературы.
В Тифлисе Грибоедов написал только первые два действия своей комедии; остальные докончены были им позднее, в имении Бегичева, в Тульской губернии, куда он ездил в отпуск, летом 1824 года. Как известно, “Горе от ума”, за исключением некоторых отрывков, не было напечатано при жизни Грибоедова,– тогдашние цензурные условия не допустили этого; не была она и поставлена на сцену. Грибоедов, уже мечтавший остаться в Петербурге, чтобы отдаться литературной деятельности, вернулся на Кавказ. Ермолова он застал в Екатериноградской станице, где снаряжалась тогда большая экспедиция против чеченцев; но в это самое время пришло известие о событиях 14 декабря, и вскоре Грибоедов был арестован и препровожден в Петербург. Причиной его ареста, как оказалось, были дружеские отношения его со многими декабристами. Черная туча, нависшая над головой поэта, скоро, однако, рассеялась. Он был освобожден, и государь, пожаловав ему чин надворного советника, отправил его снова в Грузию, под начальство уже Паскевича, который был женат на двоюродной сестре Грибоедова.
Заниматься литературой при новом начальнике оказалось не совсем удобным. Паскевич вел обширную переписку, и Грибоедов был завален работой. Ему преимущественно и принадлежат все те необыкновенно литературно и умно составленные донесения из канцелярии Паскевича,– который, как известно, сам писал по-русски весьма неправильно. Пришлось тоща Грибоедову пожалеть и о Ермолове. “При Алексее Петровиче,– писал он к одному из своих приятелей,– свободного времени было у меня больше, чем нужно, и если я при нем не много наслужил, то вдоволь начитался. Авось теперь, с Божьей помощью, употреблю это в свою пользу”.
Весной 1827 года персидская война дала Грибоедову несколько случаев участвовать в военных действиях. Он делал кампанию в свите Паскевича и был во всех важнейших делах того времени, выказывая пыл и горячность бывалого наездника. Гусарская кровь не раз заговаривала в молодом дипломате, и он с каким-то фатализмом приучал себя переносить опасности, назначая себе вперед известное число выстрелов, которые должен был выдержать, разъезжая спокойно по открытому месту под огнем неприятеля.
Вот что, по свидетельству одного из современников, сам он, год спустя, рассказывал по этому поводу, утверждая, что власть человека над самим собой ограничивается только физической невозможностью, а что во всем другом человек может повелевать собой совершенно: “Говорю это потому,– приводит рассказчик собственные слова Грибоедова,– что многое испытывал над самим собой. Например, в персидскую кампанию, во время одного сражения, мне случилось быть вместе с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударилось подле князя, осыпало его землей,– и в первый миг я подумал, что он убит. Это развило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только контузило, но я чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадкого чувства робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть, я трус в душе? Мысль нестерпимая для порядочного человека, и я решился, чего бы то ни стоило, вылечиться от робости. Я хотел не дрожать перед ядрами, в виду смерти, и, при первом же случае, стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал я назначенное мной самим число выстрелов и потом тихо поворотил лошадь и спокойно отъехал прочь. Знаете ли, что это прогнало мою робость? После я не робел ни от какой военной опасности. Но поддайся чувству страха – оно усилится и утвердится”.
Рассказ этот показывает, какой силой воли обладал молодой дипломат и уже знаменитый тогда писатель.
Близкое знакомство Грибоедова с жизнью и людьми Персия давало Паскевичу прямой повод поручать ему сношения с персидским правительством. Так Грибоедов ездил в Чорс для переговоров с Аббасом-Мирзой после Джеванбулакского сражения; так принял он деятельное участие и при составлении условий мирного трактата в Дей-Карагане и Туркменчае.
С вестью о заключении мира и для поздравления государя со славным окончанием войны Паскевич отправил в Петербург Грибоедова. Таким образом, в начале 1828 года ему пришлось опять, уже в последний раз, побывать на родном севере. Друзья его заметили в нем тогда какую-то необычайную сдержанность; он был грустен. Он предчувствовал, что на различных почестях, которыми его осыпали как вестника славного мира, дело не остановится и дипломатическая миссия его на Востоке грозит затянуться надолго, чего ему очень не хотелось. Действительно, государь пожаловал ему чин статского советника, орден св. Анны 2-ой степени, украшенный алмазами, и четыре тысячи червонцев, а вслед затем, 25 апреля 1928 года, именным повелением назначил его на пост полномочного министра при Тегеранском Дворе. Грибоедов сделал завидную служебную карьеру; но это назначение, которого Грибоедов отнюдь не добивался, только увеличило его грустное настроение. Мрачное предчувствие, видимо, тяготило его душу. Как-то раз Пушкин начал утешать его, Грибоедов ответил: “Вы не знаете этого народа (персиян), увидите, что дело дойдет до ножей”. Еще определеннее выразился он А. А. Жандру, сказав: “Не поздравляйте меня с этим назначением: нас там всех перережут. Аллаяр-хан – мой личный враг и никогда не подарит он мне туркменчайского договора”.
Перед отъездом из Петербурга Грибоедов хлопотал о постановке на сцену “Горя от ума”, уже тогда в тысячах рукописных экземпляров разошедшегося по всей России. Все его старания были, однако, напрасны, и комедия сыграна была в первый раз в Петербурге только 26 января 1831 года, когда Грибоедова уже не было на свете.
Один раз ему удалось, впрочем, видеть свое произведение, исполненное на сцене любителями. Это было зимой в 1827 году, в Эривани, когда, по инициативе генерала Красовского, был устроен офицерский театр в одной из зал дворца персидских сардарей. Здесь-то в первый раз и была сыграна бессмертная русская комедия.
Грибоедов оставил Петербург в первых числах июня 1828 года. Первое же его вступление в святилище гор ознаменовалось уже недобрым предзнаменованием. 3 июля он выехал из Казбека верхом на казачьей лошади, что давало полный простор наслаждаться величественными видами окружающей суровой природы. С ним вместе ехало десять грузин с майором Челяевым, начальником горских народов. Начинало смеркаться, когда вся кавалькада была верстах в пяти от Коби. Вдруг показались скачущие осетины, и один из них, отозвав Челяева в сторону, шепотом сообщил, что недалеко впереди на дорогу выехала разбойничья партия в триста человек, которая и поджидает их в засаде. Грибоедов, узнав, в чем дело, настаивал на том, чтобы ехать вперед. Челяев, однако, не согласился,– и все вернулись в Коби.
В Тифлисе Грибоедов обвенчался с известной красавицей, тогда еще шестнадцатилетней княжной Ниной Александровной Чавчавадзе, которая своей наружностью, как выражался он сам, напоминала ему его любимую картину Мурильо. Он любил ее, она отвечала ему взаимностью, и эта любовь ярким светом озарила немногие дни, оставленные ему судьбой. Обряд венчания происходил в Сионском соборе 22 августа, а 9 сентября Грибоедов, вместе с женой, выехал в Персию.
За снеговым Безобдалом, в нескольких верстах от селения Амамлы, там, где начинается узкая долина, обставленная невысокими горными кряжами, Грибоедов приказал остановиться. Оставя экипаж и свиту, он медленно свернул к видневшемуся в стороне от дороги полуразвалившемуся памятнику и возвратился оттуда в глубоком раздумье, навеянном на него посещением одинокой могилы.
Там, среди невозмутимой тишины захолустья, под памятником, поставленным еще во времена Цицианова, но незадолго перед тем, в 1827 году, разрушенным землетрясением, покоился прах бесстрашного воина. Это была могила Монтрезора, погибшего здесь со всем своим отрядом в кампанию 1804 года. Думал ли тогда Грибоедов, что, спустя очень короткое время, и он, подобно Монтрезору, отдаст свою жизнь, защищая свой пост, достоинство и честь своей отчизны?
Путешествие Грибоедова по Персии намеренно обставлено было, по приказанию Паскевича, пышностью и блеском, шумными народными овациями, официальными встречами и церемониями. Так Грибоедов достиг, наконец, Тавриза.
Здесь ему предстояло разрешить щекотливый вопрос о скорейшем очищении Хойской провинции, все еще занятой тогда русскими войсками в обеспечение уплаты шахом восьмого курура. Дело в том, что Аббас-Мирза, еще в апреле месяце, начал переговоры об очищении Хоя, предлагая тогда же внести триста тысяч туманов, то есть один миллион двести тысяч рублей серебром, а остальные прося рассрочить на семь месяцев без залога. Паскевич не соглашался на это и требовал или уплаты полностью, или обеспечения такими вещами, “сбыт коих не доведет правительство наше до убытков”, как он выражался. В этом виде переговоры тянулись до глубокой осени, а деньги между тем персиянами мало-помалу уплачивались. В то время, как Грибоедов приехал в Тавриз, денежные счеты были в следующем положении: к 21 ноября уплачено было персиянами один миллион пятьсот двенадцать тысяч рублей, на шестьдесят тысяч в руках русского правительства имелись векселя английского полномочного министра, на четыреста тысяч приняты были от Аббаса-Мирзы, в залог, его собственные драгоценные камни, шали и жемчуга; остались неуплаченными и необеспеченными только двадцать восемь тысяч, достать которые Аббасу-Мирзё было негде. Грибоедов, для очищения Хойской провинции, потребовал, в обеспечение этих двадцати восьми тысяч, трон Ага Мохаммед-хана, в котором одного золота, не считая эмали и художественной работы, по оценке считалось на тридцать шесть тысяч рублей. “Я принимал его всего в двадцати восьми тысячах,– говорит Грибоедов,– чтобы понудить персидское правительство скорее его выкупить, тем более, что персияне расставались с ним весьма неохотно, ибо трон сей почитался государственной регалией... Если же при окончательных счетах и окажется какая-нибудь незначащая недоимка, то мы в драгоценных камнях Аббаса-Мирзы имеем полное обеспечение и даже с избытком”...
Паскевич соглашался с Грибоедовым, но только возвращать персиянам трон он уже не хотел, находя, что исторический памятник этот будет хорошим трофеем в московской грановитой палате. И потому он поручал Грибоедову настаивать, чтобы трон оставался совсем в России, в уплату двадцати восьми тысяч, “или даже с некоторой не весьма значительной,– как выражается Паскевич,– надбавкой”. За какую именно сумму он был уступлен персиянам – сведений нет, но дело уладилось; трон поступил в число трофеев персидской войны и был доставлен в Аббас-Абад, а русские войска получили приказание выйти из Хойской провинции.
Неотложные дела в Тавризе этим были покончены, и Грибоедов должен был отправиться в Тегеран, чтобы представиться шаху. Оставив в Тавризе жену, он выехал с надеждой немедленно вернуться, так как резиденцией русского полномочного министра, как и министра английского, назначен был Тавриз. Судьбе угодно было, чтобы он вернулся уже в гробу.
В Тегеране русского посланника встретили с такими почестями, которых никогда не оказывали в Персии ни одному европейцу. Шах принял его чрезвычайно благосклонно; он пожаловал ему орден Льва и Солнца 1-ой степени, а всем членам миссии отправил богатые подарки.
Исполнив свои поручения, Грибоедов готовился уже выехать в Тавриз; состоялась уже прощальная аудиенция у шаха, лошади и катера были готовы к отъезду, как вдруг одно неожиданное обстоятельство перевернуло все вверх дном и привело к страшным последствиям.
Некто армянин Мирза-Якуб, евнух, служивший более пятнадцати лет при гареме шаха казначеем, ночью явился к посланнику и выразил ему желание возвратиться в Эривань. Грибоедов отвечал, что ночью ищут прибежища только одни преступники и что министр русского императора оказывает свое покровительство не тайно, а явно. Якуб удалился, но на следующий день явился снова. Грибоедов пробовал уговорить его остаться в Тегеране, доказывал ему, что он здесь человек знатный, тогда как в России совершенно ничего значить не может и тому подобное. Якуб остался непреклонным. Грибоедов уже не мог без ущерба достоинства русского посланника отказать ему в покровительстве и оставил его у себя, чтобы препроводить в Эривань.
Шах принял это обстоятельство как личную обиду. Якуб в течение многих лет занимал при нем должность главного евнуха и, поселившись вне Персии, мог дать тайнам шахского гарема полнейшую огласку. Гнев шаха был беспределен. Когда Грибоедов послал взять оставшееся в доме Якуба имущество, когда оно уже было навьючено на катеров, явились шахские ферраши, и навьюченные катера были отняты и отведены в дом шахского казначея.









































