Читать книгу "Кавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг."
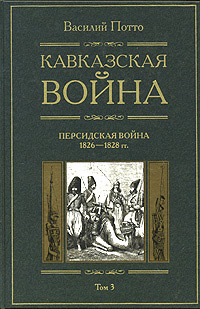
Автор книги: Василий Потто
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Весь персидский двор был в неописанном волнении. Раз двадцать в день приходили к Грибоедову посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; они говорили, что евнух то же, что шахская жена, и что, следовательно, посланник отобрал у шаха жену его. Грибоедов отвечал, что Якуб, на основании только что заключенного трактата, теперь русский подданный и что посланник не имеет права отказать ему в покровительстве, а тем более выдать его. Тогда персияне прибегли к другому средству: они предъявили на Якуба огромные денежные требования, до ста пятидесяти тысяч рублей, заявляя, что он обворовал шахскую казну и потому отпущен быть не может. Чтобы разъяснить это обстоятельство, Грибоедов вынужден был отправить Якуба к шахскому казначею, но в сопровождении своего переводчика. Комната, куда они вошли, была наполнена хаджами, которые все сразу кинулись с бранью на Якуба. Тот не остался в долгу,– и, таким образом, кроме ругательств ничего из всего этого не вышло.
Тогда шах назначил духовный суд над Якубом. Грибоедов изъявил и на это согласие, но с тем, чтобы на суде присутствовал секретарь русского посольства, Мальцев. Вероятно, последнее обстоятельство было причиной того, что суд не состоялся; персияне сами от него отказались, так как никаких доказательств виновности Якуба в чем-либо не было.
Между тем Грибоедов, по указанию того же Якуба, потребовал из гарема Аллаяра-хана двух пленных армянок, которые изъявили желание возвратиться на родину. Это переполнило чашу негодования персидских вельмож; и не без их подстрекательства, конечно, вспыхнул в городе мятеж, скоро достигший крайнего ожесточения.
Во главе движения стал сам муждтехид, верховный мулла тегеранский, Мирза-Месих, известный фанатик, изувер. Он пустил слух, разнесшийся по всему городу, что Якуб ругает магометанскую веру. “Как,– говорил он в собрании хаджей,– этот человек двадцать лет исповедывал нашу религию, читал наши книги, а теперь поедет в Россию, чтобы надругаться над нашей верой? Он должен умереть”. Распущен был также слух, что в доме посланника силой удерживают женщин и принуждают их к отступничеству от мусульманства. Народ кричал: “Не мы писали мирный договор с Россией!.. Мы не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру”. И народ требовал освобождения задержанных. Ахунды ходили по площадям и кричали: “Правоверные! Запирайте завтра базары, идите в мечети, там вы услышите наше слово”.
Наступило роковое 30 число января. Базар был заперт, и народ с утра толпился в тегеранской соборной мечети. Муджтехид сказал зажигательную речь. Толпа, быстро возросшая до нескольких тысяч, бросилась к дому посланника. И пока одни с обнаженными кинжалами врывались во двор, другие влезали на крыши соседних домов, предвидя кровавое зрелище, и лютыми криками выражали свою радость.
Не встретив никакого сопротивления со стороны караульных сарбазов, не имевших при себе даже ружей, сложенных, как впоследствии оказалось, на чердаке, толпа вломилась во двор. Первой жертвой ее стал Мирза-Якуб,– ему отрубили голову. Затем были убиты переводчик Дадымов и двое прислужников. Персидский караул бежал. Казаки около часу отстреливались от наступавшей многолюдной и свирепой толпы, но их было мало, и, смятые массой, они были, наконец, все изрублены. По трупам этих людей убийцы бросились в дом, где было русское посольство. Там вместе с Грибоедовым находились князь Меликов, родственник его жены, второй секретарь посольства Аделунг, медик и несколько человек прислуги. На крыльце убийцы встречены были храбрым грузином Хочетуром. Он некоторое время один держался против целой сотни людей. Но когда у него в руках сломалась сабля, народ буквально растерзал его на части. Приступ принимал все более и более страшный характер: одни из персиян ломились в двери, другие проворно разбирали крышу и сверху стреляли по свите посланника; ранен был в это время и сам Грибоедов, а его молочный брат и двое грузин убиты. Медик посольства обнаружил при этом необыкновенную храбрость и присутствие духа. Видя неизбежность гибели, он вздумал проложить себе дорогу через двор маленькой европейской шпагой. Ему отрубили левую руку, которая упала к ногам его. Он вбежал тогда в ближайшую комнату, оторвал с дверей занавес, обернул им свою страшную рану и выпрыгнул в окно; рассвирепевшая чернь добила его градом камней. Между тем свита посланника, отступая шаг за шагом, укрылась наконец в последней комнате и отчаянно защищалась, все еще не теряя надежды на помощь шахского войска. Смельчаки из нападавших, хотевшие было ворваться в двери, были изрублены. Но вдруг пламя и дым охватили комнату; персияне разобрали крышу и подожгли потолок. Пользуясь смятением осажденных, народ ворвался в комнату,– и началось беспощадное избиение русских. Рядом с Грибоедовым был изрублен казачий урядник, который до последней минуты заслонял его своей грудью. Сам Грибоедов отчаянно защищался шашкой и пал под ударами нескольких кинжалов... Обезображенный труп его вместе с другими был три дня игралищем тегеранской черни и узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетной пулей Якубовича.
Любопытны слова Пушкина по поводу смерти Грибоедова: “Я ничего не знал,– говорит он,– счастливее и завиднее последних дней бурной его жизни. Сама смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна”.
Позднее, когда разъяренная чернь уже доканчивала свое кровавое дело, пришла, наконец, сотня шахских сарбазов; но у этого войска не было патронов, и оно имело к тому же приказание действовать против черни красноречием, а не штыками.
После избиения посла и его свиты начался грабеж. Персияне с криком и дракой делили между собой деньги, бумаги и разные ценные вещи. Само жилище посланника было разрушено, и развалины его существуют поныне как памятник ужасного события, заставляя содрогнуться каждого, кто посетит это несчастное место.
Последний долг печальным останкам Грибоедова был отдан духовенством в армянской церкви, где было выставлено его тело. Прочих, убитых с ним, похоронили в общей могиле, за стенами Тегерана, где они оставались до 1836 года. В этом году кости их были выкопаны и преданы земле в заранее приготовленном склепе среди самого города. Нельзя не заметить, что персияне, допустив перенесение христианских тел в город, должны были победить вековой предрассудок, которого до этого времени упорно держались.
В кровавый день 30 января погибло, по свидетельству Мальцева, тридцать семь человек русских и девятнадцать тегеранских жителей. Но персидские историки показывают, однако же, что убитых мусульман было не менее восьмидесяти человек. Из всей русской миссии остался в живых только Мальцев, состоявший при Грибоедове в качестве первого секретаря. Молодой человек, одаренный счастливыми способностями, он познакомился в Тегеране с каким-то ханом, жившим рядом с домом посланника, часто его навещал и ему обязан был своим спасением. Рассказывают, что хан этот полюбил и привязался к Мальцеву, и уговорил его, в самом начале катастрофы, укрыться в его доме, а вечером, переодетого в сарбазское платье, доставил во дворец Зилли-Султана, где Мальцев и пробыл до отправления в Тифлис.
Так представляется в своих внешних чертах неслыханное дело убийства русского посланника в Тегеране. Ближайшее расследование обстоятельств намекает, однако, что причины этого события лежат глубже, чем это представляется с первого взгляда. К сожалению, эти причины остаются и поныне невыясненными. Персидские историки утверждают, что Грибоедов, увлекшись успехами русского оружия в Азербайджане, держал себя непомерно гордо, оскорблял шаха непристойным и беззастенчивым обращением с ним, что люди, находившиеся при посольстве, позволяли себе разные насилия, что, наконец, посланником были незаконно задержаны женщины, которых, будто бы, хотели обратить силой в христианскую веру.
Говорят, действительно, что свита Грибоедова, особенно армяне и грузины, вели себя не совсем пристойно, но бестактность этих третьестепенных лиц посольства была обстоятельством во всяком случае настолько маловажным, что о нем не стоит и распространяться. Что же касается задержания женщин, то есть свидетельства совершенно противоположные, показывающие, что Грибоедов никого не брал с собой насильно. Известен, например, факт, что когда, на пути к Тегерану, в Казвине, к нему приведены были от одного сеида две женщины, одна армянка, а другая немка из Екатеринфельдской колонии, разбитой персиянами, и обе они заявили, что желают остаться в Персии, то Грибоедов немедленно возвратил их сеиду, и эта справедливость его заставила громко говорить о себе не только весь город, а и всю Персию. Впрочем, и в переписке, возникшей между Грибоедовым и персидскими министрами, много было говорено относительно Мирзы-Якуба, но не было даже и речи о женщинах; о них стали говорить лишь после смерти посланника. Берже, нужно думать, частью прав, полагая, что главная ошибка Грибоедова заключалась не в задержании этих женщин,– он имел право на это по смыслу туркменчайского договора,– а в том, что он, действительно, зашел в своих требованиях слишком далеко и коснулся гаремов лиц слишком значительных и важных. Паскевич думал, что все внешние поводы возмущения, история с Якубом, женщины и тому подобное, суть только ширмы, за которыми скрывался Аллаяр-хан. Он всегда был явным противником Аббаса-Мирзы и сильнейшей опорой враждебных ему братьев. И теперь с некоторым правдоподобием можно было заключить, что вся тегеранская история была обдуманной игрой самого вероломного коварства. Аллаяр-хан мог желать снова вовлечь шаха в войну с русскими, чтобы истребить совершенно династию Каджаров или же отдалить Аббаса-Мирзу от наследства Персии в пользу одного из его братьев.
“При неизвестности всех обстоятельств дела, можно предположить даже,– писал Паскевич,– что англичане не вовсе были чужды участия в возмущении черни, хотя, может быть, и не предвидели пагубных последствий его; ибо они неравнодушно смотрели на перевес в Персии русского министерства и на уничтожение собственного их влияния”.
Предположение Паскевича об участии англичан не лишено веского основание. Англия теряла слишком много, чтобы примириться со своей второстепенной ролью, в которую поставило ее стечение несчастных обстоятельств,– и естественно могла пустить в ход свои обычные интриги. Правда, желая выразить ужас и скорбь по случаю катастрофы, английский министр Макдональд предложил всем великобританским подданным, находившимся в Персии, облачиться в траур и даже протестовал перед персидским правительством, говоря, что история народов не представляет подобного ужасного случая, когда бы миссия дружественной нации погибла среди совершенного мира, и притом в столице самого государя,– но все это могло быть только простым соблюдением внешних международных приличий со стороны дипломата, ровно ничего не теряющего от выраженного им чувства негодования. В самой Персии предположения о тайном влиянии англичан находили себе полную веру.
Один из адъютантов Аббаса-Мирзы сказал даже по этому случаю следующую притчу: “Однажды чертова жена со своим ребенком сидела неподалеку от дороги в кустах. Вдруг показался путник с тяжелой ношей на спине и, поравнявшись с тем местом, где сидели черти, споткнулся о камень и упал. Поднимаясь, он с сердцем произнес: “Будь же ты, черт, проклят!” “ Как люди несправедливы,– сказал чертенок, обращаясь к матери,– мы так далеко от камня, а все же виноваты.” – “Молчи,– отвечала мать,– хотя мы и далеко, но хвост мой спрятан там, под камнем”... Вот так-то,– заключил персиянин,– было и в деле с Грибоедовым; англичане хотя и жили в Тавризе, но хвост их все же был скрыт в русской миссии в Тегеране”...
Дальнейшее поведение англичан не лишено было и некоторых странностей, которые как бы подтверждают эти предположения. Когда, например, тело Грибоедова привезли в Тавриз, то, как доносил Паскевичу Мальцев, никто из англичан не выехал навстречу; по их настоянию гроб не ввезли даже в город, а поставили в маленькой загородной армянской церкви, которой также никто из англичан не посетил. 6т Наиб-султана не было оказано телу покойного Грибоедова никаких почестей, даже не был приставлен почетный караул,– и есть некоторый повод думать, что Аббас-Мирза так поступил в угоду Макдональду. “Признаюсь,– писал Мальцев,– что я такой низости никогда не предполагал в английском посланнике. Неужели и в том находит он пользу для ост-индской компании, чтобы мстить человеку даже после его смерти”...
Впрочем, какие бы ни были посторонние причины убийства русского посланника, достоинство Империи требовало примерного возмездия за неслыханное нарушение прав международных.
Поэтому серьезнейшим вопросом во всем этом деле было то, какое участие в печальном происшествии принимало само персидское правительство? Старый муджтехид, вышедший в Россию из Тавриза, утверждал, что злодейство совершено с умыслом, с целью показать народу, что персидское правительство вовсе не так боится русских, как думают. Можно было также допустить, что шаху, по крайней мере, не безызвестны были приготовления к восстанию, но что цель возмущения состояла вовсе не в истреблении русского посольства; шах не хотел только мешать народу убить Якуба, смерть которого была ему желательна, а потом, когда разъяренная чернь добралась и до русских, он оказался уже бессилен остановить мятежников.
Никаких серьезных оснований даже к последним заключениям, однако, не оказалось, и до войны, которая была бы в противном случае неизбежна, дело не дошло. Все ограничилось приездом принца Хозров-Мирзы в Петербург, где он от лица шаха просил императора предать вечному забвению роковые события 30 января.
Известие о смерти Грибоедова пришло в Петербург 4 марта, то есть, по странному стечению обстоятельств, в тот самый день, когда, за год перед тем, он прибыл в Петербург с известием о Туркменчайском мире. Император Николай Павлович с глубоким чувством сожаления узнал о преждевременной бедственной кончине своего министра в Персии. Он принял живейшее участие в его осиротевшей семье, лишившейся всего достояния, так как наличные деньги и банковские билеты, принадлежавшие Грибоедову, на сумму около шестидесяти тысяч рублей, были разграблены персиянами. В вознаграждение заслуг Грибоедова, он пожаловал вдове и матери покойного по тридцать тысяч рублей единовременно и по пяти тысяч рублей ассигнациями пенсии. Впоследствии, по ходатайству князя Воронцова, пенсия вдове Грибоедова была увеличена еще на две тысячи рублей ассигнациями.
Останки Грибоедова долгое время оставались в Тегеране, и только спустя три месяца были вывезены оттуда шестнадцатилетней вдовой его, которая свято исполнила желание мужа, сказавшего ей однажды, в минуты мрачного предчувствия: “Не оставляй костей моих в Персии и похорони меня в Тифлисе, в церкви Св. Давида”.
Печальная церемония перенесения праха Грибоедова из Персии в русские пределы совершилась 1 мая 1829 года. Когда тело его, переправленное через Аракc, вступило на родную землю, его встретили батальон Тифлисского пехотного полка с двумя орудиями, масса народа, духовенство и все военные и гражданские власти Нахичеванской области. Особая комиссия немедленно приступила к вскрытию гроба. По словам Амбургера, тело покойного уже не имело и признаков прежнего вида; по-видимому, оно было ужасно изрублено и избито камнями; к тому же оно предалось уже сильному тлению. Гроб заколотили снова и залили нефтью. Отслужена была торжественная панихида, и при возглашении вечной памяти “убиенному болярину Александру” гроб был поставлен на особые дроги, под великолепный балдахин, нарочно заказанный для этого случая генералом Мерлини. Батальон тифлисцев отдал покойному воинскую честь,– и тихо и величественно началось траурное шествие при звуках похоронного марша.
Никогда еще окрестным магометанам не приводилось видеть подобные пышные похороны. Черные дроги, везомые шестью лошадьми, укутанными с головы до ног черными попонами, люди в необычайных траурных мантиях и шляпах, ведущие лошадей под уздцы, длинный ряд факельщиков по обе стороны гроба, роскошно убранный балдахин, войско, идущее с опущенным долу оружием, рыдающие звуки музыки,– все это производило сильнейшее впечатление. Кроме русского священника на встречу покойного вышло все армянское духовенство, с епископом во главе, и это придало еще более величия печальному шествию. Так процессия достигла Алинджа-чая.
2 мая шествие приблизилось к Нахичеванскому мосту и остановилось. Духовенство облачилось в ризы; весь город, от мала до велика, вышел навстречу Грибоедову и сопровождал гроб, несомый офицерами на руках, до самой площади, где стояла армянская церковь. Около храма густые толпы народа теснились всю ночь. “И трогательно было видеть,– говорит очевидец,– то живое участие, которое принимали решительно все в злополучной участи покойного министра. Между женщинами слышались громкие рыдания, и они всю ночь не выходили из церкви. Это были армянки,– и их участие, конечно, делает честь этому народу”.
Всю ночь стекались жители из окрестных селений, и на следующий день, 3 мая, когда похоронное шествие направилось из города далее, стечение народа было так велико, что, по словам очевидца, трудно было поверить, чтобы Нахичевань могла вместить в себе такое огромное население. Народ провожал покойного до второго источника по эриванской дороге. Здесь отслужена была последняя лития, гроб сняли с колесницы и повезли дальше уже на простой грузинской арбе, так как горная дорога не допускала торжественного шествия. Поручик Макаров с несколькими солдатами Тифлисского полка назначен был сопровождать гроб до Тифлиса.
В этой печальной обстановке прах Грибоедова и был встречен около Гергер, на Безобдале, А. С. Пушкиным. “Два вола,– рассказывает он в своем “Путешествии в Арзерум”,– впряженные в арбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы?” – спросил я их. “Из Тегерана”.– “Что везете?” – “Грибоедова”. Это было тело Грибоедова, которое препровождали в Тифлис”.
Карантины на эриванской дороге замедлили прибытие тела Грибоедова в Тифлис до последних чисел июня. С того времени и по 18 июля, день, назначенный для погребения, оно простояло также в карантине, в трех верстах от города. Накануне, поздно вечером, тело перевезено было в Тифлис, в Сионский собор, с печальной торжественностью. Дорога к городской заставе шла по правому берегу Куры, а по обеим сторонам ее тянулись виноградные сады, огороженные высокими каменными стенами. Ничто кругом не говорило о смерти,– и тем величественнее и трогательнее было печальное шествие. Сумрак вечера, озаряемый факелами, стены, сплошь унизанные плачущими, грузинками, окутанными в белые чадры, величественное, раздирающее душу пение, толпы народа за колесницей, наконец, воспоминание об ужасной кончине того, кто теперь приближался к городу на вечное упокоение в нем,– все это глубоко западало в душу и терзало тех, кто знал и научился любить покойного. Вдова, осужденная в самом расцвете своей молодости испытать такое страшное горе, стояла с семьей у городской заставы, и едва свет первого факела возвестил о приближении дорогого праха, она упала в обморок и долго, несмотря на все меры, оставалась без чувств.
На другой день Грибоедова торжественно, в присутствии всей знати и всего населения города, отпели. Экзарх Грузии, митрополит Иона, едва и сам могущий говорить от рыданий, сказал трогательное надгробное слово. И затем тело отвезли для погребения в монастырь Св. Давида. Все население города вышло на ту улицу, по которой проходила из Сионского собора процессия, и провожало ее с горестными чувствами к монастырю.
Вдова Грибоедова осталась неутешной. Грибоедов имел редкое, хотя и слишком кратковременное, счастье найти в супруге истинного друга, полного к нему любви и уважения. Пораженная своей незаменимой потерей, Нина Александровна Грибоедова, в полном расцвете своей красоты, решила остаться верной своей первой любви и памяти мужа. Она представляла собой глубоко трогательное зрелище человека, не принадлежащего себе, отдавшегося любимой идее. Русский поэт (Я. П. Полонский), встретивший ее на жизненном пути, был поражен ее душевной красотой и самоотверженной преданностью памяти гениального ее мужа и выразил свои чувства в следующем теплом стихотворении, превосходно изображающем ее трогательную судьбу:
I
Не князь, красавец молодой,
Внук иверских царей,
Был сокровенною мечтой
Ее цветущих дней;
Не вождь грузинских удальцов —
Гроза соседних гор —
Признаньем вынудил ее
Потупить ясный взор;
Не там, где слышат валуны
Плеск алазанских струй,
Впервые прозвучал ее
Заветный поцелуй.
Нет, зацвела ее любовь
И расцвела печаль
В том жарком городе, где нам
Прошедшего не жаль...
Где грезится сазандарам
Святая старина,
Где часто музыка слышна,
И веют знамена.
II
В Тифлисе я ее встречал,
Вникал в ее черты...
То – тень весны была, в тени
Осенней красоты.
Не весела, и не грустна,
Где б ни была она,
Повсюду на ее лице
Царила тишина.
Ни пышный блеск, ни резвый шум
Полуночных балов,
Ни барабанный бой, ни вой
Охотничьих рогов,
Ни смех пустой, ни приговор
Коварной клеветы,—
Ничто не возмущало в ней
Таинственной мечты;
Как будто слава, отразясь
На ней своим лучом,
В ней берегла покой души
И грезы о былом.
Хоть горя вечного понять
Не может праздный свет,
Она не без улыбки шла
К нему на склоне лет;
Хоть не видна была на ней
Страдания печать,
Я не решался никогда
При ней воспоминать
О том, кто горе от ума
Изведав, завещал
Ей всепрощающую скорбь
И веру в идеал...
III
Я помню час, когда вдали
Вершин седые льды
Румянцем вспыхнули, и тень
С холмов сошла в сады;
Когда Метех с своей скалой
Стоял, как бы в дыму,
И уходил сионский крест
В ночную полутьму.
Она сидела на крыльце,
С поникшей головой,
И, помню, кроткий взор ее
Увлажен был слезой.
Вот вспыхнул месяц за горой,
Как лампа, в синей мгле,
Но яркий луч ее бледнел
На молодом челе...
Иль о недавней старине
Намек нескромный мой
Смутил ее больной души
Таинственный покой,
Или воспоминанья вдруг
Проснулись и пришли,
И стал к ней близким тот, кто был
Далеким от земли...
Она молчала; в этот миг
Я скорбь ее любил,
И чудилось мне, взор ее
Со мной заговорил:
“Поймите, я с тех пор, как он
Погиб, чужда страстей,
Живу – уже не для себя,
И вряд ли для друзей!
Поймите, посреди живых
Я тень его люблю!
Вы знаете... но знают все
Историю мою.
IV
On русским послан был царем,
В Иран держал свой путь
И на пути заехал к нам
Душою отдохнуть.
Желанный гость, он принят был
Как друг моим отцом;
Не в первый раз входил он к нам
В гостеприимный дом.
Но не был весел он в тени
Развесистых чинар,
Где на коврах не раз нам пел
Заезжий сазандарь,
Где наше пенилось вино,
Дымился наш кальян,
И улыбалась жизнь гостям
Сквозь радужный туман.
И был задумчив он, когда,
Как бы сквозь тихий сон,
Пронизывался лунный свет
На темный наш балкон.
Его горячая душа,
Его могучий ум
Влачили всюду за собой
Груз неотвязных дум.
Напрасно Север ледяной
Рукоплескал ему,—
Он там оставил за собой
Бездушную зиму,
Он там холодные сердца
Оставил за собой;
Лишь я одна могла ему
Откликнуться душой.
Он так давно меня любил,
И так был рад, так рад,
Когда вдруг понял, отчего
Туманится мой взгляд.
V
И скоро перед алтарем
Мы с ним навек сошлись...
Казалось, праздновал весь мир,
И ликовал Тифлис.
Всю ночь к нам с ветром долетал
Зурны тягучий звук,
И мерный бубна стук, и гул
От хлопающих рук.
И не хотели погасать
Далекие огни,
Когда, лампаду засветив,
Остались мы одни,
И не хотела ночь унять
Далекой пляски шум,
Когда с души его больной
Скатилось бремя дум,
Чтоб не предвидел он конца
Своих блаженных дней
При виде брачного кольца
И ласковых очей.
VI
Но час настал: посол царя
Умчался в Тегеран
Прощай любви моей заря!
Пал на сердце туман.
Как в темноте рассвета ждут,
Чтоб страхи разогнать,
Так я ждала его, ждала,
Не уставала ждать!
Еще мой верующий, ум
Был грезами повит,—
Как вдруг... вдруг грянула молва,
Что он убит... убит!
Что он из плена бедных жен
Хотел мужьям вернуть;
Что с изуверами в бою
Он пал, пронзенный в грудь;
Что труп его, кровавый труп,
Поруган был толпой
И что скрипучая арба
Везет его домой.
Все эти вести в сердце мне
Со всех сторон неслись...
Но не скрипучая арба
Везла его в Тифлис.
Нет, осторожно между гор,
Ущелий и стремнин
Шесть траурных коней везли
Парадный балдахин.
Сопровождали гроб его
Лавровые венки,
И пушки жерлами назад,
И пики, и штыки...
Дымились факелы, и гул
Колес был эхом гор,
И память вечную о нем
Пел многолюдный хор.
И я пошла его встречать.
И весь Тифлис со мной
К заставе Эриванской шел
Растроганной толпой.
На кровлях плакали, когда
Без чувств упала я.
О, для чего пережила
Его любовь моя!
VII
И положила я его
На той скале, где спит
Семья гробниц и где святой
Давид их сторожит,
Где раньше, чем заглянет к нам
В окошки алый свет,
Заря под своды алтаря
Шлет пламенный привет;
На той скале, где в бурный час
Зимой, издалека
Причалив, плачут по весне
Ночные облака,
Куда весной, по четвергам,
Бредут на ранний звон,
Тропинкой каменной, в чадрах,
Толпы грузинских жен.—
Бредут нередко в страшный зной,
Одни – просить детей
Другие воротить мольбой
Простывших к ним мужей,—
Там в темном гроте – мавзолей,
И – скромный дар вдовы —
Лампадка светит в полутьме,
Чтоб прочитали вы
Ту надпись, и чтоб вам она
Напомнила сама
Два горя: “Горе от любви
И горе от ума”.
Прошло двадцать восемь лет,– и под тем же камнем, где покоятся останки творца бессмертной комедии, рядом с ним, похоронили и супругу его. Она скончалась в 1857 году, на сорок шестом году своей прекрасной жизни.
И ныне всякий русский, проезжая Тифлис, посетит дорогую могилу, в которой сокрыта одна из слав нашей родины. На западной стороне города возвышается святая гора Мтацминда, на которую в прихотливых зигзагах вьется, подобно ленте, узкая тропинка для пешеходов. На одном из уступов святой горы, на половине ее высоты, виднеется женский монастырь св. Давида, как будто гнездо ласточки, прикрепленное к скале. Этот уголок, который Грибоедов называл “поэтической принадлежностью Тифлиса”,– прекрасен. Вид с монастырской террасы очарователен: весь Тифлис виден отсюда как на ладони. На востоке сверкает быстрая Кура; за ней, вдали, синеют горы благословенной Кахетии; шумный город с его полуевропейской и полуазиатской физиономией далеко внизу,– вы стоите между небом и землей. Здесь, перед величавой картиной, которая так нравилась Грибоедову, и покоится прах его, в гроте под тяжелыми сводами, имеющем вид красивой часовни. Внутри грота – бронзовый памятник. На возвышенном пьедестале поставлена прекрасная статуя, работы известного художника Кампиони, изображающая женщину, склонившуюся на колени перед гробовой урной у подножия креста.
“В позе молящейся так много грации, так живо выражена в ней глубокая скорбь,– говорит один из путешественников,– что вы не только любуетесь ею как высшим проявлением искусства, но вы сочувствуете ей как существу живому”. У ног коленопреклоненной с одной стороны крест и евангелие – символы страдания и веры, с другой – раскрытая книга, на корешке которой короткая надпись: “Горе от ума”. На одной стороне пьедестала барельефом сделан портрет покойного писателя, а под ним начертано золотыми буквами:
“Александр Сергеевич Грибоедов. Родился 1795 года, января 4. Убит в Тегеране 1829 года, января 30”.
На другой стороне пьедестала надпись: “Ум и дела твои бессмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя любовь моя?”









































