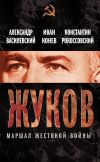Текст книги "Жернова. 1918-1953. Книга девятая. В шаге от пропасти"
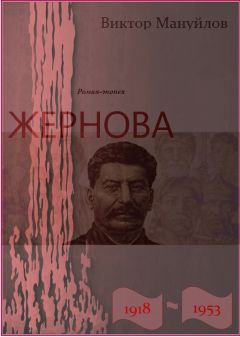
Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава 2
Двадцать верст на телеге – не шутка. До этого я даже не знал, что такое верста. И даже что такое километр представлял себе смутно. Теперь знаю, что это очень долго и все время трясет и трясет, стучат колеса, шлепают копыта лошадей, почмокивает дядя Кузьма на передке, тетя Лена тихо рассказывает ему, как мы ехали, как уезжали из Ленинграда, как нас бомбили, а я про все это слышал и мотал на ус, как говорила моя мама, хотя усов у меня еще нет.
Телега качается, над головой качаются темные ели, белые облака, голубое небо. Иногда большие птицы срываются с берез и перелетают через дорогу. Птицы похожи на черных куриц, какие бродили по тихому ленинградскому переулку возле хлебной лавки и клевали червяков и всяких козявок, и такие же у них красные гребешки и бородки. Только совсем махонькие. Такие же черные курицы есть и в лесу возле дядимишиной деревни Мышлятино. Только я забыл, как эти курицы называются.
Я лежу на сене, как бывало в деревне у дедушки Василия, маминого папы, когда он еще не был погорельцем, или у дяди Миши, маминого брата, к которым мы ездили отдыхать еще до войны, и то вижу все, что делается наверху, то не вижу, потому что сплю. А когда открываю глаза, опять смотрю вверх, а там все одно и тоже: лес, черные курицы, облака и небо, а в небе кружат ястребы. Или коршуны. И пищат: пи-иии! пи-иии! пи-иии! Тогда я сажусь и смотрю сидя. Сидя видно больше. Сидя видно, что лес растет на холмах, что мы едем вдоль реки, что спереди тоже едут, и позади едут, и все лошади одинаковые, а все дяди, которые сидят за их хвостами, тоже одинаковые, похожие на нашего дядю Кузьму: у всех бороды и чудные шапки.
Мне папа говорил, что бороды у дядей растут потому, что у них нет бритвы, а у папы не растет, потому что у него есть бритва и он ею бреется. У папы очень острая бритва, такая острая, что ею можно порезаться, даже если до нее не дотрагиваться, а только потрогать. И я думаю, что если сделать такую же острую саблю, как папина бритва, и дать ее Буденному, то он всех гитлеров этой саблей чик-чик-чик – и мы снова поедем в Ленинград. Но такую саблю дяди еще не придумали, это только я ее придумал, и это мой самый большой секрет. Когда я вырасту, я сам сделаю такую саблю, пойду воевать за Красную армию и всех победю… Или побеждю.
– Мама, как правильно: победю или побеждю?
– Ах, отстань, – говорит мама. – У меня и без твоих вопросов голова разрывается.
– Правильно будет побежду, – говорит Тамарка, тетиленина дочка. – Такой большой, а не знает, – вредничает она. И показывает мне язык.
Конечно, ей хорошо говорить: она уже в третий класс пойдет, а я еще и читать как следует не умею, хотя знаю все буквы, которые почему-то не всегда складываются в правильные слова. А я с некоторых пор люблю говорить правильно. И писать. Раньше не любил, а теперь люблю, потому что неправильно говорить непра… нельзя. Вот. И все-таки что-то меня смущает. «Побеждю, побежду, победю… – повторяю я про себя и никак не могу примириться с тем, как буквы укладываются в это слово. В конце концов, от долгого повторения слово вообще теряет всякий смысл, и мне становится грустно. – По-бе-жду, бе-жду, жду-жду-жду! Наверняка и Тамарка не знает, как правильно», – думаю я. Но никто из взрослых не поправил Тамарку, и я смиряюсь: наверное, все-таки «побежду».
Река извивается, петляет, становится то шире, то уже, то быстрее, то тише. И берега ее тоже бывают разные: то низкие с зеленой травой, то высокие и каменные, с соснами на этих камнях. А кроме сосен здесь растут еще разные деревья, и почти все я знаю: меня папа научил. «Самое главное дерево, – говорил папа, – это сосна, потому что из нее все делают: и дома, и рамы, и двери, и табуретки». Мой папа все знает. Потому что он модельщик и все делает из дерева. А еще есть дуб. На нем растут желуди. А еще есть липа, осина, ольха и это самое… как его?.. ясень. У ясеня очень светлые и веселые листочки. Потому и ясень…
Иногда мы проезжаем мимо каких-то деревень, в которых на наших лошадок лают собаки, а мальчишки с девчонками, одетые бог знает во что, как не одеваются у нас в Ленинграде, стоят и смотрят на нас, как будто мы игрушечные. Часть телег остается в этих деревнях, а мы не остаемся, и мама вздыхает. «Боже мой, какая глушь», – говорит она тихо, чтобы не услыхал дядя Кузьма, а то он обидится и не повезет нас в свою деревню.
Потом пошел дождь, нас накрыли чем-то большим и темным. И дальше я ничего не помню, потому что спал, а спал потому, что я люблю спать, когда шумит дождь. Он шумит и будто выговаривает: «Тишшше… Тишшше… Ссспать, ссспать, ссспать…»
В нашу деревню мы приехали уже ночью. Дядя Кузьма таскал вещи в дом, который, как и в Мышлятино, называется избой, и мама таскала, и тетя Лена. А я оттащил только маленькую вещь, а остальные не таскал, потому что вещи большие, а я все еще маленький.
В избе нас встретила тетя Груня, очень похожая на бабу Полю, дядимишину жену. Горела керосиновая лампа, но все равно было темно, как во время воздушной тревоги, когда выключают электричество. Зато было очень тепло, на столе стояла кринка с молоком, и нас всех поили топленым молоком с пенками и шаньгами. А в шаньгах творог с корочкой, как пенка от молока. И такие они вкусные, такие вкусные, что я съел целых четыре штуки. После этого нас раздели и положили спать: нас с Сережкой на печи, Тамарку на полатях, а Людмилку на мамину кровать, поэтому я ничего не разглядел, кроме большой печки, в которой горели дрова, стреляли угольки и выл ветер, а разглядел только утром, когда стало светло.
Я специально проснулся раньше всех, чтобы разглядеть. Мама еще спала, тетя Лена тоже, и все остальные. Я спустился с печки по лесенке, стараясь не скрипеть и не стучать, чтобы никого не разбудить. Спускаться с печки я научился еще у дяди Миши, потому что у него в избе такая же печка, которая зовется русской. И я тоже зовусь русским, и мама, и Людмилка, и тетя Лена, и все-все-все.
Я подошел к окну, отодвинул занавеску и увидел забор, какие-то кусты, за ними дорогу, еще один забор, возле него лошадь, прицепленную к телеге, за лошадью еще одну избу, и еще одну, и еще, а за избами виднелась река, поле, за полем лес, а за лесом вставало красное солнце. Оно смотрело на меня в полглаза, а я на него в оба, но долго смотреть на солнце я не смог, потому что оно становилось все больше и ярче и смотрело на меня теперь во все глаза, и от этого мои глаза стали моргать и плакать.
В это время из избы напротив вышел дядя, отвязал лошадь от забора, сел на телегу и поехал куда-то, может быть, за новыми эвакуированными, потому что ему вчера не досталось ни одного, и ему стало обидно. Мне тоже бывает обидно, когда всем что-нибудь достается, а мне нет.
Потом по дороге между избами проехал другой дядя на телеге с белой лошадью. Лошадь такая красивая, что мне очень захотелось проехать на этой лошади, но дядя уехал, и на дороге никого не стало видно, кроме кур, которые клевали червяков, и большой лохматой собаки, которая лежала на боку и ничего не делала. Потом вышла откуда-то хрюшка с палками на шее – это чтобы она не забралась в огород и не поела капусту и морковку, – потом прошли белые гуси, потом мальчишки с сумками, потом улица опустела, и мне стало неинтересно смотреть на все это.
И тогда я принялся искать свою одежду, но ее нигде не было видно. Тут проснулась мама, спросила у меня:
– Господи, сколько же времени?
– Не знаю, – честно ответил я. Подумал, и сказал: – Пора уже завтракать.
Тут проснулись все и стали искать свои вещи, а вещи оказались на лавке с другой стороны печки: они там грелись.
Завтракали мы опять шаньгами с молоком, и тетя Лена сказала моей маме:
– Вот видишь, а в городе всего этого нет. Что бы мы сейчас ели в этом твоем городе?
Я подумал хорошенько и сказал:
– Чай с печеньем.
– Интересно, где бы мы его взяли, – рассердилась тетя Лена непонятно почему.
– В колодце, – нашелся я, имея в виду воду, из которой варят чай.
– В колодце печенья не бывает, – сказала Тамарка и как всегда показала мне свой красный язык.
Она всегда вредничает, когда я что-нибудь скажу. Очень противная эта Тамарка. И я решаю раз и навсегда: когда вырасту и буду жениться, на Тамарке не женюсь ни за что. Это решение меня успокаивает, и я молча допиваю свое молоко и доедаю свою шаньгу. Нет, наоборот: сперва доедаю, а потом допиваю.
Прошло много дней. Теперь молока нам дают понемножку, шаньги вообще лишь изредка, а больше оладьи и блины, которые печет мама, потому что муки мало и печь хлеб не из чего. Зато мы едим картошку и квашеную капусту с клюквой. Когда съешь такую клюкву, во рту становится так кисло, что я начинаю морщиться и щуриться, а мама спрашивает: что, Москву видно? Однажды я засунул в рот сразу целых десять клюквин, но Москвы так и не увидел. А в Москве, я знаю, живет Сталин, у него усы, и он очень добрый. Как дедушка Ленин. Только в Москве я ни разу не был, но когда я стану большим… И я пытаюсь представить себе, каким большим я стану и на чем поеду в Москву. Войны к тому времени уже не будет, самолеты с гитлерами летать перестанут, но непременно будет что-то интересное, что-то такое, что я даже представить себе не могу.
От папы пришло сразу два письма. И одно письмо от дяди Коли. Мама и тетя Лена удивляются, как они нас нашли в этой глуши. И мама, и тетя Лена читают письма вслух и обе плачут, хотя папа пишет, что живет хорошо, и дядя Коля тоже живет хорошо, что оба работают, а от нас не получили ни одного письма.
Я представляю себе папу и дядю Колю, как они сидят дома и ждут от нас писем, а письма не идут и не идут, хотя я сам писал папе много писем, но после мамы, и тетя Лена писала дяде Коле, и Сережка с Тамаркой тоже. Мне жалко своего папу, но я креплюсь и не плачу. И Сережка тоже не плачет, а Тамарка плачет. Хотя и большая.
А мама сказала:
– Блокада… – Подумала еще и опять сказала: – А Кузьма был в соседнем колхозе… – затем, вздохнув: – и слыхал по радио, что в Ленинграде хлеб выдают по карточкам. А у Васи чахотка…
– Ну и что, что блокада? – сказала тетя Лена. – Я сама видела еще в начале августа, как на станцию из Москвы пришел целый поезд с пшеницей. Я как раз сестру провожала в деревню. А там еще другие поезда стояли. Вот.
И мама с тетей Леной еще долго говорили о таинственной блокаде, но тихо, чтобы дети не слышали и не расстраивались. А я слышал и не расстроился. И вечером, встретив дядю Кузьму, спросил у него, что такое блокада.
– Блокада? – переспросил дядя Кузьма и почесал свою бороду. – Блокада, паря, это такая штука, как вот… как, скажем, скотный двор: двери заперты, на волю выйти нельзя, сена мало, а к тому, что на полях в зародах, не подойдешь: волки. И начинает скотина с голоду дохнуть.
– А мой папа не сдохнет?
– Папа-то? Папа твой нет, не сдохнет… То есть, не помрет. Потому что… – Дядя Кузьма опять почесал свою бороду, посмотрел за речку, предложил: – А давай, паря, сделаю-ка я тебе коньки. А то зима вот-вот начнется, а ты без коньков. Да и без лыж… Надо будет и лыжи тебе соорудить.
– И Сереже?
– И Сереже.
А тетя Груня, которая накладывала сено в ясли, посмотрела на меня и сказала:
– Бедные сиротинки.
– Будет тебе причитать! – почему-то рассердился дядя Кузьма. – Накаркаешь.
Я стоял посреди двора и смотрел, как дядя Кузьма выкидывает навоз из коровника, где живет корова Зорька, четыре овцы, куры, гуси и хрюшка Марья со своими хрюшатами. От дяди Кузьмы валит пар, от навоза тоже, под ногами у него хрустит тонкий ледок: к утру уже подмораживает. Стоять на одном месте и смотреть холодно, хотя на мне две пары чулок и двое штанов, пальто, валенки, мамин платок, а поверх всего шерстяная шаль. Деревенские мальчишки одеваются совсем не так, как мы, эва-куи-рован-ные, – слово это такое длинное, что я не могу произнести его все сразу. На деревенских сапоги, длинные пальто, подпоясанные веревочками, и чудные шапки. Как у дяди Кузьмы, который ушел, закончив кидать навоз. И тетя Груня закрыла скотный двор и тоже ушла. Было слышно, как за стеной жует корова Зорька, чавкает хрюшка и повизгивают хрюшата.
И я тоже пошел домой: и потому что холодно, и потому что папа сидит в блокаде и не может никуда пойти, потому что волки. Но только там не волки, а гитлеры, которые никого не выпускают, бомбят из самолетов и стреляют из пушек. Мне ужасно жалко и папу, и овец, из которых делают рукавицы, и кур, из которых варят куриный суп, и маму, и себя, потому что мы – эвакуированные.
В сенях я уткнулся в густую шерсть дядикузиной собаки по прозвищу Урал и долго плакал, а Урал лизал мое лицо и жалел меня, потому что я был теперь бедной сиротинкой.
Глава 3
Мария открыла глаза и увидела серую громадину печи, а рядом с ней что-то смутно темное, точно висящее в воздухе. И хотя она знала, что это деревянная кровать, на которой спит Ленка Землякова, ей показалось странным, что она все это видит, потому что вечером, когда погасили керосиновую лампу, все сразу же провалилось в черноту, и лишь окна серыми пятнами пялились из этой черноты, ничего не освещая. И за окном была такая же темнота. А уж в Ленинграде – так и подавно: блокада.
Мария слегка повернула голову и посмотрела на окна – из них сочился слабый свет. Он будто вытащил из тьмы и печь, и кровать возле нее, и все остальное. Значит, пора вставать. А вставать ужасно не хочется: кажется, что она только что легла и почти не спала – и вот уже утро.
Мария сползла с кровати и, шлепая босыми ногами по половицам, подошла к окну и раздвинула занавески: за окном лежал снег. «Вот почему так светло, – подумала Мария. И спросила у себя самой: – А сколько же сейчас времени?» Чтобы ответить на этот вопрос, она вытащила из модной когда-то дамской сумочки, выделанной под крокодиловую кожу, мужнины карманные часы, щелкнула крышкой и, вернувшись к окну, вгляделась в циферблат: часы показывали начало пятого. Еще рано. Еще час можно поспать, а уж потом вставать, готовить завтрак.
Убирая часы в сумку, Мария ощутила пальцами гравированную надпись на крышке и вспомнила, как гордился ее Василий и этими часами, и этой надписью: «Лучшему рационализатору Металлического завода имени товарища Сталина, победителю в социалистическом соревновании за досрочное выполнение личного промфинплана». И подписи: «Дирекция, партком, профком и комитет ВЛКСМ». И дата: «7 ноября 1940 г.» Он отдал ей часы на вокзале, обнимая ее, может быть, в последний раз. «Если сможешь, сохрани. Если станет трудно, продай», – вот что сказал он ей на прощанье.
Мария, слизнув слезу, докатившуюся до краешка губ, пошлепала назад, в постель. Забравшись под лоскутное одеяло и наброшенную сверху баранью доху, проверила, не оголилась ли где Людмилка, подоткнула под нее одеяло, свернулась в комочек и попыталась заснуть. Однако сон не шел. И она в который уж раз пожалела, что согласилась ехать в деревню, поддавшись уговорам Ленки Земляковой, уверенной, что в деревне выжить проще, чем в городе. Особенно с детьми. И вот они в деревне, живут вшестером в просторной горнице, русская печь, большой стол из сосновых досок, лавки, две широкие деревянные кровати, соломенные матрасы, женщины спят на кроватях, дети на печи и полатях, работы нет, продукты поначалу выменивали, в основном на иголки и нитки, а потом, когда за них стали давать все меньше и меньше, менять перестали… Хорошо еще – хозяева, к которым их поселили, оказались людьми совестливыми и понятливыми: и картошки выделили им из своих запасов, и муки, и молока детям дают от своей коровы, но много дать они не могут, потому что надо сдавать налоги и за корову, и за свиней, и за овец – за все, за все. Как и на ее, Марииной, родине в Мышлятино. Да и стыдно брать за так, ничего не давая взамен. Делила Мария на четверых детей литр молока, каравай хлеба да несколько вареных картофелин. Правда, через неделю колхоз стал выдавать на детей кое-какие продукты, но ими до сыта все равно не накормишь, а так – лишь бы с голоду не помереть. Да и откуда колхозу взять? – почти все отдает государству, чтобы сыта была хотя бы Красная армия, потому что голодная армия воевать не сможет.
Ленка Землякова – она настырная, злая, языкастая – добилась, чтобы ее устроили на скотный двор: там трудодни начисляют, там молоком можно разжиться, иногда зерна прихватить, коровам да свиньям положенное. И местные, с которыми работаешь, относятся к тебе лучше, чем к остальным приезжим нахлебникам, помогают: то того принесут, то этого – все-таки на своей земле живут, со своей земли кормятся. Но и это лишь потому, что мужиков, работавших на скотном дворе, забрали в армию, а Ленка делает мужскую работу.
А Марию не взяли никуда: потому что дети, считай – четверо, да и полевой сезон закончился – до весны. Вот и живет Мария как бы на подаянии хозяев, колхоза да Ленки, хотя и у Марии забот полон рот: завтрак приготовить для двух семей, проводить Ленку на работу, потом ее дочь Тамару в школу, потом встретить из школы, накормить оба выводка, ту же Ленку накормить, потому что придет домой поздно, без рук, без ног, поест и свалится пластом, чтобы ни свет ни заря снова идти на скотный двор, чистить, доить, кормить колхозную скотину.
Высохла Ленка за месяц на такой работе, не узнает ее Николай, когда вернется. Да и Мария не раздобрела на здешних харчах, и одна надежда у них – на будущее лето: обещают выделить земли под огород, предоставить работу в поле. Можно будет козу приобрести, поросенка. Говорят, желудями выкармливать можно. А там пойдут ягоды, грибы, орехи…
Спит на своей кровати Ленка Землякова. Слышно, как стонет она во сне и всхлипывает. Может, сон плохой привиделся, может оттого, что руки-ноги болят от надсадной работы. Спят дети, но спят неслышно, как птицы. Лишь сверчок пиликает в подпечье, навевая тягучую дрему, да шуршат в щелях тараканы. И в ленинградской их квартире тоже жил сверчок, жил на кухне и пиликал эту же самую бесконечную песню. Сара много раз пыталась его поймать, травила чем-то, а он и не ловился, и не травился: видать, жил внутри стены, куда даже кошка Сарина пролезть не могла, хотя подолгу сидела в углу под рукомойником, вслушиваясь в пиликанье и дожидаясь, когда музыкант выберется наружу. Все жильцы второго этажа болели за сверчка, ненавидели кошку и не понимали, за что такая нелюбовь к безобидной скотине.
И кажется Марии, что прошлая жизнь ее, несмотря ни на что, была раем и не вернется уже никогда. Сквозь обволакивающую дрему память ведет ее в это недавнее и такое счастливое прошлое, в тихий ленинградский переулок, под шепот старых сосен, – туда, где родились ее дети, где семь лет она прожила вместе с Василием в довольстве и счастье. Потому-то и вспоминалось только одно хорошее и ничего плохого. А потом память сама по себе начинает попятное движение, и далее одно и то же: Ленинградский вокзал, тревожные гудки паровозов, редкие огни, дождь, ее Василий стоит одиноко на пустынной платформе и тянет руки к ней, к Марии, а поезд уносит ее все дальше от него, все дальше… И вдруг – грохот, толчки, беспрерывный рев паровоза, точно раненного зверя, глухие удары, крики женщин, плач детей, топот ног… И они с Земляковой метнулись было вслед за всеми вон из вагона, да куда же бежать-то с двумя-то детьми на одну женскую душу?
И тут Землякова:
– Не пойдем никуда! Помирать, так все одно где!
А дети-то – никто из них и не пискнул, даже крикливая Людмилка, точно понимали что-то, чувствовали.
Да и как не понимать, как не почувствовать! И жуткую темноту бомбоубежища изведали, и близкий стук зениток, и буханье тяжелых бомб, от которых сыпется сверху песок, закладывает уши, и долго звенит в них какой-то очень противный, видать, нерусский сверчок.
Господи, чего только не испытали ее дети за свою коротенькую жизнь! И что еще придется испытать!
На скотном дворе, примыкающем к избе, заорал петух. Замычала корова. Послышался голос хозяйки, и Мария, окончательно проснувшись, соскользнула с кровати и, подойдя к кровати, на которой спала Ленка, подергала ее за плечо.
– Вставай, Лен! Вставай!
– Что, пора уже? – как обычно спрашивает та, тянется под одеялом, затем резко спускает ноги, сует их в шлепанцы и бежит в сени, где стоит отхожее ведро.
Мария наливает воду в умывальник, споласкивает лицо, вытирает его вафельным полотенцем, затем идет к печи, открывает заслонку и достает из печи чугунок с кашей из размолотой пшеницы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?