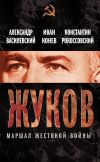Текст книги "Жернова. 1918-1953. Книга девятая. В шаге от пропасти"
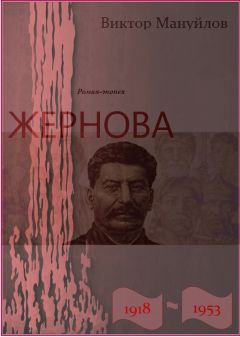
Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава 22
Сильнейший взрыв раздался совсем рядом. Дрогнул пол под ногами, посыпались оконные стекла, порывом воздуха, пропитанного прогорклым запахом сгоревшей взрывчатки, отбросило внутрь кабинета тяжелые гардины. Вихрь пронесся по кабинету, сбрасывая со стола бумаги, распахнул двери. Затем потух свет.
Похоже, бомба упала на Соборной площади Кремля.
Сталин встал, затем сел, дрожащими пальцами нашарил на столе трубку, чиркнул спичкой, стал водить ею над трубкой, плямкая губами, прислушиваясь к грохоту зениток, следя за тем, как по гардинам скользят отблески лучей прожекторов. Еще где-то рвануло, – где-то за Москвой-рекой, – но далеко и глухо. Послышался подвывающий вой удаляющегося самолета.
В кабинет вбежали двое из охраны, остановились в дверях, светя фонариками.
Вслед за ними ворвался Поскребышев.
– Товарищ Сталин! – воскликнул он, и Сталин услыхал в его голосе неподдельный ужас перед случившемся. А еще более перед тем, что могло и может случиться.
– Ну что, товарищ Сталин? – переспросил Сталин сварливо. – Немцы взяли Москву? Высадили десант на Красной площади?
– Никак нет. Но вам срочно надо спуститься в бомбоубежище, товарищ Сталин, – пришел в себя Поскребышев. И добавил: – Вы не имеете права рисковать. Вы… Без вас все рухнет. Я же вам говорил, что здесь оставаться опасно.
«Все, похоже, и так уже рушится, – выбрал Сталин самое существенное из всего, что сказал Поскребышев. Он медленно выбрался из-за стола, направился к двери. – Пожалуй, надо внять настойчивым призывам Берии и остальных членов Политбюро, требующих, чтобы товарищ Сталин покинул Москву, – продолжал Сталин рассуждать сам с собой, по привычке обращаясь к себе так же, как к нему самому обращаются другие. – Да и то сказать: правительство в Куйбышеве, Генштаб в Арзамасе… Если немцы нащупали Кремль, они его в покое не оставят…»
Сталин не успел додумать мысль до конца, как неподалеку, но все-таки за стенами Кремля, словно подтверждая его мысль, вновь загрохотали взрывы бомб, и в груди у него похолодело. Однако он продолжал двигаться так же неторопливо, как обычно, будто не было взрывов и под ногами не хрустели осколки стекла.
– Ну чего встали? Ведите в бомбоубежище, – произнес Сталин, направляясь к двери мимо расступившихся офицеров охраны и тяжело дышащего Поскребышева. Ущипнув его за бок, спросил, хохотнув: – Что, Поскребыш, страшно?
– Страшно, товарищ Сталин, – признался Поскребышев. И тут же поправился: – Но не за себя, а за вас.
– Ну-ну… – усмехнулся Сталин. И тут же приказал: – Соединись с Жюковым… Нет, сперва с полковником Сбытовым. Узнай у него, почему наше ПВО допускает такие безобразия. – И пошел шаркающей походкой вон из кабинета.
Они спустились, не покидая Кремля, по эскалатору глубоко вниз, затем вышли на пустынную, если не считать охраны, платформу, оформленную без всяких изысков, и сели в единственный выгон, обычный вагон метро, к которому была прицеплена мотодрезина. Проехав не слишком долго и не слишком быстро, вагон остановился. Все вышли на такой же железобетонный перрон, освещенный скупым светом немногих ламп. Далее была толстая стальная дверь с рулевым колесом. Преодолев высокий порожек, вступили на красную ковровую дорожку, и у Сталина возникло ощущение, что он, Сталин, миновав эту дверь, опять оказался в Кремле: панельные стены, дубовые филенчатые двери, далее «предбанник» со стульями вдоль стен и столом секретаря, комната охраны, еще двери и… и кабинет, знакомый до мельчайших деталей. Даже гардины такие же на, скорее всего, не существующих окнах, книжные шкафы с малиновыми томиками Ленина, большая карта СССР, стол для заседаний и рабочий стол товарища Сталина. Разве что помещение несколько меньше, но разница между тем, что наверху, и этим почти не заметна. Если бы не чувство унижения, испытываемое Сталиным при спуске в свой подземный кабинет.
Он прошел к столу, сел, положил руки на зеленое сукно, спросил, ни на кого не глядя:
– Так что полковник Сбытов?
– Уверяет, что прорваться к Москве удалось всего трем-четырем самолетам, – ответил Поскребышев, приблизившись к столу. – Все остальные сбиты или обращены в бегство на подходе. Еще сказал, что один из наших летчиков, совсем молодой лейтенант, таранил немецкий бомбардировщик. Оба самолета упали за пределами Москвы. Нашего пилота пока не обнаружили.
– А что Жюков?
– Жуков ждет у телефона, товарищ Сталин.
Сталин взял трубку, поднес к уху, произнес:
– Здравствуйте, товарищ Жюков.
– Здравия желаю, товарищ Сталин, – тут же откликнулась трубка голосом командующего Западным фронтом.
– Как дела на фронте?
– Немцы продолжают жать, но исключительно вдоль дорог. Их продвижение вперед замедлилось в несколько раз… – не более полутора-двух километров в день. Кое-где они встали в ожидании морозов…
– Как вы думаете, товарищ Жюков, – перебил генерала Сталин, – сможем мы удержать Москву? Вопрос стоит об эвакуации гражданского населения и других мероприятиях. Говорите прямо все, что вы думаете.
– Я думаю, товарищ Сталин, что Москву мы удержим, если сумеем создать соответствующие резервы, о количестве и необходимости которых я вам докладывал. Дивизии народного ополчения, которыми мы сегодня затыкаем дыры, решить эту задачу не в состоянии. Хотя дерутся они самоотверженно.
– Я думаю, товарищ Жюков, что резервы в ближайшее время у нас появятся. Но на это надо время. Есть у нас такое время?
– Я думаю, что есть, товарищ Сталин. Но не слишком много.
– Хорошо, что вы так уверены в своих прогнозах. Желаю вам успехов.
– Благодарю, товарищ Сталин.
Сталин положил трубку, глянул на Поскребышева. Затем спросил:
– Кому я назначал?
– Товарищу Берии. Он ждет.
– Пусть войдет.
Берия вошел, быстро приблизился, остановился напротив в ожидании.
– Что у тебя? – спросил Сталин.
– Немцы выбросили десант на Воробьевых горах. Десант этот уже почти уничтожен войсками НКВД…
– Большой десант?
– Человек пятьсот. Вооружены ручными пулеметами…
– Все?
– Точно не знаю, но, как мне доложили, огонь с их стороны очень сильный.
– А ты думал, они с рогатками высадятся?
– Я докладываю первые данные, полученные с места сражения.
– Так уж и сражения, – усмехнулся Сталин. Затем, указав на кресло, предложил: – Садись, в ногах правды нет. Что в городе?
– В городе паника, – ответил Берия, усаживаясь в кресло. – Народ бежит к вокзалам в надежде уехать. Машины, подводы – все это движется по Горьковскому и Ярославскому шоссе…
– Машины и подводы задерживать и возвращать в город, – жестко произнес Сталин. – У нас на передовую не на чем подвозить боеприпасы и войска. Уходить пешком и уезжать на поездах не препятствовать. Пусть едут и уходят. Меньше паникеров останется в городе. Меньше людей придется кормить. Что еще?
– На Курском вокзале стоит поезд для членов Политбюро и лично для вас, товарищ Сталин… Нам кажется, что вам надо срочно покинуть Москву. Иначе будет поздно. В Куйбышеве все готово для работы.
– Поезд пусть пока постоит. А ты займись вплотную наведением порядка в городе. Город объявить на военном положении. Ввести комендантский час. Всех трудоспособных – на строительство баррикад. Выяснить, какие заводы и что могут выпускать для фронта. Всех оставшихся в городе рабочих и специалистов взять на учет. Иметь в резерве поезда для эвакуации тех, кто будет полезен в тылу. Выяснить, сколько и какого имеется в городе продовольствия. Все до зернышка взять на контроль. Головой отвечаешь. И последнее. Выделить надежных людей для подпольной работы на случай… сам знаешь, на какой случай. Все. Иди! Работай!
Заглянул Поскребышев, спросил:
– Товарищ Сталин, вы хотели знать, что пишут за рубежом о нашем положении…
– Давай, только самое существенное, – произнес Сталин, набивая табаком трубку.
Поскребышев подошел, стал читать:
– Немецкое радио передало, что русские войска, окруженные западнее Вязьмы, полностью уничтожены, что остались лишь разрозненные группы солдат, которые не представляют никакой угрозы для тылов германской армии, что количество военнослужащих, взятых в плен, превышает 500 тысяч. Геббельс провозгласил, что с Советским Союзом в военном отношении покончено раз и навсегда. В газетах пишут, что Красная армия стерта с лица земли. В американских газетах предполагают, что Москва падет не позже ноября, и поэтому нет смысла посылать в Россию военную помощь.
– Ладно, хватит. Соедини меня с Шапошниковым… Что у нас под Вязьмой, Борис Михайлович? – спросил Сталин, едва на другом конце трубки прозвучал знакомый голос начальника Генштаба.
– Плохо, товарищ Сталин. Никакой связи с окруженными войсками нет. Южнее и севернее Вязьмы прорываются отдельные полки и дивизии, но в количественном отношении они зачастую не дотягивают до батальона. С тяжелым оружием удается вырваться немногим. Мы собираем эти разрозненные группы, оказываем им всевозможную помощь и направляем на Можайскую линию обороны. Это пока все, товарищ Сталин.
– Я надеюсь, что такой катастрофы Генштаб и командование фронтами больше не допустят, – проворчал Сталин и положил трубку.
Выйдя из-за стола, Сталин несколько минут ходил по кабинету от стола к двери и обратно. Никто не звонил, никто его не беспокоил. Все занимались своим делом, самому их беспокоить звонками еще рано. Так что же делать? Уезжать? Бомба, упавшая на Кремль, десант на Воробьевых горах, отсутствие необходимого количества войск для обороны Москвы – все это очень серьезно. Но не менее серьезны сведения о том, что Япония не собирается нападать на Советский Союз. Пока не собирается. Следовательно, можно начать переброску нескольких армий с Дальнего Востока. Плюс армии, формируемые за Волгой. Но самое, пожалуй, главное – уверенность Жукова, что Москву можно удержать. А Жуков – не Еременко, зря словами пока не бросался. К тому же Сталин в Москве – это для армии и для страны тоже кое-что значит. Нет, покидать Москву в данной обстановке нельзя. А там будет видно.
Глава 23
Алексей Петрович Задонов ехал в сторону Волоколамска. У него было редакционное задание написать очерк или рассказ о командире одного из полков, который, атаковав какую-то небольшую станцию, захватил ее, был отрезан от своей дивизии, четыре дня дрался в окружении, вырвался из него, сохранив знамя.
Информация об этом командире полка поступила в редакцию «Правды» из наградного отдела Президиума Верховного Совета СССР, куда командование Западным фронтом послало представление о присвоении комполка звания Героя Советского Союза. Главный редактор газеты Поспелов отыскал Задонова через политуправление фронта и по телефону дал ему это задание, подчеркнув, что действия полка и его командира являются тем примером, который так необходим сегодня Красной армии для успешного сопротивления врагу.
Задонов в это время сидел в Можайске, томился в ожидании, когда починят его машину, столкнувшуюся с полуторкой на скользкой от грязи дороге. Слава богу, ни он, ни его шофер, сержант Чертков, не пострадали, но машину помяло и что-то такое стряслось с мотором. Чертков машину чинит сам в автодорожной мастерской, объяснив Алексею Петровичу, что сам – это надежнее и быстрее.
Выехали только на третий день.
Дорога, чем дальше, тем хуже и хуже, точно по ней прошелся гигантским плугом пьяный пахарь, которому не было жаль ни коня, ни себя, ни, тем более, дороги. За Можайском, где тысячи горожан строили полосу укреплений, все чаще путь преграждали воронки от бомб, которые никто не засыпал: то ли считали ненужным, то ли некому было это делать. На дороге, а больше по обочинам, то грудой, то в одиночку, попадались разбитые телеги, трупы лошадей, над которыми галдели стаи ворон, перевернутые, сгоревшие, разграбленные остовы грузовых и легковых автомобилей, иногда танки, броневики и пушки, чаще всего тоже разобранные на запчасти хозяйственными шоферами и прочим военным и невоенным людом. В стороне от дороги виднелись иногда останки самолетов, но чьи эти самолеты, как они там очутились, Алексею Петровичу разобрать было трудно. Да и не очень-то хотелось: за три минувших месяца, что он покинул Москву, то приближаясь к фронту вплотную, то удаляясь от него, он насмотрелся всякого, ко всему привык и уже ничто не вызывало у него того болезненно острого любопытства, которое толкало его поначалу то в одну, то в другую сторону, где происходило что-то значительное, не давая засиживаться на одном месте. Теперь, наоборот, он не испытывал особого желания куда-то ехать и что-то искать. В сущности, удовлетворять потребности редакции в «жареных» материалах можно и никуда не ездя, сидя при штабе фронта: и общая обстановка виднее, и люди с передовой сюда заглядывают частенько, и впечатлений – хоть отбавляй: то бомбят, то где-то высадились немецкие парашютисты, то поймали шпионов или диверсантов, то на каком-то участке фронта вырвались из окружения какие-то части. И все-таки, когда надо ехать и нельзя отвертеться, Алексей Петрович легко покидал насиженное место и пускался в путь, получая удовольствие и от самой дороги, и от возможности встречи с чем-то неожиданным и небывалым.
Дорога практически пустынна. Разве что промелькнет мимо встречная одинокая машина или подвода, и снова никого и ничего. Это казалось странным, если учесть, что немцы движутся к Москве и кто-то должен их в нее не пустить. Если эти кто-то находятся впереди, то должны существовать тыловые службы, должно что-то подпирать передовые части – не женщины же и подростки, роющие окопы и противотанковые рвы на подступах к Можайску.
Моросил дождь, размывая грязь, занесенную на асфальт с обочин и грунтовых дорог. Пелена тумана застилала унылые поля, черные деревеньки и побуревшие леса. Над всем этим низко висело серое небо и сочилось, как мокрая тряпка, кинутая на забор для просушки. Грачи и вороны сидели, нахохлившись, на проводах, словно живые ноты на нотных линейках, срывались с них при приближении машины, и ноты эти беззвучно относило в поля, где не виднелось ни одного работающего человека. Казалось, что все попряталось куда-то в ожидании хорошей погоды и, как только выглянет солнце, тут же всё и вывалится из лесов и болот, запрудит дорогу и двинется… конечно же, на запад, потому что рано или поздно должно возникнуть это движение, не может не возникнуть, не имеет права. Именно по этой дороге, или почти по этой, двигалась, покинув Москву, двунадесятиязычная армия Наполеона, которую русская армия заставила повернуть от Малоярославца на старую Смоленскую дорогу… И вот опять по этим же дорогам идут новые завоеватели, – и опять почти вся Европа, – и не может быть, чтобы для них не повторилась старая история. Не может этого быть. Не должно.
Эта странная и пока еще ничем не подкрепленная уверенность жила в Алексее Петровиче, в Черткове, припавшему к баранке, в тысячах других людей, жила вопреки всему, что видели глаза, слышали уши и что происходило на протяжении огромного фронта, почти безостановочно откатывающегося на восток, оставляя за собой города и села, заводы и фабрики, окруженные и гибнущие армии, беззащитное гражданское население. А ведь немцы гибли тоже, горели их танки и самолеты, но на смену выходили и выползали новые, и казалось, что этот поток неисчерпаем. И все-таки вера, что все это вот-вот должно обратиться вспять, жила вопреки всему, и с каждым днем укреплялась.
– Эдак едем-едем, все никого и никого. Так недолго и к фрицам в лапы угодить, товарищ майор, – произнес Чертков, объезжая очередную воронку.
– Ничего, тезка, лес рядом, опыт шатания по лесам у нас имеется, бог даст, не пропадем, – храбрился Алексей Петрович, хотя на душе у него тоже было смутно и тревожно. Не исключено, что немцы, прорвавшись севернее и южнее Вязьмы, движутся на восток как раз по этой дороге, в то время как он, Задонов, едет на запад, то есть в пасть к самому черту. И чем дальше он забирается в эту пасть, тем труднее будет из нее выбраться. Да и повезет ли ему во второй раз – очень даже сомнительно. Лучше всего было бы остаться при штабе фронта. Но и оставаться было никак нельзя.
– Оно, конечно, так, а только на дворе не лето, лягушек – и тех нету, – отвлек его от невеселых размышлений голос Черткова.
– Так ведь и комаров со слепнями тоже нету, – усмехнулся Алексей Петрович и продолжил в том же духе: – Стало быть, если мы не едим, то и нас не едят. В природе пустоты не бывает: одного нет, есть другое, другое исчезло, появилось третье.
– Снег, например, или морозы, – подхватил в том же тоне Чертков. – Помнится, не то в тридцать первом, не то раньше, я еще в армии не служил, зима наступила в начале октября. Картошка в полях померзла: убрать не успели.
– Может, она для того и наступила, чтобы наказать нерадивых. Это ж надо – до октября с картошкой не управиться, – поддел самоуверенного Черткова Алексей Петрович. – Не померзла бы, так сгнила бы от дождей.
– Так-то оно так, – не сдавался Чертков, – а только в колхозе людей мало, не успевали со всем управляться, а планы спускали большие. Я в эмтээсе работал: вспахать, посеять, пробороновать – это мы успевали. Если погода позволяла. А вот убрать… Плугом картошку выворотишь наружу, а собирать да в мешки ссыпать – это руками. И хлеб – его скосили, свезли на ток, знай себе молоти. А кому молотить? Опять же колхознику. А картошка или там свекла ждут в поле, пока рабочие руки освободятся. А еще животина всякая, ее тоже надо и покормить, и обиходить, и подоить, то да се. А из райкома партии: давай и давай! У нас после этого в районе ни одного председателя колхоза не осталось: всех пересажали. И секретаря райкома вместе с ними. Сами знаете, как оно делалось. Писали, небось…
– Писал, – согласился Алексей Петрович. – Только писал я о тех колхозах, которые успевали все делать в срок. Положительный, так сказать, пример, на котором можно учиться. А чему учиться у тех, кто ничего не успевает? Нечему. Вот и сейчас мы с тобой едем за положительным примером: и фрицев побили, и сами живы остались.
– Не все живы остались: так не бывает. А тому, который погиб, или кому ногу или руку оторвало, ему все равно: двое их на весь полк осталось, или тысяча.
– Ну, не скажи, Алексей Ермолаевич. Вовсе не все равно, один ты из окружения вырвался, или с товарищами.
– Это я понимаю, товарищ майор. Я про то говорю, когда ты, скажем, покалечен, а вокруг тебя все здоровые, и ты, небось, думаешь: а лучше бы меня убило, чтоб ничего не видеть и не слышать. Я про то, как человек должен себя при виде всего прочего самочувствовать… – Чертков помолчал немного, мучительно морща лоб, затем пожаловался: – Не умею я объяснить, как оно должно происходить внутри человеческой души: образования маловато, всего-то четыре класса. А вот как подумаешь, что это тебя самого коснулось бы, так жуть берет и всякие мысли несуразные в голове толкутся, как мошкара перед дождем. И почему, спрошу я вас, товарищ майор, человек при виде всех этих ужасов с ума не сходит, почему он к ним привыкает и на чужую смерть смотрит, как я не знаю на что? Будто на букашку какую. Так ведь и букашку иную жалко становится, когда ненароком на нее наступишь. Я, бывалоча, иду по лесу или по полю, и все под ноги смотрю, чтобы не задавить какую божью тварь: жалко мне их всех, которые ползают по земле и которых все давят без счета, не глядя под ноги.
– Ты что же, Алексей, в бога веруешь?
– Да как вам сказать, товарищ майор… – замялся Чертков. – Бабка у меня и мать – верующие. И дед с отцом тоже, и все остальные, кто родился еще при старом режиме. А в школе учителя говорили: нет бога и не было, все это выдумки темных людей. Оттого у меня в душе хотя и произошла революция, но не до самого конца произошла, а как бы наполовину: может, и нет бога-то, а может, и есть – никто этого не знает. А только скажу вам по совести, когда шли из окружения, частенько я, бывалоча, про себя прочитаю молитву какую, чтоб, значит, помиловал и сохранил. Ну и… пока бог милует. А вы не верите? – спросил Чертков у Задонова и быстро глянул в его сторону с детским любопытством.
И почему-то Алексею Петровичу не захотелось разочаровывать этого большого и наивного ребенка. И он, закурив, пожал плечами и произнес:
– Да вот так же, как и у тебя: пока все идет нормально – вроде о боге и не помнишь, а чуть припечет, так спаси и сохрани. Я ведь тоже из старого режима вышел. Разве что читал побольше твоих родителей всяких умных, как мне казалось в ту пору, книжек. Но ни в одной книжке не нашел, что лучше для человека – верить или не верить? Никто не знает. Вопрос не в том, есть бог или нет, а в том, нужен он для людей или не нужен. И что для них вера – самообман, заложенный природой, или способ объяснить свое существование?
– Я так думаю, что бог, однако, нужен, товарищ майор. Для простого человека очень даже нужен. Для простого человека лучше, если верить, – убежденно заключил Чертков. – Потому что простой человек на мир смотрит без всяких там философий. Что видит, то и видит, и все ему понятно: и всякое дерево, и травинка, и живое существо. А с другой стороны посмотреть – всё есть тайна. Это вы правду сказали. И оттого, что оно тайна, в тебе душа поднимается от удивления и радости. Я про себя скажу: когда думаю, что кто-то там, наверху или еще где, имеется и обо мне заботится, мне легче становится, потому что ты как бы не одинок на этом свете. И на том не останешься одиноким. Уж не знаю, как это объяснить, – сконфузился Чертков и, остановив машину, принялся сворачивать козью ножку: от папирос Алексея Петровича он отказался категорически раз и навсегда, разве что если совсем курить будет нечего…
– Бог – это хорошо, но есть и начальство, которое заботится о нас, грешных, – усмехнулся Алексей Петрович.
– Начальство – оно всякое бывает, – заметил Чертков. – Я вот от самой, почитай, границы отступаю, всякого начальства повидал. Иной только о себе и думает, и рядовой для него – не больше гривенника. Иди и помри. Оно понятно – насчет помереть: война. Так ведь помирать надо с толком, с пользой то есть. Вот майор Матов… Помните?
– Помню.
– Вот это был геройский командир: обо всех у него душа болела.
– Почему – был? Он и сейчас где-нибудь есть… В газете писали, что награжден орденом Боевого Красного Знамени…
– Ему б Героя надо дать, товарищ майор, – проворчал Чертков, включил скорость и повел машину дальше.
Возле разбитого бомбой моста через какую-то небольшую речушку возились саперы. С той и с этой стороны скопилось с десяток машин и подвод. Чуть в стороне от легковой машины ходил длинноногий капитан с полевой сумкой на боку и наганом в новенькой кобуре. Сутулость и вывороченные по сторонам ступни изобличали в нем сугубо гражданского человека, лишь недавно надевшего военную форму.
Что-то знакомое показалось Алексею Петровичу в этом нескладном и долгоногом капитане, где-то они с ним встречались. И что-то от этой встречи осталось неясного и даже тревожного. Он покопался в своей памяти и вытащил из нее осень тридцать девятого, военные курсы для писателей и журналистов: Капустанников! Тогда – начинающий писатель. Роман на производственную тему: что-то о сапожниках. Но главное не это. Главное – он, Капустанников, на курсах будто бы выявил заговор против советской власти и очень хотел привлечь к раскрытию этого заговора Алексея Петровича: и не уверен в себе был, и на авторитет известного писателя рассчитывал. Еле-еле удалось от него отбояриться, а то бы и привлек: столько в нем было нерастраченной жажды борьбы со всякими заговорщиками и вредителями. Интересно, утолил он свою жажду или она все еще томит его деятельную натуру?
Вспомнил Алексей Петрович и о том, что Капустанников одно время посещал в Домлите секцию современного романа, которой сам же Алексей Петрович и руководил, и почти всегда спал во время обсуждений. При этом спал, сидя вполне нормально, с открытыми глазами и даже не роняя головы, только глаза были пустыми, будто ушла из Капустанникова жизнь и шастает где-то поблизости, заглядывая в чужие души. Его даже будить было страшновато: вдруг вообще не проснется, не оживет, душа не успеет вернуться в его тело, так и останется оно сидеть, тараща в пустоту пустые же глаза.
Алексей Петрович иногда остановит бег своей речи, точно загипнотизированный пустым взглядом спящего человека, и все тоже затихнут и повернутся к Капустанникову – и тот сразу же очнется, выдавит на длинном лице виноватую улыбку и скажет что-нибудь вроде того, что да-да, я тоже так думаю, и писатель был совершенно прав в трактовке данного образа… или что-нибудь в этом роде, но всегда удивительно впопад, будто он и не спал нисколечко.
После окончания военных курсов Капустанников пропал из виду, и Алексей Петрович подумал тогда, что, может статься, разоблачительная деятельность молодого писателя повернулась к нему совсем не тем боком, на какой он рассчитывал. Если он вообще на что-то рассчитывал. Так что лучше быть от этого Капустанникова подальше: тогда не втянул, так теперь втянет – с него станется.
И Алексей Петрович поднял воротник шинели и уткнулся в него носом. И вовремя: Капустанников вдруг оглянулся и уставился на их машину, что-то высчитывая в своем медлительном уме. Алексей Петрович исподлобья следил за ним сквозь бахрому ресниц.
– Может, в объезд? – спросил Чертков. – А то проторчим здесь до кузькиного заговенья.
– Люди ждут, значит, скоро, – проворчал Алексей Петрович, наученный более чем трехмесячным опытом скитания по военным дорогам, и зевнул, показывая, что хочет спать и не расположен к разговорам.
– Что ж, подождем, – тоже ворчливо согласился Чертков. И тоже зевнул, так что Алексей Петрович чуть не прыснул со смеху, уже не впервой отмечая, что Чертков иногда буквально копирует его, Задонова, поведение.
Погибший Кочевников был не таким. Более того, именно Алексею Петровичу приходилось следовать многоопытности первого своего фронтового шофера. А с Чертковым все наоборот: мальчишка. Ну да бог с ним. Пооботрется, заматереет – впереди еще о-е-ей сколько. А так человек он очень старательный, умелый, честный и не глупый.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?