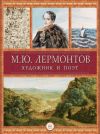Текст книги "Лермонтов и христианство"

Автор книги: Виктор Сиротин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
VI. На поле битвы
О вы, которые в челне зыбучем,
Желая слушать, плыли по волнам
Вослед за кораблём моим певучим,
Поворотите к вашим берегам!
Не доверяйтесь водному простору!
Как бы, отстав, не потеряться вам!
Данте. «Божественная комедия»
1
Как оно обычно бывает, личные переживания и впечатления довлеют не только над разумом, но и над творчеством поэта или художника. У Лермонтова иначе. Исходя или, лучше сказать, отталкиваясь от личного опыта, он ставит его под сомнение, как только осознаёт ограниченность личностного переживания.
Человек Лермонтову всегда был весьма важен: кому как не ему он посвящает всё своё творчество?! Но интерес этот, идя вровень с этическим пониманием «человека» в обществе древними римлянами, неразрывен у поэта с высокой гражданственностью. Однако и здесь интерес, крепко связывая его с Отечеством, простирается много дальше и, главное, – выше. Мысль Лермонтова охватывает пространства, в которых даже и самые глубокие привязанности не имеют самодовлеющего характера.
Вспомним строки из стихотворения «Родина» (1841), в котором поэт говорит о своей «странной» любви к Отчизне. Признаётся в том, что «…тёмной старины заветные преданья // Не шевелят во мне отрадного мечтанья», что, при всём (очевидном для нас) интересе к старине, – он любит «её степей холодное молчанье, / Её лесов безбрежных колыханье, / Разливы рек её, подобные морям». Однако и это богатство не исчерпывает в сознании поэта привязанность к Родине. Видимо, потому, что ширь Отчизны является для него лишь началом, от которого он «уходит» в иной духовный и пространственный масштаб, поскольку испытывал в нём нужду. Потому «говор пьяных мужичков», который по-своему был люб Лермонтову, но который он упоминает не без доли иронии, становится неслышным, когда перед его глазами встают «дрожащие огни печальных деревень». В особенности если учесть своё – личностное — отношение Лермонтова к «огням». Находя отклик в его душе, рефлексируя со звёздами и как будто «перемигиваясь» с мирозданием, огни, зажжённые человеком, являются своего рода отражением или даже соучастниками «говора» небесных светил.
Итак, восприятие человека Лермонтовым носит не столько имманентный, сколько сущностный – всечеловеческий — характер. Однако последнее не означает некую абстракцию. Сущее у Лермонтова, составляя красочную мозаику мира, складывается из своеобразия национальных культур. Этот предмет поэт обсуждал в беседах с московскими славянофилами, в частности, – с Ю. Самариным. О важности национального бытия для Страны и народа в ней напоминает нам и В. Белинский: «Только живя самобытной жизнью, каждый народ может принести долю в сокровищницу человечества». Именно духовное бытие в национальном, в данном случае представленном гением Михаила Лермонтова, придаёт его творчеству культурно-историческое, а значит, всемирное значение. Проявления этой значимости яркими искрами рассыпано во всех его творческих исканиях, но особенно мощно оно заявляет о себе в поэме «Демон». Казалось бы, именно в ней отроческие ещё «искры» протеста обретают ясность и ярко разгораются в «пламя» всепожирающего крайнего индивидуализма. Но это лишь кажимость. Индивидуализм поэта лишён личностных пристрастий. Он последователен и нисколько не противоречит раскрытию темы, указующей на силы «космического» зла и греха в мире. В своей духовной эвольвенте поэт отчуждается от крайностей всего личностного. Соединяя их с «общим» человеческим содержанием, апеллирует к вестнице души человека – совести.
Напомню, к эпохе Лермонтова в высших слоях европейского и русского общества сложился культ по-светски аллегорической «мефистофелианы», которая не имеет очевидной связи с библейским падшим ангелом, восставшим против Бога. Слишком уж тесно связанные с вирусами Просвещения, сыгравшего роль повивальной бабки Великой французской революции, «демоны эпохи» не были тождественны теологическому их определению, как, собственно, и месту их в жизни общества. Отсюда подобная «чайльд-гарольдовскому плащу» декоративная функция «демонического» творчества писателей XVIII – XIX вв., среди которых мы находим Мильтона и Клопштока, Гёте и Байрона, де-Виньи и Гюго и других «носителей демонизма».
Лермонтов, однако же, разобрался с демонами много глубже своих коллег по перу. Его Демон далёк от эффектных сюжетов-страшилок, под зевоту случайных зрителей разыгрываемых на театральных подмостках Европы.
Гордый Сатана Мильтона и философствующий Мефистофель Гёте (между тем испугавшийся пентаграммы Фауста) слишком уж неотрывны от здешнего мира с его длиннохвостыми рогатыми, в шерсти «чертями» и крепдешиновыми «ангелами». «Он выше нас, – говорит о Боге мильтоновский Сатана, – не разумом, но силой, а в остальном мы все равны». Настолько «равны», что у де-Виньи он очеловечивается до «печального, очаровательного юноши». Не то у Лермонтова.
Предчувствуя движение исторических пластов России и Европы, он отходит от вошедшей в традицию умствующей театрализации зла в сторону реального зла, рассредоточенного в мире и обладающего сверхчеловеческой мощью. Даже и соблазнённый «землёй», Демон Лермонтова является частью космического целого. Потому он и во зле подчинён вышним, непререкаемым законам. Не оспаривая их, Лермонтов тем не менее выходит ему навстречу.
При этом поэт лишь оборачивает «европейским плащом» руку, в которой уверенно держит меч. Лермонтов начинает свою поэму тревожно и величественно:
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землёй,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чудный херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый…
И много, много… и всего
Припомнить не имел он силы!
Далее следует прямая характеристика Демона. Не отличаясь от канонической, она в общих чертах знакома нам:
Ничтожной властвуя землёй,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.
Но, пролетая над Землёй, «изгнанник рая», хоть и презирая, не мог быть совершенно чужд сотворённой благодати. Красота Мира такова, что от неё дух захватывает! Лермонтов исподволь подводит нас к тому, что такой мир не мог не задеть в Демоне «забытые» им чувства и ощущения. К слову, и здесь поэт красочно и весьма точно описывает картины, которые можно увидеть лишь сверху:
…Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, – и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонились головой…
И дик и чуден был вокруг
Весь Божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.
Здесь следует дополнение, казалось бы, расставляющее точки над «i» в душе Демона:
…И всё, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.
Но это пока… Летая над Миром, презирая всё и без услады сея зло в нём, Демон разглядел земную, но в совершенстве своём неземную красоту. Первозданность Эдема почудилась Демону в чистом и целомудренном облике девы. «С тех пор как мир лишился рая, / Клянусь, красавица такая / Под солнцем юга не цвела!» – в изумлении восклицает он. И тогда в Духе Зла происходит движение внутренних, дотоле неведомых ему сил и чувств, которые «с первых дней творенья» не рождались в нём.
Перед нами разворачивается трагедия, начало которой восходит к сотворению Мира и человека в нём. Мощь и единовременно очарование тварного мира такова, что могучий Демон, «вспомнив», теперь уже не может и не хочет (!) забыть здешние чудные и неповторимые мгновения, длина которых в первые «дни», наверное, покрывала тысячелетия человеческого времени. В своей поэме Лермонтов как бы обращает ток времени вспять, выявляя существо Дня Творенья в его первозданной красе и совершенствах, которые, однако же, через время покинули человека. Но, как оказалось, и по прошествии тысячелетий в человеке затаённо продолжают храниться начала той чудоносной красоты, которая выступает синонимом Бога. Именно её ценность и благотворную силу впоследствии вновь и вновь пытались открыть те, кому понятно было её внутреннее очарование.
Античные времена донесли её Средним векам, а Данте, пытаясь прочувствовать, воспел её в отвлечённых образах. Однако Божественную суть этой красоты могло отразить лишь безличностное отношение к ней. Потому именно византийская икона, одухотворённая внутренним прочтением образов, анонимная и бестелесная по стилю исполнения, отразила дух её. А русская икона через духовные искания старцев, аскетов и монахов-иконописцев посредством тончайшей расстановки композиционных мотивов, организации светоносного цвета и гармонии образов укрепила содержание её. Но уже мастера Ренессанса, опредметив материальное во внутреннем, гениально воплотив образ в телесную красоту, но развоплотив её в образе, «вернули» её человеку, вновь указав ему на немеркнущий идеал внешнего и внутреннего совершенства. Здесь уместно вспомнить, что утверждение ценности реального человека обозначило себя ещё во фресках Джотто, продолжилось в исканиях Мазаччо и достигло особой высоты в образах Боттичелли. На ценности красоты, лишённой «случайных черт», присущих каждой эпохе, настаивали многие. Говорил о ней и Достоевский. Именно такого рода красота, полагал писатель, посредством заложенной в ней внутренней гармонии способна изменить мир. Лермонтов как будто подтверждает это:
И Демон видел… На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг,
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!
И долго сладостной картиной
Он любовался – и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нём чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своём не мог…
Забыть? – забвенья не дал Бог:
Да он и не взял бы забвенья!..
Образ Демона грандиозен в многообразии и сложности чувств, охвативших его.
Но если с задачей передать словом человеческое в нечеловеческом, вероятно, лучше всех в русской и европейской литературе справился гений Михаила Лермонтова, то равноценно перевести внутренние борения Демона «в краски» смог, наверное, лишь фантастический талант Михаила Врубеля. Русскому художнику более, нежели кому-либо, даровано было умение обращать в «драгоценные камни» самые обыкновенные цвета. Лишь его гений, сопоставимый с лермонтовским, мог передать в живописи и в графических листах непостижимое совершенство Мира, целомудрие княжны и бездонное зло Демона. Как будто следуя теми же «космическими переулками» и вбирая в свои удивительные композиции красоту минералов земли и космоса, печальный и магический гений Врубеля мог отобразить неземную стать Духа Зла.
Доверимся, однако, религиозному сознанию Лермонтова.
Услышав «волшебный голос над собой» (в отличие от Тамары мы знаем, что это был чарующий голос Демона):
Она, вскочив, глядит вокруг…
Невыразимое смятенье
В её груди; печаль, испуг,
Восторга пыл – ничто в сравненье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно новый,
Ей мнилось, всё ещё звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль её он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К её склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на неё смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель…
Её божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик – о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!..
Кто ж это был? Демон?
Да. Но в тот момент это был Демон преображаемый!
Неземная красота беспорочной Тамары как будто озарила «дух изгнанья» нездешним светом первичного ангельского сознания, пробудив в нём воспоминания далёкого, безнадёжного и невозвратно ушедшего прошлого… Но безнадёжного ли? Отвергнутый Всевечным в финальной своёй гордыне, Демон, как представляется, не был отвержен в начальном блеске херувима, поскольку всякое творение – тем более лучшее – содержит в себе отцовский «ген», являющийся органичной частью Сущего. Потому даже и восставший против Бога в принципе не утрачивает способности к внутреннему преображению, а значит, имеет надежду выбелить свою душу до первозданной чистоты её.
Ощущая тревогу от неведомой ей «туманной и немой» силы и прозревая в ней беду для себя, Тамара не в состоянии защититься от неясного пока ещё для неё искуса (как потом выяснится, «духа лукавого») и просит отца отдать её в монастырь.
Следуя за своей героиней, Лермонтов вновь разворачивает перед нами панораму дикой природы Кавказа и следы пребывания человека в ней. «Ряд… крестов печальных / Безмолвных сторожей гробниц» повествует об этом. Однако эти печальные свидетельства жизни теряются в первозданной красоте гор. С лёгкой руки поэта мы различаем величественные «вершины цепи снеговой», а рождённые в их недрах горные ключи весело катят свою прохладу в синеющие дымком просторные долины.
В этом потерянном Эдеме, казалось, могут обитать лишь херувимы да ангелы… Но если нерушимая краса диких ущелий, мира и человека всё ещё свидетельствует о величии и гармонии начального творчества, то красота Демона представляется чудовищной и холодной ввиду её – отстранённой от человека – антисвятой воли и безукоризненности, подчёркнутых ледяным безразличием и бессудной жестокостью.
Между тем, несмотря на внутреннюю ущербность Демона, сила его чар такова, что юную княжну оставляет сон и покой: «Святым захочет ли молиться, – / А сердце молится ему…»
В то же время и Демона как будто жгут «случайно» пробудившиеся в нём, но на поверку чуждые его духу позывы, безусловно, духовного происхождения. Равный своей избраннице по внешней красоте, он несопоставим был с Тамарой в красе внутренней. В Демоне начинает зарождаться гнев и страх… С давних времён вольный, суровый и могучий, он весьма серьёзен в посетивших его мыслях, чувствах и новых ощущениях…
Вернёмся к смятению, на время развеявшему цельность Духа Зла.
2
…Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел,
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Трепещет и душа Демона. Обладая несокрушимой силой, он впервые и со всей очевидностью ощущает свою зависимость от здешней духовной и телесной красоты – земного отпечатка истинно Несокрушимого…
Однако красота не панацея от всех бед! Это мы видим в предощущении Тамарой Демона. Сознавая присутствие чарующей сверхъестественной силы, Тамара откликается на человеческое в ней. По-иному и не могло быть.
Чуждая пороку душа Тамары даже и во сне способна реагировать лишь на тождественное. Сам же Демон испытывает потрясение и растерянность.
Что-то странное, сильное и доселе неведомое осеняет его дух. Всё мрачное и тёмное в Демоне поддаётся прежде несвойственному ему благотворному воздействию…
Казалось, невозможное становится возможным, – несостоявшееся может стать явью…
И Лермонтов, создавая образ Злого Духа словно из неведомых никому космических форм, как будто идёт навстречу нашим догадкам:
…Тоску любви, её волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться…
Его крыло не шевелится!
И, чудо! Из померкших глаз
Слеза тяжёлая катится…
Поныне возле кельи той
Насквозь прожжённый виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..
И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
За предвещаньем следует прозрение…
Последняя строка поэмы знаменует кульминацию столкновения Добра и Зла, как будто предполагающая победу первого… Но этого не происходит. Чёрное не может стать белым! В планы Всеведающего не входило примирение с воплощением лжи и порока. Потому в поэме Лермонтова сомнение в необходимости творить зло, блеснувшее было лучами первоначального света в «душе» носителя Зла, скоро гаснет, ибо соткан тот был из ненависти и ядовитых корней сатанинской гордыни… В этом всё дело! «Умысел жестокий» не мог измениться, а поэтому Зло осталось в силе… Ещё и по той причине, что в силе остаются те противоречия, которые перешли к людям во времена первого предательства заветов Предвечного. И человек, оставшись при своих пороках, до сих пор питает ими Духа Зла. Эта, в пределах свободы воли «диалектика» делает преждевременной помощь тем, кто не особо озабочен ею… Потому Дьявол и остаётся при своей мощи. Вот и здесь появившийся херувим – истинный носитель Божьей воли и власти – пытается оградить невинную душу Тамары от Злоносителя. Но сила Демона – некогда первого среди ангелов и второго после Бога – всё ещё велика. В нём просыпается «старинной ненависти яд», и он, без труда отстранив Ангела, является пробудившейся Тамаре.
К этой встрече мы ещё вернёмся; сейчас же проследим коллизию столкновения противоположных сил.
Нащупывая пути и прослеживая истоки неугасающих пороков, Лермонтов, как уже было отмечено, в образе Тамары противопоставляет Демону Добро. На протяжении всей жизни работая над поэмой (и, что примечательно, оставив неизменными первые две строки), поэт изыскивает возможности смирения Зла посредством Любви и… не находит их. Между тем именно величественный по своему духовно-историческому проникновению поиск, прослеживая диалектику Добра и Зла, привёл к созданию выдающегося произведения. «Очевидно, если бы не смерть, – замечает Д. Андреев в «Розе Мира», – он ещё много раз возвращался бы к этим текстам и в итоге создал бы произведение, в котором от известной нам поэмы осталось бы, может быть, несколько десятков строф». Прерывая мысль Андреева, скажу, что так оно, скорее всего, и было бы. Поскольку в Лермонтове со всей очевидностью заявляло о себе стремительное творческое взросление в совокупности с исключительно редким среди смертных сочетанием могучего духа и великого ума. Если первый помогал ему преодолевать бесконечные пространства закрытых для всех «миров», то второй боролся за своё право «прочесть» и понять почти недоступное уму человека. И Лермонтов, как и те единицы несобытийной истории, в которых таится единоцельный образ и подобие Бога, имел для этого особые основания. Об этом праве – праве Лермонтова – и говорил Д. Андреев: «…дело в том, что Лермонтов был не только великий мистик; это был живущий всею полнотой жизни человек и огромный – один из величайших у нас в XIX веке – ум». Этот, в некотором роде нечеловеческий ум и вёл Лермонтова по только ему одному уготованному пути, который неизбежно должен был закончиться Голгофой поэта… Ибо даже такого масштаба ум не давал Лермонтову привилегии познать Бога. Хотя, заметим для себя, поэт на это всерьёз никогда и не претендовал. Ощущая в себе силы невероятные и не принимая близко к душе церковно-каноническое наставничество, Лермонтов (как, впрочем, Ф. Достоевский, Н. Лесков и ряд других деятелей русской культуры) не терпел чрезмерности официозного «чинопочитания» обеих, по факту, «здешних» властей – синодальной и светской.
Вместе с тем, не оспаривая догмат непознаваемости Всевышнего, Лермонтов не впадает в другую крайность. При действительно имевшем место презрении поэта к «падшему человеку», оно не распространялось на всех людей. Однако в сочинениях литературоведов XIX – начала XIX в. именно «презрение» стало расхожим местом. А ведь Лермонтов нигде не унижает ни духовные качества, ни ум человека, ни его возможности постижения Бога до пределов, за которыми «венец творенья» предстаёт как полное ничтожество. Этого нет в творчестве Лермонтова, не было в его личной (увы, во многих случаях оболганной «обидчивыми» современниками) жизни. Нет этого и в реальности. Поскольку если разделять «богоприятную» (якобы любезную Богу) позицию, в соответствии с которой человеку «ничево не ведомо», что он не способен понять не только «пути Божии» и осознать своё место в величественном акте Творения, но даже не способен понять и самого себя, то придётся признать, что Бог по своему Образу и Подобию сотворил… полуидиота, совершенно не способного ни понять, ни осознать, ни внутренне приобщиться к своему Создателю!
Не признавая первую позицию и не соглашаясь с её посылами, Лермонтов, по факту, как никто, ясно опровергал и кощунственные «выводы» из неё.
Читая наиболее вдохновенные произведения Лермонтова, ловишь себя на мысли, что поэт истинно способен был лицезреть Всевышнего своими внутренними очами. В стремлении внутренне приблизиться к своему Источнику, Лермонтов и ушёл с головой в протоисторию человечества. Никакие трудности, никакие превратности судьбы не могли отвадить поэта от работы над грандиозной и героической в своей сущности поэмой.
Лермонтов в ипостаси поэта и воина был очевидным носителем эпического начала в душе, явленного его музой. Грандиозная многоохватность и глубина поэмы заключается в том, что в пространстве мира Лермонтов пытается воссоздать своего рода первоконструкцию Добра и противостоящего ему Зла.
Первое (условно) воплощено в чистой душе Тамары, которую оттеняет «гений греха» – Демон. Носитель законченного зла ненавидит «всё, что пред собой он видел».
Чего стоит одно только «представление» себя и единовременно признание Демона в любви Тамаре! Исполненное исполинской силы, оно трагично, как всё истинно великое:
Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, – я у ног твоих!
Тебе принёс я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слёзы первые мои.
…Я раб твой, – я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел –
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Но, «отдавая» себя Тамаре «в рабы», Демон тем самым опосредованно преклоняется перед Творцом, ибо ему ясна природа её гармонии и красоты…
Именно по этой причине Демон испытывает страх и «внутренне» ненавидит Источник своего страха, воплощённый или вочеловеченный в Тамаре. Дуализм преклонения-ненависти пронизывает всю поэму Лермонтова.
Автор ставит её во главе угла потому, что дух рабства, страха и ненависти проходит через всё историческое бытие человечества! Это противостояние Добру, неискоренимое в человеке и неспособное быть преодолённым здесь, мучает Лермонтова, ибо он, как никто, чувствует в себе некий залог возможной внутренней победы.
До времени оставаясь над схваткой, поэт как бы «со стороны» пытается разобраться в коллизиях «вечного» противостояния. Именно эта (надличная и сверхобщественная) высота, поддержанная пронзительным умом, проникновенным духом и непостижимыми знаниями о формах борения добра и зла в человеке, позволяла Лермонтову видеть мир в парадоксах послеадамовой истории: той, в которой и невиновные в первобытном грехе наследовали его последствия. Обусловив некую «сумму» исторических грехов человека и определив мистерии бытия, «история» и повела «невиновных» по ложному пути в понимании происхождения зла в мире.
Положение усугубляли лжеучителя, ханжи и мнимые поводыри. Обличая связь с Злоносителем там, где её не было, они сбивали с толку и слепых и зрячих. Неверность закосневших в своих пороках реалий порождала у человека досаду и разочарование, опять создавая своеобразную «сумму зла».
Так эволюция греха, ограничив духовное совершенство человеческой природы, свела её развитие к застывшему в своей порочной неизменности временному бытию.
Несомненно, ощущая, ведая или прозревая диалектику Добра и Зла во времени, Лермонтов не рисует в одних только чёрных тонах того, кто некогда был избран Богом.
Его Демон противоречив и не лишён известного обаяния. Как будто надеясь на поражение сатанинской гордыни, что означало бы (духовную) победу Добра, Лермонтов влагает в уста Демона, склонившегося к ногам Тамары, «молитву тихую любви». Его признания сродни исповеди субстанционально меняющегося сознания, если только оно применимо к Демону:
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Всё знать, всё чувствовать, всё видеть,
Стараться всё возненавидеть
И всё на свете презирать!..
И это «внутреннее» преображение, казалось, вот-вот достигнет своего апогея, после чего демонизм (как мы помним, – «зло наскучило» Демону задолго до встречи с Тамарой), будучи единовременно источником и вместилищем мирового зла, падёт наконец, не устояв перед силой любви, долженствующей распространиться на человечество во всей его массе. Ибо «демонское» начало, наполнив собою жизнь и растворившись в душах людей, всё же сконцентрировано в самом Духе Зла. Казалось, духовный переворот всего (подчёркиваю это) человечества возможен ещё и потому, что «программа» созидания изначально была заложена в душу «венца творения». Вот и настоящая «исповедь» Демона как будто говорит о возможности изменения самого хода истории! Она ясно свидетельствует о том, что животворящая сила любви в эти минуты «держит» Демона в духовном поле Тамары. Откликаясь на мольбу беспомощной княжны пощадить её душу, Демон делает поистине героическую попытку отказаться фактически от своей, проклятой Богом сущности:
Клянусь я первым днём творенья,
Клянусь его последним днём,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братий мне подвластных,
Мечтами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шёлковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей:
Я отрёкся от старой мести,
Я отрёкся от гордых дум;
Отныне яд кровавой лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру…[34]
В пароксизме раскаяния и в отчаянии от несбыточности его клятвы (это ему ясно было с самого начала!) Демон возводит её в ранг «очистительной», но всё же отвлечённой молитвы. Его слова – своеобразный памятник всему лживому, но великому в своей искренности, грандиозному в преобразовательной ипостаси и… несбывшемуся. И всё же в эти мгновения он верит или хочет верить собственным словам. И вновь чудится, что Демон готов сжечь мосты со своим прошлым и (в это верим уже мы) без сожаления об утерянной мощи вернуться к своему Отцу.
Поскольку в недрах Духа Зла заложено и это, возрождающееся в своей созидательной сущности стремление. Этот поистине всемирный акт тем более представляется вероятным, что всё «в начале» вечности произошло от Благого Источника. Как будто «идя по нему», Демон пылко клянётся своей жертве, но, увы, клятвы и обещания его, обрамлённые жемчугом истинной поэзии, отвлечённы и безблагодатны:
…Для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе всё, всё земное —
Люби меня!..
Приняв воображаемое за действительное, а скорее, солгав самому себе, Злой Дух на мгновение отходит от самого себя, что невозможно… Потому финал встречи «духа порочного» с неосквернённой пороком душой оказался печален. И символичен. Попытка совместить несовместимое в своей, наверное, последней, вынашиваемой им в вечности надежде, рушится. Он это знает. Более того – знал… Даже и «покаянная» слеза Демона прожигает камень, а лобзания, отравленные смертельным ядом, несут человеку смерть. Зная все последствия истинно демонической «любви», гений искушения, зла и коварства допускает гибель Тамары, после чего облекает свою душу в адские ризы.
3
Сцена мёртвой княжны исполнена величия прощания с землёй и перехода в иное состояние:
И ничего в лице её
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все её черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишённой чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Смерть Тамары не конечна. «Мраморный» облик её светел, но вместе с тем и противоречив. Яд, убивший тело, коснулся и души, не устоявшей перед искушениями:
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по её устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное прости…
В следующей строфе перо Лермонтова вновь воплощается в магическую кисть живописца, ибо только ею, пожалуй, можно передать вселенские просторы Кавказа. Чудится, что и режущие ущелья бурные реки, и мирные селенья гор были взбудоражены смертью Тамары. Внекалендарный и мистический «час раскаянья» сближает их полуреальных жителей – от праотцов до нынешних, столь же грешных… Эти горные жители и возводят храм, на котором покоятся кости всяких, в том числе и лихих, людей.
Сам же храм, устроенный на скале, разрастается кладбищем, как будто приближающим таинство того и другого к небу… Над вечным покоем и повстречался Демону Ангел, уносящий в иные пределы упокоившуюся душу Тамары.
В эпизоде вознесения «грешней души» Тамары узнаётся (надо полагать, не без «согласия» автора) Ангел Лермонтова, который некогда «душу младую в объятиях нёс для мира печали и слёз». Здесь же душа Тамары возвращается туда, где ей не будут докучать «скучные песни земли». Но Злой Дух всё ещё дорожит тем, что, опорочив, считает своим. Отбросив ризы, сотканные из лжи и коварства, он является в истинном своём облике. И облик этот – ужасен!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?