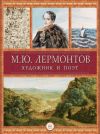Текст книги "Лермонтов и христианство"

Автор книги: Виктор Сиротин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Заметим, что разница между «грибоедовской Москвой» и «маскарадным» обществом в поэме Лермонтова была такой же, как между пушкинским Онегиным и лермонтовским Печориным[30]. И Чацкий и Онегин представляют собой яркие, но в известной мере барствующие личности, вольность которых не цепенела пред ледяными, немигающими очами Николая, смотрящими как будто из ниоткуда… Этих литературных героев не затронул «гвардейский» стиль сомнительно державной власти и её клевретов, нравственной жертвой которых несомненно стал Печорин. Заявив о себе с самого начала николаевского режима, «стиль» государственной беспомощности и позора воочию предстал перед всем миром лишь через тридцать лет – в Крымской кампании.
Заменив военные учения парадами, дворцовыми шарадами и «победными реляциями» над провинившимися офицерами, Николай подвёл Россию к войне, к которой она оказалась совершенно не готова. В начале своей «службы» изгнав прославленных генералов, царь улещал себя нехитрыми познаниями в государственном и военном деле, чего для победы было явно недостаточно. Отсюда поражение в «любимом занятии».
Словом, это были неведомые литературным героям Грибоедова и Пушкина годы, когда царь правил деревянной головой, железной рукой и холодным сердцем. Потому и Чацкий и Онегин лишены метин от державной «трости» государя-императора. Тяжесть её вполне ощутило на себе следующее поколение русского общества в лице Арбенина и разгадавшего судьбу России Печорина – проводника многих мыслей Лермонтова.
Случившийся пасынок фамусовской Москвы и Николая I, лермонтовский Арбенин не желал быть жертвой такого рода двойственности. Не хотел и не терпел двусмысленности своего положения! Арбенин – это Чацкий 1830 г., который скоро воплотится в ещё более мощную фигуру – лермонтовского Печорина. С той лишь разницей, что Чацкий мог ещё позволить себе вскричать в конце комедии: «Вон из Москвы! сюда я больше не ездок», тогда как Арбенину в период николаевской реакции «ехать» было некуда… Разве что «по свету», что Герцен, «разбуженный» декабрём 1825 г., не преминул и сделать. Потому, не имея выхода и мучаясь от безысходности, Арбенин погибает. Сначала этически – как личность, поскольку не находил для себя ниши нравственных идеалов и духовной чистоты, – а потом и как физическое лицо. Между тем жизнь самого поэта прервала «диалектика» николаевского режима.
Как гром среди ясного неба грянула смерть Пушкина! Отозвавшись острой болью в душе Лермонтова, она преобразила его ум и волю в единый кристалл, через который вскоре преломилась судьба его самого. В исключительно сильном по волевому импульсу и страсти стихотворении «Смерть поэта» Лермонтов – Поэт и Гражданин – бесстрашно обрушивает свой гнев на «молву» и ближайшее окружение царя – истинных виновников гибели дивного гения. С горечью и презрением обвиняя соучастников преступления, грозя им Божьей карой, поэт в их лице разит само зло! Впервые ощутив на себе мощь лермонтовского стиха, «наперсники разврата» почувствовали и опасность для себя… Но ещё большие беды грозили самому поэту. Ибо никогда ещё в русской поэзии не звучали столь сильные обвинения трону и системе правления.
Жребий брошен! Поэт пристально вглядывается в постыдно равнодушную к добру и злу «угрюмую толпу» – в своё поколение, лишённое веры и надежд. И, находя объяснение, не находит ему оправдания… Уж е осознав, что он другой – «ещё неведомый избранник», Лермонтов по-другому, нежели того требуют приходские вероучители, смотрит, оценивает, судит и осуждает свет.
Запечатлённый в знаменитом стихотворении праведный гнев Лермонтова приводит к последствиям, резко изменившим его жизнь. «Скипетр» Николая разлиновал его небо в клетку.
Оказавшись в реальном заточении, поэт сильно и по-иному испытывает нужду в молитве. В уединении он начинает видеть дальше и проникновеннее. Осознавая масштаб трагедии, Лермонтов понимает и неслучайность её. Злой рок вершит свои дела, но никогда не выходит за пределы предначертанного… Гибель Александра Пушкина воочию явила тщету, ненадёжность и недолговременность человеческих планов, но не отменяла необходимости бороться со злом и его причинами. Невозможно воспроизвести мысли, обжигавшие сознание поэта, но можно предположить очевидное: Лермонтов знал, что вышел на «тропу войны», и его мучило соотношение гражданской борьбы (в необходимости которой он был уверен) и духовного смирения (благодать которого ощущала его безличная, растворённая в вечности сущность). Суть дилеммы была в том, что должно делать и что нужно в жизни принять. Размышляя о превратностях судьбы, Лермонтов через высокое окно каземата смотрит на «квадраты» небес, различая в них вечное пространство, и на обрывках бумаги создаёт бессмертные произведения – «Когда волнуется желтеющая нива» и «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…». Об определённом «согласии» поэта с «небом» говорит то, что с этого периода его творчество взмывает поистине в небесные высоты. Едва ли не каждое новое произведение поэта свидетельствует о могучем взлёте его духа и грандиозном масштабе истинно лермонтовского дарования! Вероятно, в эти минуты духовного восторга из груди Лермонтова вырвались полные достоинства слова: «И в небесах я вижу Бога…» Это признание есть истинное свидетельство присутствия Бога в лучших произведениях поэта.
3
В январе злополучного для России года Лермонтов, создав поэтические произведения духовной и философской направленности, пересматривает и уточняет позиции морального и этического плана. В его строках усиливается гражданское звучание. Дух поэта, взмывая высоко в небо, «спускается» на землю, ибо видит себя бойцом здесь – в этом мире. Оттачивая «клинок» своего железного стиха, он относится к грозному оружию как к другу и защитнику: «Люблю тебя, булатный мой кинжал, / Товарищ светлый и холодный…» Ему поэт даёт клятву верности: «…я не изменюсь и буду твёрд душой, / Как ты, как ты, мой друг железный» («Кинжал»). Но один в поле не воин, поэтому Лермонтов ищет соратников в борьбе – и не находит… В стихотворении «Поэт» (1838) он, упрекая своих собратьев по перу в «бесславии и безвредности», уподобляет их сочинения блещущей на стене золотой игрушке. Но не таково призвание истинно Божьего дара. Сознавая высокое назначение и пограждански бескомпромиссную силу «могучих слов», Лермонтов нетерпим к малодушию «века»:
В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Своё утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоволенье?
В этом произведении поднявшись до пророческого видения, Лермонтов не отделяет поэта от Слова. Вочеловеченное в Логосе, оно прежде было сродни благовесту. Поэт ассоциативно апеллирует к иному времени, к тому, когда Слово несло соборную функцию, присущую пастырю и духовнику, перед духовным напутствием которого склонялось гражданское общество. В эти, иные, времена народ, отстаивая своё Отечество, злато «менял» на власть и на возможность подвига, а не наоборот… Поэт поясняет то главное, что объединяет миссию поэта, пророка и пастыря народа:
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.
И это истинно так!
Двести с небольшим лет назад именно духовное пастырство в могучем слове и молитве оказалось наиболее мощным духовным источником, спасшим Москву, а вместе с ней – и Московскую Русь[31].
Героическая деятельность православного духовенства в начале XVII в. вдохновила народное ополчение на беспощадную борьбу с поляками, а патриарх Гермоген, благословив народ и прокляв врагов Руси, и вовсе принял от них мученическую смерть. Во всенародном подвиге защиты Отечества особенно отличилась Троицкая лавра.
Любопытно, что по случаю вступления польских войск в Москву и победы «просвещённого христианства над московским варварством» в Риме в 1611 г. был объявлен всехристианский праздник. В такой форме папа выдал польским оккупантам индульгенцию, «отпущающей» им грабёжи и насилие.
В своём стихотворении Лермонтов не случайно несколько раз прибегает к священной для Руси-России православной символике, поскольку она играла важную и непреходящую роль в жизни русского народа.
Колокол на вечевой башне издавна был своеобразным «языком» – призывным гласом народного бытия.
Но то было в прошлом…
И слово и дело, полагает Лермонтов, перестали уже играть важную роль. В эпоху теряющихся смыслов и символов поэту представляется необходимым подвиг пророка:
Проснёшься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножён не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..
В этих строках Лермонтов отождествляет себя не с пророком, а лишь с образом его (прямая, но метафорически смягчённая аналогия заявит о себе в «Пророке», 1841).
Но образ этот могуч! Печаль, тоска и разочарование в нём выходят за пределы личностного «суда», ибо стихотворение преисполнено общегражданского, а значит, народного самосознания. В своём наивысшем посыле индивидуальное здесь отрекается от «самоё себя» – от эгоистических пристрастий, от всего личностного и преходящего.
Схожее – надличностное – отношение к Родине пронизывает стихотворение «Бородино» (1837), где устами участника битвы Лермонтов бросает своему безвольному поколению: «Да, были люди в наше время, / Не то, что нынешнее племя: / Богатыри – не вы!»…
Рождённый для великих дел, ибо наделён был необычайно острым и быстрым умом, способностью к глубокому анализу, могучей энергией и силой духа, Лермонтов в отрочестве ещё писал: «Мне нужно действовать, я каждый день / Бессмертным сделать бы желал, как тень / Великого героя, и понять / Я не могу, что значит отдыхать».
Но жажда здешней активности не отодвигает в нём поисков гармонии с внутренним бытием, ощущение значимости которого пронизывает всю его жизнь.
«Моя душа, я помню, с детских лет / Чудесного искала…», – писал он тогда же в сокрытой от всех тетради.
Однако служба-ссылка и горы Кавказа не оградили великого поэта от миссии поэта-пророка, а «всевидящий глаз» III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии (и, очевидно, не только «третьей»…) бессилен был заглянуть в его душу. Неизменная красота гор, приближая дух поэта «к небу», увеличивала его потребность к внутреннему единению с Вседержителем. Выходя на кремнистый путь и изумляясь чистоте небесного пространства, Лермонтов обращается к нему своими внутренними очами и создаёт одно из самых художественных в мировой литературе и чудных по чистоте и искренности произведений – «Молитва» (1839):
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненья далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
Однако мир не меняется. И даже эта молитва, пронизанная лучами благодати, не ограждает поэта от язв и противоречий мира, от которых не была свободна и его душа… Пронзительным умом и цельностью натуры Лермонтов восхищает одних и вызывает неугасимую ненависть у других. Им претит его властный характер, не способный к подчинению. Между тем духовные поиски поэта не особенно расходились с принципиальным и жёстким неприятием пошлости и лицемерного «приличия». «Судья безвестный и случайный, / Не дорожа чужою тайной, / Приличьем скрашенный порок / Я смело предаю позору; / Неумолим я и жесток…», – писал он в стихотворении «Жур налист, Читатель и Писатель» (1840).
Белинский, встретившись наконец с «другим» Лермонтовым в Арсенальной гауптвахте (куда поэт угодил после вразумления одного из многих «ловцов счастья и чинов» – де Баранта) в 1840 г., был, по его признанию, поражён и раздавлен могучей натурой поэта. «Неистовый Виссарион», который в скором времени будет гневно и безапелляционно распекать великого Гоголя, при встрече с Лермонтовым отдал ему безусловное превосходство во всём!
Восторг Белинского не был чрезмерным. Внимательно следя за творчеством Лермонтова, критик не мог не ощутить в нём исключительную силу, масштаб и благородство устремлений. Но, не зная всего наследия поэта, горячий поклонник М. Бакунина (в 1845 г. писавший Герцену: «В словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут») не мог увидеть главное, что оправдывало духовное и нравственное существование Лермонтова, а именно гипотетически возможное преодоление пороков «послеадамового человека», в существе своём не изменившегося за тысячелетия. Однако для успеха столь рискованного предприятия необходимо было прозреть парадигму бытия, уходящую и в прошлое, и в будущее… Эвольвентно принимая в себя нравственно и этически спорные коллизии, включая трудноуловимые по характеру и обманчивые по содержанию внешние переустройства общества, парадигма эта с незапамятных времён ставила в тупик самые выдающиеся умы. К распознаванию донельзя запутанных форм Добра и Зла, протянувшихся в истории от Ветхого до Нового времени, и обратил свой гений Михаил Лермонтов. На это он имел, пожалуй, большее право, нежели кто-либо другой. По той причине, что истинно великое можно поверять лишь соразмерным ему. Философ и писатель Василий Розанов – один из немногих, кто сумел увидеть истинную величину и разгадать значение поэта в мировом Логосе – говорил по этому поводу: «Лермонтов не только трогает звёзды, но имеет очевидное право это сделать, и мы у него, только у него одного, не осмеливаемся оспорить этого права. Тут уж начинается наша какая-то слабость перед ним, его очевидно особенная и исключительная, таинственная сила».
Глубокий ум Лермонтова способен был и смело проникал в ветхие пласты времён, с первых Дней Творения хранившие сокрытые от всех «знаки», гармонию и мелодику вселенского бытия. И тогда он откликался на них так, как это мог делать только истинный поэт:
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слёзы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рождённое слово;
Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Уж не от «центра» ли вневременья, затронутого Словом, исходили «волшебные звуки», навстречу которым поэт готов был броситься в битву, даже не окончив молитвы?!.. Не та ли это субстанция вечности, матрица которой и не содержит, и не исчисляется временем?!.. Ведь там, в искривлённом и неудержимо «вертящемся» пространстве-времени, все события – и прошедшие и будущие (ускользающего «настоящего» там тоже нет) – существуют как уже состоявшиеся. Если так, то, не являясь самоценными, они выстраиваются в событийный ряд лишь в человеческом сознании при помощи ничего особо не представляющей собой воли человеческой.
Очевидно, вдохновлённый «звуками» лермонтовской музы и, вне сомнения, зная вышеприведённое стихотворение поэта, Н. В. Гоголь 28 февраля 1843 г. в письме к С. П. Шевырёву едва ли не дословно пересказывает слова поэта: «Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, пред которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много такого, что может только почувствоваться, глубиною души в минуту слёз и молитв, а не в минуты житейских расчётов!» Замечу всё же, что, разделяя пафос лермонтовской музы, Гоголь, потонув в слезах покаяния, потерял свою «битву». На одном из этапов напряжённой внутренней работы над Словом, застряв между Богом и Кесарем и не сумев разрешить проблему духовной связи творчества в миру, Гоголь утерял источник вдохновения, место которого заняло расстройство души… Лермонтов на более высоком уровне понял связь «земного» и «небесного». Не опускаясь до «рабствования в Боге» и не воздымаясь до сугубо человеческой гордости, поэт видел себя соработником Всевышнего. Последнее соотносится с формой служения или духовной практикой истинно православного монаха, который в грозную для Отечества годину берёт в руки меч и облачается в латы воина. По всей видимости, ощущение такого рода внутреннего единства придавало поэту немалую смелость. Дерзновенный охват вселенского бытия, им явленный, даёт основания предположить, что именно желание заглянуть в неведомое, которое перебарывает стремление «потрясти» ускользающее от человека «вечное безмолвие», отличает Лермонтова от многих великих предшественников и современных ему коллег по перу.
Но так ли уж бесспорно право поэта «трогать» звёзды? И – да простят мою дерзость ревнители церковных догматов! – насколько далеко оно распространялось?..
Расставить по полочкам «отличия» поэта от других гениев едва ли возможно, да и вряд ли стоит этим заниматься. Гораздо важнее попытаться раскрыть его духовные поиски. Именно они привели к столь величественному содержанию его творчества (попутно обогатив поэзию разнообразным строем стиха, а стихосложение – художественными формами). Это подметил А. Блок, писавший о трансформациях Лермонтова-стилиста: «В языке Лермонтова, отличавшемся, по выражению Белинского, “истинно пушкинскою точностью выражения”, много слов народных и областных, оборотов французских и церковно-славянских». Но если первые говорят о наличии в культурной части русского общества европейских влияний, то церковнославянские «обороты» Лермонтова свидетельствуют о его глубоком единении с жизнью народа.
Существенная особенность внутреннего Лермонтова (а именно там нужно искать сущностные достоинства поэта) состоит в том, что, апеллируя к Богу, он открывал для себя пути земные, которые хотел довести до человека мыслящего, отнюдь не только в России бредущего по жизни «без шума и следа». Зорко следя и откликаясь на здешние войны, поэт и мыслитель знал, что они лишь в малой мере отражают битвы тамошние… Зная это, Лермонтов пытался понять меру возможностей и степень участия в них человеческих сил. В этом состояла высота его миссии – в этом состояла и ответственность поэта перед его Творцом!
В своей сложности и многообразии этот феномен наиболее ярко открывается в поэме «Мцыри» и, пожалуй, в одном из самых сложных произведений мировой поэзии – поэме «Демон». А. Пушкин, отмечая гениев-новаторов мировой литературы, так писал об этом: «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью – такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гёте в “Фаусте”…». К этим славным именам со всей уверенностью можно вписать имя Лермонтова, ибо в ряде его произведений, особенно в поэме «Демон», сокровения поэта и мыслителя свидетельствуют не только о печальном творении Его… Исследуя «время» в его духовной и исторической протяжённости, Лермонтов с горечью убеждается в силе и усилении распространяющегося в мире зла, присутствие которого ощущает повсюду. Путая род людской, оно завораживает и совращает многих. Сначала ощущение, а затем глубокое осознавание эвольвентной подмены критериев добра и зла привело Лермонтова к анализу их первоистоков. Пронзительно мощное сознание поэта, прозревая настоящее и угадывая связи прошлого с будущим, устремлялось в зримые дали вечности. Проникая в сущее, дух Лермонтова стремился к постижению таинств прошлого и будущего, запечатлённого в матрице Вечности; того не свершённого и не свершившегося ещё, что не определяется временными или событийными факторами, ибо неведомое не имеет временного отсчёта и узнаваемых (бытийных) форм. Отсюда «неясность» фактора времени в ряде произведений поэта, как в своём «прошлом», так и в «настоящем» принимающих форму вечного. Та малая, приоткрытая поэтом «часть» его и есть высочайшая по своим духовным позывам лермонтовская реальность.
И опять убеждаешься в том, что мир Лермонтова – это особый мир, а потому для понимания его необходимо исследовать не указующие «персты» (отдельные стихотворения), а направление всего творчества, существующего в ипостаси духовного новатора и бойца. А всего творчества потому, что лермонтовское вневременное бытие несёт в себе реалии, не тождественные вещественным. Оно содержит в себе гармонический ряд, не способный реализоваться ни в условиях, ни средствами этого мира. На первый взгляд подобное рассмотрение духовного вектора Лермонтова может показаться неким мистическим преувеличением. Но это только на первый взгляд. Потому что человек метафизически, как личность, связан со своим Творцом. По этой причине в наивысшем своём духовном воодушевлении (феномене гения в творчестве) человек органичен и неразрывен со своим Первоисточником. В этой, не сотворённой руками духовной лествице нет ни «ступенек», ни промежуточных звеньев – есть только умение слышать и реализовать Слово, возможности которого необъятны, и именно по этой причине оно не всегда доступно рядовому сознанию. Этот феномен отчуждения (от мира) проявляет себя в тяге поэта к «забытию», выраженному в стремлении к вышнему
«царству». Поэт и литературный критик С. А. Андреевский прямо говорит об этом: «В истории поэзии едва ли сыщется другой подобный темперамент. Нет другого поэта, который так явно считал бы небо своей родиной и землю – своим изгнанием…» Представляется очевидным, что «сын земли с глазами неба», по точной метафоре Вел. Хлебникова, выпадая «из мира печали и слёз», хотел обрести некогда утерянную человеком свободу, присущую тому миру, где искры Божии горят своим истинным светом. А это и есть, очевидно, то Царство, которое кроется внутри тех, кто не утерял в себе Образ Божий. Именно об этом говорит поэт в своём мистически-загадочном стихотворении «Выхожу один я на дорогу…»
С детских лет Лермонтов грезил о той Свободе, единственно в которой мог найти вышний покой – тот, которому нет названия, но в котором обитала жизнь под шум листвы и «сладкий голос» небес. Эта тихая песнь ангела завораживала Лермонтова с отрочества, потому что вещала она «о блаженстве безгрешных духов», которых поэту не могли заменить «скучные песни земли». Потому с надеждой вглядывался он в звёздное пространство. Именно там искал он общения с Всевышним, к которому шёл в полном одиночестве[32].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?