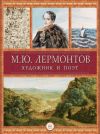Текст книги "Лермонтов и христианство"

Автор книги: Виктор Сиротин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Так было всегда. Глубокую веру оттеняло ханжество, величавый полёт мысли оттеняло падение в ней же, грандиозные программы устроения общества и государства сопровождало непонимание их и равнодушие непосредственных исполнителей этих планов. Увы, причины болезней и пороков общества никогда не бывают обнадёживающими… Потому само стремление раскрыть и реализовать богоподобное в человеке в условиях быта и гнёта социальных условностей образовывало некую воронку, которая вовлекала в свои недра представителей самых разных областей человеческой деятельности.
Среди тех, кто наиболее отчётливо обозначил себя в опасном «душе– и «мыслевороте», включая неотрывное от духовных дерзаний творческое бытие, находишь имена людей, которые режут глаз чрезвычайной разностью своих характеров и мировосприятия, форм и стилей мышления. И в далёком и в не столь уж давнем прошлом они занимали соответствующее (или несоответствующее) им место в духовной иерархии и гражданской жизни. Подчас разнящиеся по масштабу личности, мощи дарования и глубине вовлечения в субстанциональное бытие, эти «храбрецы истории» и воины духа вызывают уважение тем, что смело брали на себя груз, неподъёмный для обыкновенного человека. Среди большого числа ярких личностей отмечу лишь некоторых. Это богословы Пьер Абеляр и Ансельм Кентерберийский, Мартин Лютер и Игнатий де Лойола, философ Сёрен Кьеркегор и Фридрих Ницше, поэты Шарль Бодлер, Артюр Рембо и конечно же Михаил Лермонтов. К феноменам художественного восприятия мира отнесу философские и эмоционально сжатые монументальные произведения великого Михаила Врубеля. С жёсткой диалектикой в творчестве русского художника контрастируют радужные цветовые гаммы в полотнах «таитянина» Поля Гогена, умевшего вознести до эдемских высот эпическую красоту Полинезии. Безмятежную красочность творений Гогена оттеняет поистине взорванная рациональность в полотнах его друга-врага Ван Гога. В число духовно оголённых деятелей истории входят многие другие великие и не очень великие путаники, как верившие во Всевышнего, так и люто ненавидевшие Его, а значит, опять верившие. Очевидно, гении рождаются вовсе не для того, чтобы быть святыми, и не обязательно для того, чтобы быть понятыми современниками… Философами и учёными прошлого «ещё раз подтверждается, – писал Артур Шопенгауэр, – что не только природа во все времена производила лишь крайне немногих действительных мыслителей в виде редких исключений, но и сами эти немногие существовали лишь для очень немногих». Ибо знать и сознавать не одно и то же; так как в первом случае участвует память, а во втором, собственно, мысль. Что касается великого дара (или наказания, что на деле не слишком отстают друг от друга), то он лишь добавляет меру ответственности за дарованное. Если же говорить о благочестии, то о его месте в жизни тех, кому ниспослан дар Божий, указывает «семейный случай» из жизни Лукаса Кранаха Старшего.
Когда супруга великого художника посетовала на то, что он пропускает воскресную литургию, Кранах, указав кистью на предмет его забот, произнёс: «Вот мой храм. Если колокольный звон застанет меня за работой, – это моё лучшее служение». Этот с канонической точки зрения небезупречный ответ между тем расставляет приоритеты в жизни реально уповающего и поясняет формы служения его. Потому остановим своё внимание на избранности не в мирском, а в духовном – вне зависимости от конфессиональной привязанности – значении этого слова.
Внутреннее богатство творческой личности, помимо дарованных ей талантов – великих, значительных или гениальных, определяется ещё духовным и моральным подвижничеством. То есть нравственные цензы, безусловно присутствуя при реализации таланта, заявляют о себе отнюдь не всегда в той форме, которая близка сердцу «повседневного человечества», наиболее характерно олицетворённого в потребителе. Ибо, лишённое пронзительного восприятия (которое тоже есть дар!) «объёма» эпохи и пространства истории, «повседневное» различает лишь тождественное себе. По-иному никогда и не было. В силу тяжести, а подчас неподъёмности «камня» моральных и этических норм, определяющих истинную свободу человека, его нравственное бытие не носит перманентного характера.
Это утверждение не менее справедливо в отношении «нравственности эпохи», инсталлирующей во всякую общественную формацию проблемы исторического существования человека. Если говорить непосредственно о социальной жизни, то она несёт в себе некую историческую истину, только если наполнена содержанием, которое определяется не отдельными выдающимися людьми, а внутренней осмысленностью всех слоёв общества.
По всему получается, что при оценке духовного в творчестве не следует прибегать к обывательскому аршину, скроенному «на глазок» из усреднённых представлений о «грехе» и «безгрешности». Для уяснения предмета исследования необходимо ощутить и понять силу творчества, которым гений раскрывает себя в бытии, включающем и непременных судей его, и остальное (к счастью, не всегда судящее) человечество. Если же исходить из «мнений» судей, опирающихся на суждения толпы, то Рембрандту, Врубелю, Ван Гогу, Гогену (etc.) можно вменить в вину многое из того, благодаря чему они стали великими художниками, почитая их за ряд бесполезных для вдохновенного творчества качеств, которыми так гордится далёкий от величия добропорядочный обыватель. Словом, если видеть деятельность художника органичной частью всей здешней жизни, то пресловутые «судейские вердикты», мерки и оценки выглядят до чрезвычайности глупо, а иногда ещё и подло. Истинный гений, реализуя свои внутренние и как будто сугубо личностные задачи, всегда является душой и оголённым нервом эпохи. То есть он аккумулирует в своём сознании весь срез бытия, донося до человека его пороки и достоинства в той форме, которая выражает их в наиболее характерном и концентрированном виде. Ибо когда мысль поэта или кисть художника ведёт вдохновение – истина принадлежит ему! Если же сузить шкалу «требований эпохи» до личностной мерки, то уникальная одарённость или глубокий ум почти всегда подводят их обладателя к ощущению своего превосходства «над всеми». Причём это происходит вне связи с его личной волей. Именно поэтому к личности такого масштаба неприменимы упрёки в «эгоизме», так как и творит и мыслит она независимо от своих «личных» интересов. Это слово беру в кавычки потому, что всё личное в этом случае отходит, уступая чему-то более значительному. На этом уровне ощущая себя частью «всего», гений вовсе не обязательно озабочен настоящим, поскольку оно является лишь частным случаем в цепи исторически преходящих мгновений. Но, существуя в преходящем, он принадлежит нескончаемому, вечному и неохватному, в которое вовлечён своей лучшей частью! Собственно, именно в такой форме «единицы вечности» содержат в себе искры мудрости Всеведающего и Неизъяснимого.
Когда гений мирового масштаба глубоко погружается в своё «я», тогда всё личностное в нём, дробясь, измельчаясь или стираясь под воздействием превосходящих её модусов, приобщается к вселенскому. Более того, становится его выразителем. И тогда оно исчезает. В этом процессе перевоплощения или «исчезновения» личного «я» опосредованно проявляется ответственность гения «за всё» человечество. Возникает парадоксальная ситуация, когда, «принадлежа всему», великий человек не принадлежит ничему (без кавычек). Разрешается этот парадокс следующим образом: гения отдаляет «от всех» то, что он принадлежит не только своему времени, но пребывает в его протяжённости. По этой же причине феномен гения, рождённый в национальном теле, но имеющий иной масштаб, охватывает пространства далеко за пределами национальной культуры. В то же время именно разница между сверхличностным и житейским сознанием, очевидное несовпадение первого с потребительским мировосприятием и куцым мышлением последнего создают почву, в которой произрастают зёрна неискоренимых в бытии «вечных» конфликтов. Они же закаляют характер истинных избранников, поскольку великое творчество создаётся в противостоянии судьбе. В то же время пресловутая «разница», возвышая первое и оставляя «на своём месте» второе, в своих уникальных и сверхмощных свойствах роднит и сближает феномен со своим Подобием, который во вдохновенном творчестве растворяется в лучах образов Его. В этом случае – исключительно редком в истории и культуре – правильнее говорить о гении-сущности. Поскольку именно «сущность», в своей первооснове содержа опыт давно ушедших времён, более всего свидетельствует о неосквернённых началах венца творения. И если в каждом человеке лучатся, поблескивают или гаснут искры Божественного («частицы Бога»), то в истинно выдающейся личности, то есть содержащей в себе архетип человека первосозданного, они являют собой качественно иную данность, которую несёт в себе величие Первоисточника.
На фоне сокровенного действа подчас тускло смотрятся «требования» конкретной эпохи, неубедительно выглядят пристрастия её господствующей части и совсем уж жалко – вкусы тех, кто живёт лишь интересами потребления. Поскольку обыватели всех мастей и рангов реагируют лишь на ту «часть» ума и деятельности ярких личностей, которую способны воспринять. Но, отмеряя и процеживая в ней «своё», они, как правило, тонут даже и в этом информационном объёме. Приходится констатировать, что, «скреплённые печатью» свыше и олицетворённые в личности, надличностные категории и сверхвозможности в постижении мира с печальным постоянством не выдерживают повседневно-банального, житейски-массированного давления со стороны тех, чья биологическая жизнь по факту исчерпывается «теплокровным» или (это звучит не так обидно) физиологическим пребыванием на Земле. И хорошо, если «жизнь» эта, никого особенно не тревожа, реализует себя в мысленном бездействии или ютится в щелях кругозора, увешанного ценниками потребительского здравого смысла. Куда хуже, если она – и тоже по факту – исполнена неуёмной энергии, зависти, злобы, гордыни и тщеславия. Тогда – это легко видеть на судьбе А. Пушкина и М. Лермонтова – «неуёмная безличность» (или, по Свифту, «толпа тупоголовых») объединяется в борьбе против личности с непременным намерением растоптать и уничтожить её. И опять приходится признавать, что честные люди не знают и половины причин, по которым они правы, осуждая негодяев…
Здесь мы почти приблизились к главной теме нашего повествования, коей является судьба великого поэта.
Однако для того, чтобы наиболее полно ощутить глубину противоречий сверхличности, каковой Михаил Лермонтов, несомненно, был, нам необходимо вновь «отойти» от него, с тем, чтобы углубиться в истоки христианской цивилизации. Рассмотрение её столь же беспокойного, сколь извилистого течения поможет нам вернее оценить духовные, этические и исторические предпосылки, предварившие её культурный эквивалент. К анализу этого феномена понуждает нас не только шкала духовных и моральных посылов, заявленная поэтом и мыслителем, но и масштабность лермонтовского человекоизмерения. В том смысле, что верхние пределы, «поставленные» человеку Лермонтовым, приближают «венец творения» к тому диапазону, какой ему некогда отведён был. Вместе с тем сложность исторически и духовно скомпрометировавшего себя творения подводит нас к необходимости углубиться в причинности внешнего, и особенно внутреннего, бытия человека. Поскольку именно там прочитывается модуль, определяющий сущность личности; модуль, способный вывести на социальную поверхность, где личность, как правило, расплачивается за то, что она есть… Этот экскурс в историю необходим и оправдан уже потому, что духовное и творческое бытие великого поэта принадлежит не только России, не только эпохе Лермонтова, и не ему одному… Горная вершина, изумляя нас своей грандиозностью, белизною и близостью к небу, поневоле привлекает взоры ко всей её массе, на которой собственно и базируется её величие. То же относится к наиболее значительным «единицам» мировой культуры, поскольку их духовная основа нерасторжима с исторической базой человечества. Сделаем небольшую ремарку.
В жизни и творчестве Михаила Лермонтова «конфессиональная духовность» являет себя не столь очевидно уже потому, что в силу масштабности личности (вернее, сущности поэта) его мировосприятие не вписывается в рамки затверженных религиозных догматов. Лермонтов отнюдь не был аскетом, а вдохновение его витало подчас далеко за пределами церковного пространства, отчего рассматривать его творчество сугубо через церковную призму будет неверно, более того – безответственно. Это обстоятельство усложняет попытки «точно» установить бытие Лермонтова-христианина, но отнюдь не делает их безнадёжными. В силу того, что всякое значительное явление имеет солидную основу, а в исследованиях духовного плана ещё и временное пространство, полагаю важным осмысление реального явления в реальном бытии. В этом и будет заключаться правильная «оценочная» стратегия. Она, безусловно, должна учитывать элементы серьёзного влияния яркой и своеобразной европейской цивилизации, оказавшей сильнейшее влияние на весь остальной мир. Однако при этом следует принять во внимание тот факт, что параллельно – и даже в противостоянии сначала с варварской, а потом с цивилизованной Европой – существовала православная ветвь христианства, развились особое состояние духа и уникальная культура, освящённая высокими категориями морали и нравственности.
Потому будет верным рассматривать христианство не в свете одних только евангельских идеалов, но и по плодам, которые оно оставило в видимой (то бишь событийной) истории. Ведь содержание и нравственные декларации всякого учения есть модель, которую нужно ещё реализовать. Не делая акцента на возможности реализации, всё же скажу, что именно она определяет бытийно-историческую ценность духовных и нравственных посылов. Далее, принимая во внимание множество исторических проекций христианства на повседневную жизнь и человека в ней, попытаемся найти в его инициативах связь между «земным» и «небесным». Этот выстроенный нами «мостик» (на «лествице» настаивать не будем) даст нам надежду выйти на ту реальность, которая определяла творческое бытие и внутренний мир поэта. Не грех помнить и то, что, при всей грандиозности, творчество Лермонтова есть средство выражения широкого диапазона обеих реальностей. Отсюда немалое внимание уделяется тому, что лежит в их основе. А это и есть тварно обусловленное протяжение духовной и исторической жизни.
Словом, муза поэта отталкивалась от духовной и исторической среды, которую он знал и которую не мешает знать нам!
Дабы приблизиться к истокам «разделения», обратимся к глубокой древности.
II. Генезис христианства
Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трёх.
Лк. 12:51–52
1
Первые попытки понять себя и объяснить мир, найти ответы на вопросы вселенского масштаба появились тогда, когда возникли сами вопросы. А это произошло не ранее, нежели человек стал осознавать себя. Получив первые ответы, открыв некоторые закономерности вселенской жизни и на основе имеющегося опыта создав социальную среду, человек «потихоньку» становился, по определению Аристотеля, «общественным животным» («с перьями», добавит хитроумный Платон). Наверное, в том смысле, что, изучая видимый мир и на основе своих представлений о нём создавая «вторую реальность», homo sapiens постепенно переставал быть органичной частью «первой». С появлением христианства пришло «понимание истории как в высшей мере единого процесса» (К. Ясперс). Христианское уяснение смысла жизни, внеся в бытие принципиальные критерии нравственности, а значит и ответственность за свои деяния, раскрыло перед человеком конечность его существования. В дальнейшем человека ожидала вечная жизнь или нескончаемые муки после смерти. Формула античного мира “Primum vivere, deinde philosophari” (лат.: «прежде жить, а потом философствовать») была полностью отвергнута христианами. Известное равновесие человеческого начала и природы было нарушено мерой ответственности. И не перед мифическими богами, которых древние миряне, «подружившись» с ними, воспринимали как часть обычаев и традиций, а перед реальным (это не ставилось христианами под сомнение) Страшным Судом. Так в человеческое сознание пришло ощущение истины и истории в её событийной связи. Но это же внимание к смыслу и связи событий обусловило отчуждённость человека от «неживой» природы, тождественной в христианском сознании если не с языческим, то с малоценным материальным миром. Посредством изменённого сознания о себе заявила историческая жизнь, отличная от природной тем, что преобразует мироздание с помощью человеческой воли, науки и страсти. «Рациональное» отношение к природе, подчинив себе материнскую ипостась, активно превращало её в среду обитания, в исторической перспективе обращённую в «окружающую среду». Однако в древнем мире сохранялись ещё мощные связи естественномирового, а в пределах языческих мировоззрений – и космического порядка.
Древний человек, живя «вне истории» и по этой причине ощущая себя частью вечности, воспринимал мир целостно и не разделял его как данность на какие-либо категории. Мудрый родовым мироощущением, а не личностным самоощущением, он был составной частью вселенского бытия и не имел нужды «делить» то, что существует вечно и нераздельно. Александр Блок писал на этот счёт в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906): «Непостижимо для нас древняя душа ощущает как единое и цельное всё то, что мы создаём как различное и враждебное друг другу. Современное сознание различает понятия: жизнь, знание, религия, тайна, поэзия; для предков наших всё это – одно, у них нет строгих понятий. Для нас – самая глубокая бездна лежит между человеком и природой; у них – согласие с природой исконно и безмолвно…» Не все «древние души» обладали равными возможностями в постижении мира, но все они являлись носителями единого мироощущения и, будучи органичной частью природы, воспринимали её во всех смыслах «без дураков». «Эти люди, – говорил о древних египтянах выдающийся скульптор Аристид Майоль, – умели создать мощную, поражающую форму. Ставили фигуру совсем просто, и получалось величественно. …Они воспринимали просто и так же работали – в этом их сила» [2]. Не приходится сомневаться, что сила и величие «простоты» исходили от мировосприятия египтян. Таковое отношение, распространяясь на творчество, наиболее принципиально и последовательно заявляло о себе в зодчестве, соподчинённом скульптуре. В древности ваятели умели создавать поразительные формы именно потому, что видели себя нераздельно с вселенской «простотой» и эстетической целостностью. В период наивысшего цивилизационного прозрения, ощущая себя неким «модулем вечности», человек обозначал свою связь с макрокосмом посредством величественных «знаков» (пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, 27 в. до н. э.). Отмечал своё локальное присутствие в мире посредством выстраивания равноценных природе форм (храмы в Дейр-эль-Бахари и Карнаке, 14–15 в. до н. э. и др.).
Видимая простота и целостное мировосприятие легли в основу и великого искусства древних греков. Ставя во главу угла цельность видения мира, они достигли удивительной соразмерности в архитектуре и пластике, в которых человек истинно виделся «мерой всех вещей». Именно «простота» надличностного видения мира позволила грекам создать этическую традицию, непреходящую по своим ценностным категориям.
Созданный ими на основе изобразительной системы Египта канон позволил раскрыть присущий им гений простоты и убедительности. На уровне инстинкта провидя то, к чему приведёт «умственная» оторванность человека от единства с природой, они не заботили себя разработкой сугубо индивидуального мировосприятия.
Отмечая «превосходство (греческой философии. – В. С.) над всеми её позднейшими метафизическими противниками», Ф. Энгельс писал: «У греков – именно потому, что они не достигли ещё расчленения, до анализа природы, – природа ещё рассматривается в общем, как одно целое. Всеобщая связь явлений не доказывается в подробностях: она является для греков результатом непосредственного созерцания». И далее: «Если метафизика права по отношению к грекам в подробностях, то в целом греки правы по отношению к метафизике» [3]. Действительно, в древнем космосе величественной простоты и мудрости не было места тому, что позднее стало называться «психологическим проникновением». Будучи детищем последующей исторической формации, именно «проникновение» научило человека воспринимать и оценивать мир через объективно неверную призму дробного индивидуального сознания. Сумма погрешностей последнего и надорвала цельность видения мира не только в этике, но и в бытии, сузив «космос» земной ипостаси до «плинтуса» потребительского мировосприятия.
Не приходится сомневаться, что постепенная отчуждаемость человека от природы, став фактом одного из позднейших этапов цивилизации Древнего мира, обусловила его желание разобраться в случившемся микрокосме бытия. Само стремление осознать этот микрокосм было закономерно. Хотя бы потому, что заявляет о себе лишь тогда, когда нечто приобрело уже свою самость – некую автономию, настаивающую на себе. Потому что сознавание как принцип постижения может распространяться лишь на другое, на то, что к тебе прямо не относится, что «уже не твоё».
Именно в период расставания человека с «древней душой», связанный с потерей природной цельности и ощущения себя в новом качестве, родилось намерение сформировать адекватные новому видению действительности «понятия». Намерение не только понятное, но и необходимое уже. Ибо лишь постигнув и систематизировав психологически и по факту отчуждённую от человека могущественную, загадочную и не подвластную ему Среду (Вселенную), человек мог идентифицировать себя в ней.
Это прогрессивное с позиции господствующей теории познания стремление распространилось и на всеобъемлющий Универсум (Бога), математический ключ к которому хотел подобрать Пифагор, а Платон пытался философски синтезировать Его свойства. В создавшейся духовной и этической «сумятице» поздней античности заявило о себе христианство.
Замечу, что стремление «возвратить» или по крайней мере познать утраченное, и в последующие века будоражило наиболее отважные и выдающиеся умы человечества. Помимо философов и математиков не оставались безразличными к утерянному человеком «духовному Эдему» и гении Творчества, среди которых выделю Данте, Микеланджело и Лермонтова. Христианское учение менее всего стремилось открыть людям секреты успеха в жизни, а его провозвестники отнюдь не обещали дать ключи от счастья в этом мире.

Распятый Христос. Н. Ге.
Более того, противостоя язычникам с их шаткими нравственными качествами, зависящими от пёстрых верований и неровного уклада жизни, христианство не ориентировало своих приверженцев на спокойную жизнь здесь. Вместе с тем учение, казалось, открывало путь к духовной гармонии. Однако «мёртвые», как оно было и прежде, «хватали живых».
Деформация первохристианского аскетизма, духовно-нравственной полноты и этической цельности была вызвана сложностями вживления нового учения в бытие государства и функции общества, в эллинской цивилизации слагавшегося в симбиозе обычаев и римского права[4].
Однако проблема была не только в этом. Не отвлекаясь на не вполне уместную в рамках намеченной темы религиозность других племён и народов – детищ иных духовных и культурных формаций, осмелюсь коснуться начал христианского учения; концептуально цельного, но по факту конфессионально раздробленного, а в приложении к действительности – противоречивого. Если Первый Христианин нёс своё учение в словах, делах и поступках, то его (легальные впоследствии) апологеты большей частью ограничивались верою, которая, вымирая вне дел, становилась подчас ни к чему особо не обязывающим убеждением. Устойчивость вероубеждения определялась силой духа, а неустойчивость – страхом «убеждённых». Очевидно потому, что и над теми и над другими неизменно висел «дамоклов меч» политической власти, не один век оттачиваемый государственной идеологией. В этих условиях «омертвевшая буква» убеждения, заменяя живое Слово, создавала определённую среду, в которой на этической основе происходило смыкание некоторых категорий христианского учения со светской моралью, господствующими учениями, теориями и тогдашними «философиями жизни». Эти тенденции, подспудно заявляя о себе до официального принятия христианства и тем самым подготовляя для него почву, после легализации учения привели к созданию духовной иерархии – установлению разветвлённого аппарата духовной власти. Последнее стало возможным ввиду компромисса Церкви (по принципу: «кесарево кесарю, а Божие Богу»; Мф. 22:15–21) с испокон веков сложившимися приоритетами социальной жизни.
Однако по ходу исторически вынужденного сосуществования государства и Церкви происходило уточнение духовных категорий. Поскольку «государственная машина», господствующая в мире на протяжении тысячелетий, могла исправно работать, лишь исповедуя «земное», то бишь социальное и политическое, выживание. Ясно, что институт Церкви, существуя под строгим и неусыпным контролем государства, не мог не считаться с силовой «механикой» последнего. Вынужденные, а подчас необязательные компромиссы со светской властью привели к возникновению протестов со стороны ревнителей христианского благочестия (зилотов), которых духовные иерархи нарекали еретиками, а их требования клеймили как еретические. Дальнейшее развитие и умножение ересей утвердило противоречия не столько в духовной природе христианства, сколько в душах, а более всего – в умах его последователей – детищ набиравшей силу «второй» или «предметной реальности». Сразу обозначило себя и с веками усилилось несоответствие моральных настояний христианства с требованиями действительности, развивающейся по лекалам потребления. Разница между благими намерениями человека и его делами образовала непреодолимую преграду, которая дала повод заявить Ницше: «В сущности, был один христианин, и тот умер на кресте». По-другому и не могло быть в событийной истории, вершимой (павшим) человеком. Потому всякий раз, когда провозвещённой истине пытался следовать социальный человек, она неизбежно принимала его жалкое подобие.
Как было ясно задолго до христианства, подтвердилось при нём и неоднократно напоминало о себе в последующих общественных формациях: «истина» является таковою не для всех, а для тех только, кто способен её воспринять. Иными словами, она существует лишь в состоянии осознанности, а это и есть состояние, которое чаще всего посещает духовно одарённых и умственно продвинутых людей. Само же учение в приложении к действительности никогда не бывает выше исповедующих его масс.
Вот и Кьеркегор считал, что знать и осознавать истину ещё недостаточно: в истине надо быть, подразумевая необходимость практиковать знание. Ибо знание истины вне её применения означает бытие вне её. Этот тезис распространяется не только на духовные категории. Так как знаешь лишь тогда, когда умеешь делать. Во всех остальных случаях имеешь лишь представление о деле. В прикладной ипостаси «истину» и вовсе можно свести к тому, что конкретно, ясно выражено и вписывается в объективную необходимость, то есть отвечая требованиям настоящего, сохраняет свои позиции и в отдалённом будущем.
Однако будем считаться с тем, что всякое, даже и «самое точное», определение истины, – это всего лишь костыль, указывающий на то, как она хромает. Словом, «дело» истины имеет множество форм и сфер приложения, на которые мы, естественно, отвлекаться не будем. Обойдёмся лишь признанием пользы стремления к ней. Заострённое вдохновением стремление к истине может привести человека к серьёзным знаниям.
Отсюда важность творчества. Именно оно создаёт пути и придаёт исканиям формы, в своих (духовных) проявлениях не только приближающие к истине, но подчас тождественные ей, ибо в наивысших своих проявлениях они являются её частью!
Понимая это, Густав Флобер считал искусство высшей формой познания. Однако число гениев вселенского масштаба настолько ничтожно, что можно говорить лишь об исключениях, своей деятельностью подтверждающих право соучастия или сопричастности к истине. В сознании остальных она уподобляется отражению в кривом зеркале, вследствие чего «смотрящий» истину видит в нём лишь своё, уж какое ни есть, отражение.
Таковую взаимосвязь (или видение себя) подтверждает историческая практика приверженцев христианского учения, ввергнувших его в ереси, наличие и характер которых они сами же и определяли. Из великого множества ересей упомяну движение апостоликов (вальденсы, гумелиаты, лионские нищие), которые в XII–XV вв. протестовали против обмирщения Церкви и проповедовали апостольскую простоту. Однако корни их протеста берут начало, как можно догадаться, в III–IV вв. В «еретически продвинутые» Средние века к ним подключились альбигойцы, богомилы и множество других движений, которые, в разных регионах Европы являя местные формы духовного разброда, имели свои названия. К наиболее устойчивым и принципиальным «по уставу» ересям принадлежали минориты-францисканцы («младшие братья»), флагеланты («бичующиеся») и донатисты. Если минориты исповедовали крайний аскетизм, то флагеланты, «смиряя» плоть на протяжении XIII–XV вв. самобичеванием, верили, что только избиением своего тела они могут искупить личную греховность. Донатисты интересны тем, что настаивали на примате личного совершенства священнослужителя как залоге действия благодати. Очевидно, предсказуемый неуспех именно в личной ипостаси обусловил историческую непродолжительность движения донатистов. Начавшись в IV в., оно исчерпало себя уже в следующем.
Сделаем, пусть и несенсационный, но важный для нас вывод: драматический ход христианской истории обусловливала борьба духовного начала с мирским, в которой первое исторически последовательно сдавало свои позиции последнему. Именно вымывание из учения духовной причастности к истине способствовало «успешным» компромиссам христиан с формами античной, средневековой и последующей мирской власти. Между тем историческая жизнь показывает, что даже и там, где вера-убеждение христиан мирно сосуществовала с чуждыми им верованиями, учение в своих основных принципах шло вразрез с социальным устроением и требованиями (местных) политических реалий.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?