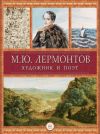Текст книги "Лермонтов и христианство"

Автор книги: Виктор Сиротин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Только при Петре I по всему миру рассеялось более 900 000 жертв духовной и физической тирании! Не пожелав предать старую веру и тем самым изменить отеческим святыням, они стояли перед нехитрым выбором: казнь, увечье, каторга или отвержение от всех гражданских прав. Наряду с устранением из гражданской жизни «раскольников» уничтожались и «письмена языческие», бывшие таковыми уже потому, что принадлежали «старой» вере.
Знал ли Лермонтов о формах и средствах жесточайшей борьбы синодского православия со староверами? И если знал, то как это повлияло на его мировоззрение и отразилось в творчестве?
Ответ очевиден: Лермонтов не мог не знать того, что творилось в России уже более полутораста лет и в наиболее отвратительных формах усилилось именно в правление наиболее жестокого «борца с Расколом», Николая I. Лермонтов мог не знать «деталей» – числа казнённых, запытанных до смерти, изувеченных, сосланных на каторгу и замученных «на свободе» старообрядцев, как и количества покинувших Россию, но не мог заблуждаться относительно трагических следствий Раскола. Зная суть дела, Лермонтов вряд ли мог остаться равнодушным к тому, что изменило духовное существо народа и судьбу России (схожий интерес к судьбе страны наблюдался у Александра Пушкина, о чём свидетельствует его намерение дать панораму реальных исторических событий, потрясших Россию в конце XVII – начале XVIII в.)[38].
Сейчас весьма трудно, если вообще возможно, определить подлинное отношение наших поэтов к «двоеперстной вере» и её несгибаемым последователям, но интерес к теме у Пушкина и Лермонтова, несомненно, был. У Лермонтова об этом свидетельствуют, в частности, «Песня про купца Калашникова» (1837), в которой особенно красочно заявляет о себе глубокое знание автором души народа, народного быта, языка и нравов. Может, именно поэтому дивное произведение было сотворено, как «песня», – на одном дыхании. Ибо, по словам Лермонтова, поэма была написана им в три дня (!), когда по болезни он не мог выходить из дому.
Виссарион Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1840) писал о поэме: «…поэт от настоящего мира неудовлетворяющей его русской жизни перенёсся в её историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился с ним всем существом своим». И повторяет: «Самый выбор этого предмета свидетельствует о состоянии духа поэта, недовольного современной действительностью и перенёсшегося от неё в далёкое прошедшее, чтобы там искать жизни, которой он не видит в настоящем». Но «русская жизнь» (читай – духовная жизнь), о которой лишь обмолвился Белинский, имеет не только политические и социальные формы, критиковать которые в России при Николае было совершенно невозможно. Главной проблемой страны было затянувшееся в истории духовное небытие народа, о чём критик вообще не особенно распространялся, а в данном случае по понятным причинам не смел писать. Надо думать, именно знание тайников духа народа, подмеченное Белинским, позволило Лермонтову выразить благодать веры главного героя поэмы, олицетворив в нём несокрушимую силу духа и богатырскую удаль народа. Оно же помогло поэту избежать субъективного, этически неверного и исторически безответственного отождествления народа лишь с позитивным, духовным и нравственно прекрасным. Ибо народ – особенно во времена духовных смут – бывает ещё злонамерен и подл, что подтверждает та же история – и не только России. Лермонтов мыслил категориями, которые помогали ему проникать в глубинные пласты народного бытия, приближая его понимание к истинному. И не случайно в той же статье Белинский отмечает разницу между духом народным и духовной автономией автора, посредством художественного Слова вовлечённого в «царство народности»: Лермонтов «вошёл в царство народности как её полный властелин, и, проникнувшись её духом, слившись с нею, он показал только своё родство с нею, а не тождество… показал этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего отечества».
В поэме Лермонтова налицо духовное и нравственное противостояние; восстание чести против бесчестия и нравственного (применительно к теме – конфессионального) разложения, олицетворённого в гуляке-опричнике. «Он вышел из-под опеки естественной нравственности своего общества, а другой, более высшей, более человеческой, не приобрёл: такой разврат, такая безнравственность в человеке с сильной натурою и дикими страстями опасны и страшны», – писал о беспутном Кирибеевиче Белинский.
Не менее очевидно и то, что духовному величию и нравственной победе правого дела сопутствует метафизическое (в бытии – историческое) его поражение, ибо «дело» разнузданной опричнины «на Руси» осталось жить…
Возмездие свершилось! Не зная истинных причин смертного боя, царь в гневе обращается к купцу Калашникову: «Вольной волею или нехотя / Ты убил насмерть мово верного слугу / Мово лучшего бойца Кирибеевича?» Купец отвечает, но тайный по смыслу ответ его автор адресует не только Ивану Грозному, но и (не без вызова и упрёка) своему времени. «Я скажу тебе, православный царь…», – говорит оскорблённый муж, создавая «треугольник» из личности, царя и веры, в котором вера личности формально терпит поражение с неправославным по духу царём.
Здесь отвлекусь от диалога и напомню, что особенно в те времена заезжих иностранцев поражала беспрецедентная сила духа и веры русского народа. Именно тогда «время» и вера содержали в себе ту нравственность и те «железные ноги», на которых стояло православие. Именно духовная воля долго ещё – и не однажды – шла наперекор власти, правительству и самому царю. Вот и Кирибеевич боязно склоняется перед «правдой истинной», исповедуясь грозному царю в том, что соблазнённая им красавица «В церкви Божией перевенчана, / Перевенчана с молодым купцом / По закону нашему христианскому». В отличие от опричника купец Степан Парамонович не просто стоек в вере, но готов биться насмерть за поругание брака, заключённого «пред святыми иконами». Потому, идя на смертный бой с преступившим веру, завещает он меньшим братьям свою последнюю волю: «Буду насмерть биться, до последних сил; / А побьёт меня – выходите вы / За святую правду-матушку». Поскольку нравственность в понимании Лермонтова есть инструмент добра, отточенный совестью!
Как известно, духовные установления, святость и правда на Руси при «старой» вере были синонимами. Это единство правд и дало название древнему памятнику славянского права – «Русская правда». Оставаясь верным ей, купец и после поединка не пасует перед царём; он готов предстать со своей правдой на суде Божием: «Я убил его вольной волею, / А за что про что – не скажу тебе, / Скажу только Богу Единому»[39]. В поэме сюжет и самый дух её являют именно тот язык и те нравы, которые были присущи православию, не разделённому «затейками» Никона; то есть мощному пласту древней веры, в той или иной форме продолжающей жить в народе и по сию пору.
Сумма особенностей внутреннего мира купца позволяет думать, что не только по времени, но и по своему духу «Песня…» есть поэмагимн истине в вере! В поэме исключительно сильно явлены «старые» морально-нравственные установления и мощь противостояния даже и государственной (в лице царя) власти, коли она не права…
Отношение Лермонтова к вверенным Синоду поместным епархиям опосредованно прослеживается и в его неоконченном романе «Вадим» (1833–1834).
«Меня взяли в монастырь, – говорит Вадим, – из сострадания – кормили, потому что я был не собака и нельзя было меня утопить (здесь и далее выделено мною. – В. С.)». О духовной жестокости и ограниченности монахов свидетельствуют признания Вадима: «Они заставляли меня благодарить Бога за моё безобразие, будто бы он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от грехов…». «…Все монахи, которых я знал, были обыкновенные, полудобрые существа, глупые от рождения или старости, не способные ни к чему, кроме соблюдения постов…». А вот сцена из церковной службы: «…Он (Вадим. – В. С.) поспешно взошёл в церковь, где толпа слушала с благоговением всенощную, – эти самые люди готовились проливать кровь завтра, нынче! и они, крестясь и кланяясь в землю, подталкивали друг друга, если замечали возле себя дворянина, и готовы были растерзать его на месте; но не смели…». В другом месте Вадим, очевидно, не хуже Мцыри знавший будни монастыря, в грозном отчаянии заявляет своей сестре Ольге: «Не говори мне про бога!.. Он меня не знает; он не захочет у меня вырвать обречённую жертву – ему всё равно…»[40]. Его сестра, пылая гневом и жаждой мести к погубившему их отца помещику Палицыну, не только отвечает настроениям Вадима в ипостаси вожака, но, призывая себе на помощь святые таинства, считает вправе в борьбе со злом прибегать к силе человеческой: «Клянусь этим Богом, который сделал нас несчастными, клянусь Его святыми таинствами, его крестом спасительным, – во всём, во всём тебе повиноваться – я знаю, Вадим, твой удар не будет слаб и неверен…»
Мы уже говорили, что герои художественного произведения не обязательно являются рупорами идей автора, поскольку ткань вольного повествования составляет интерферентную связь многих мотивов, в которых сокрыта (иногда весьма глубоко) мысль автора, его ощущение истины и его истинные ощущения. Однако в приводимых отрывках родство мышления героев и автора подтверждает линейная, не подверженная каким-либо сомнениям передача их умонастроений. Эта связь подтверждается и более поздними произведениями Лермонтова, которые объединяет мотив бегства. Сначала Вадим, потом Мцыри бегут (первый условно, а второй непосредственно) из монастыря, значение которого имеет двоякий смысл. Если в церковной трактовке он олицетворяет собой прибежище духовного братства, не приемлющего ценностей мира (что, впрочем, не является гарантом духовного продвижения, о чём, помимо художественного вымысла, есть немало свидетельств в монастырской истории), то в литературном значении и в светском обиходе – это нередко тюрьма, в коей заточается дух непокорства и свободолюбия. Если Вадим, покинув монастырь, с сарказмом заявляет: «Я… любовался на тюрьму свою; она издали была прекрасна!», то Мцыри уже не любуется «тюрьмой». После неудавшегося бегства возвращённый в «неё», он с гордым отчаянием заявляет старику: «…жизнь моя / Без этих трёх блаженных дней / Была б печальней и мрачней / Бессильной старости твоей».
Итак, монастырь в сознании поэта, мягко говоря, не был средоточием духовных упований. Если расширить вопрос до православного бытия России, то примем во внимание, что Лермонтов не был церковным историком. Следовательно, не мог знать тонкостей духовного Раскола, история которого в то время не была ни исследована, ни написана, а события и факты бесправной жизни староверов передавались в официальных заключениях (как тогда, так, впрочем, и сейчас) очень предвзято. Что уж говорить об истории Раскола, если даже история Российского государства была написана Н. М. Карамзиным лишь в начале XIX в. Лермонтов вряд ли обладал неписаными, т. е. рукописными источниками Раскола, а потому, настойчиво обращаясь к узловым моментам истории Отечества, исходил из собственного ощущения эпохи. К этому поэта понуждало двойственное положение, как Русской Церкви, так и православного народа. Не располагая к оптимизму, оно давало повод к отчаянию и скепсису. И не только Лермонтову…
И в самом деле, утеряв свою независимость к концу XVII в. и с начала следующего став в ряд казённых учреждений, Священный Синод одно время возглавляли не только атеисты, но и масоны, – пусть безвредного, полезно-просветительского или попросту «карманного» типа[41]. Пример Византии никого из русских монархов ничему не научил. Путая Богово с Кесаревым, они включили Церковь в тело государства и тем самым приняли на себя не свои функции. В результате внешняя «христолюбивая» политика России приняла формы, подчас несовместимые с интересами государства. Так было при императорах Павле I, Александре I, Николае I; те же плевела «политики примирения» разбрасывал Александр II (1855–1881), за «пирровы (для России) победы» прозванный в Европе Освободителем. Если в гражданской и общественной жизни религиозное и светское мировоззрение отнюдь не всегда противостоит (а могут и вовсе не противоречить друг другу), то в политике разница между духовным мировосприятием и требованиями необходимости являет себя наиболее чётко (Доп. VII). Она же, принципиально заявляя о себе в общественной жизни, находит своё отражение и в творчестве. Поскольку всё это так или иначе перекликается с исторической и духовной жизнью Страны, проследим различия между церковно-монашеским (монастырским) и светским бытиём.
Самые ревностные адепты православной веры вряд ли будут оспаривать тезис, в соответствии с которым назначение земной Церкви состоит в необходимости указывать направление в Царство истины. А раз так, то не указующий перст должен привлекать внимание, – а именно направление, куда он указывает. Если же «перст» настаивает на себе как на некоей самости, тогда из сознания вымывается представление о самой цели, что и ложно и кощунственно. А так как свято место пусто не бывает, то цель в этом случае заменяется средствами. По этому поводу полезно принять к сведению афоризм Козьмы Пруткова: «Многие вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».
Но заблуждения, как и фанатизм и сектантство, никогда не существуют изолированно. Наиболее распространённые из них, уча тому, что дела человеческие должны подчиняться заботе о душе (что весьма ценно даже и помимо идеи спасения души), очерчивают «духовным скипетром» границы «спасения» таким образом, что они не выходят за пределы церковного обихода. В соответствии с подобными «начертаниями» православный человек, пребывая в подчас изолированном от жизни церковно-приходском «мире» и следуя установлениям и предписаниям поместной церкви, не должен поднимать свою голову выше «уровня» церковной ограды. В подобном ограждённом сознании реальный мир, представляемый как полный антагонист духовного, является неким вместилищем «мирского зла»; мир этот нужно отвергать, по возможности порывая контакты с ним… Мы уже говорили о том, что сектантство внутреннего плана, взращённое ложными «духовными окормлениями», переходит в социальное бытие и через устранение «гордыни» честолюбия убивает в человеке волю «к этой» жизни. Именно такого рода «вера» чревата разрушением прежде всего духовных, а потом уже и социальных устоев общества, исторического бытия страны и в конечном итоге – самого государства!
Лермонтов не мог и не принимал веры в такой форме. Его убеждению было противно изъятое из мира и общества существование. В идеале могущее питать душу и совесть немногих (келейных отшельников и условных монастырских святых), оно не действенно, да и не предназначено для тех, кто родился для воли, а не для монастырской «тюрьмы». Исключения не могут и не должны быть правилом для всех. Сам по себе институт отшельничества далеко не бесспорен. По факту узкий и немногочисленный, он, расширяясь в сознании народа, критической массовостью своей способен создать «миры» изолированные и духовно выхолощенные, плодящие псевдодуховность, не имеющую никакого отношения к спасению кого бы и чего бы то ни было. Словом, возведённое в стиль и принцип жизни, «праведное невежество» напрочь исключает органичную связь духовного и материального мира. Лермонтов, не принимая внешней, обрядовой религиозности, если она не была проникнута искренним религиозным чувством, восставал против такового положения вещей. Благо, что личный опыт у него был. В юности ещё, посещая с бабушкой церковь, он наблюдал подобные «служения Богу». Очевидно, именно их он не без сожаления описал в «Вадиме».
3
Итак, Лермонтов знал, что такого рода «спасение души» заканчивается там же, где начинается. Где же искать причины этих, как оказалось, духовно-исторических противоречий? Суровые требования действительности вносили (или должны были вносить) свои коррективы в мировидение политиков и монархов. Как то показывает политическая история государств: если бытие народа не отвечает нуждам страны – его разрушают бунты и восстания. Примеры вхождения во власть православных аскетов Византийской империи и особенно трагические результаты пользования ими властью подтверждают: религиозное мироотношение условно действенно и (ещё более условно) безгрешно до тех пор, пока не выходит «на свет Божий», то есть за пределы монастырских стен и конфессиональных интересов. Впрочем, обилие условностей не исключает разногласий и взаимную вражду в том числе – цитирую поэта – и «в обители святой». Когда же духовенство начинало учить «мир» тому, к чему не имело ни прямого отношения, ни призвания, и о чём (на это тоже укажем) не имело в рамках мирских категорий правильного понятия, или когда цесарская власть сама склоняла свою выю пред духовной властью, тогда мир полнили сумятицы духовного и бытийного плана. Тогда и государство, потеряв реальную (то бишь – земную) точку опоры, шло и к политическому развалу, и социальному хаосу. Духовный опыт Византии, никогда особо не тяготевшей к разрешению мирских проблем, подтверждает это. Этот опыт, казалось, по достоинству должна была оценить духовно близкая Византии Российская империя. Этого, однако, не произошло…
Бурной смене эпох, как правило, предшествуют духовные смятения и падение нравов, чему почти всегда сопутствует ломка традиций. Вследствие этого меняется пульс жизни всей страны, что приводит к резкому изменению уклада жизни населяющих её народов.
Отрицание православия, каким оно было до проклятий его на соборах 1666–1667 гг., вывернуло наизнанку душу народа. Потому в новой пост-никоновской реальности удалой купец Калашников вполне мог принять участие в пугачёвском бунте под началом какого-нибудь духовно озлобленного Вадима. Но не только «случайная» неприкаянная удаль лихих молодцов и «духовных горбунов» может сбить людей с исповедного пути. В массе своей отнюдь не состоящий из героев и праведников народ, устав от духовного гнёта и ущемления жизненно важного для него родового уклада, сам способен к «лихой» инициативе. И тогда потерявший веру и «царя в голове», взявшись за вилы, народ не всегда в состоянии отличить правого от виноватого! Так оно случалось в России довольно часто, так оно произошло и в дальнейшем…
Неоднократно преданный русский народ с середины XVII в. оказался на духовном распутье и в историческом итоге (имея в виду события в России начала XX в.) отказал в доверии обоим властям – и светской, и церковной. Отсюда та «лёгкость», с которой он при большевиках крушил храмы, не особенно щадя священнослужителей и, понятно, дворянское сословие. Этого следовало ожидать потому, что духовно-историческая твердыня России на протяжении веков приравнивалась к инаковерию, а следование исконному древнерусскому православию означало преступную ересь, которая подавлялась самыми жестокими методами! В этих реалиях купцы Калашниковы, участвуя ли в бунтах, занимаясь ли делом или с головой уходя в добротолюбие, были маргиналами в собственной стране, а внецерковные Мцыри становились агрессивными разночинцами и нигилистами. Ко второй половине XIX в. именно «мцыри», сбросив узы морали и нравственности, оказывались Смердяковыми и Свидригайловыми, а духовные дети их воплотились в социальных бандитов и революционеров. Однако церковные иерархи не желали ни видеть вещи в реальном свете, ни называть их своими именами. Закрепляясь в духовной жизни России, они осуждали едва ли не всякую активность в миру, распознавая в ней дерзость, самонадеянность и «мирскую гордыню». К греху причислялось едва ли не всё, что не вмещалось в духовно разлинованное, социально отмерянное, государственно адаптированное, но при этом исторически недавнее православие. Особенно нетерпимо клир относился к тем, кто, исповедуя православие, не гнулся пред
Церковью как учреждением. Такого рода «еретики» – как «старые», так и новые – по николаевским законам[42] оказались на положении нелегалов. В буквальном смысле, будучи вне закона, они никак не могли рассчитывать на благорасположение духовных и светских владык. Но не искала его ни многомиллионная народная масса России, ни отдельные «удалые купцы». Не падал ниц пред владыками и Лермонтов.
Но какое отношение имел поэт к «запредельным» социальным и политическим инсинуациям и… к староверам-скитникам? И причём здесь, собственно, литература?
А притом, что художественное Слово является одной из важнейших составляющих не только культурного, но и духовного бытия народа, создающего страну и существующего в государстве. В этом качестве участвуя в формировании мировосприятия, оно в духовно-нравственной ипостаси выполняет высокое призвание, говоря словами А. Пушкина, «глаголом жечь сердца людей». С Пушкиным солидарен был поэт и выдающийся переводчик Николай Гнедич: «Чтобы владеть с честью пером, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом».
А раз так, то литература имеет прямое и непосредственное отношение к духовному и, уж конечно, ко всему «мирскому» в жизни человека и общества. Потому что государство (если не слишком мудрствовать в его определении) есть совокупность духовного и социального устроения сего мира, а литература в художественной форме отражает бытие народа в этом устроении.
Следовательно, литература прямо участвует в делах не только культурного, социального и политического, но и духовного бытия народа. «Литература у народа, не имеющего политической свободы, единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести», – писал Герцен, акцентируя своё внимание на важности социального и политического аспекта гражданской жизни.
Таким образом, ставя духовные и политические задачи на своём уровне, литература решает их своими специфическими средствами. Потому теснить или сталкивать литературное Слово с патристикой, требуя от первого тождеств, сродни евангельским, столь же нелепо, сколь уравнивать молитву с поединком.
Всякому своё дело: монаху – благословлять священный бой, воину – участвовать в нём!
Итак, религиозность Лермонтова вряд ли имеет ярко выраженное «конфессиональное лицо». Вместе с тем, его любовь к Отчизне не могла существовать раздельно от веры предков, выраженной православием.
Не явленная в общении с людьми, по существу, предавшими веру отцов, вера поэта со всей очевидностью явила себя в образе купца Калашникова. По-староверчески духовно непреклонный, именно он вышел моральным победителем в битве с реальным злом.
По убеждениям и занимаемой позиции в жизни Лермонтов был нетерпим ко лжи «мира сего» и беспощаден к злу его. Как писатель и философ, он в русской литературе задолго до Достоевского – и весьма глубоко! – ощутил опасность зла не только как такового, но в прямой связи с настоящим и будущим Отечества, а это означает – исторического зла. Существуя в духовном измерении, подчиняющем в нём всё личностное, Лермонтов воспринимал свою эпоху как решающую в битве страны не на жизнь, а на смерть. Жизнь Отечества поэт воспринимал как поле, на котором он должен был найти свою сторону… Выбор этот поэт сделал, как и определил средства борьбы. Лермонтов знал, когда «стяжать мир», а когда становиться под стяги праведного воинства. В своей внутренней жизни неразрывный с Первоисточником, он своим «внешним» существом принадлежал отечественной истории, поэтому понимал: не может придавать духовную силу то, что разоружает сознание! В своём роде Лермонтов был духовным чадом устроителя земли русской Сергия Радонежского. Преподобные «старой» Руси, разнясь по стилю и степени участия в жизни народа с последующими (синодальными) святыми, находились на флангах того духовного воинства, которое билось за правду в миру и Отечестве. Иначе говоря, – участвовали в духовном и земном деле. «Дух мирен», Слово поэта и бич, разящий ростовщиков на ступенях храма, не противоречат, а дополняют друг друга, каждый по-своему излечивая тех, кто способен к оздоровлению. Последнее, очевидно, касалось не всех… «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые», потому «всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь», – гласит Евангелие (Мф. 7:18–19).
Слово Лермонтова побуждало к делам тех, кому нужен был лишь толчок, и обжигало жаром калёного стиха тех, кто того заслуживал! В отличие от песнопевцев и актёрствующих бардов не сладость пустых переживаний нёс Лермонтов. Размахивать мечом картонным был удел других – тех, кого чуть позднее нещадно клеймил Фёдор Тютчев. С горечью наблюдая «мир в петличках», коим была «петербургская Россия», униженно расшаркивающаяся пред всяким движением Европы, Тютчев – поэт и гражданин – ясно выражал то, о чём думал и что знал Лермонтов.
Наблюдая духовный закат Запада и не имея повода для восторгов относительно своего Отечества, Лермонтов видел свою миссию в духовном подвиге сродни ратному. Потому он обращался к «небу» не как раб Божий, а как Творение Его. «Никто так прямо не говорил с небесным сводом, как Лермонтов, никто с таким величием не созерцал эту голубую бездну», – писал С. Андреевский.
И в этом смысле творчество Лермонтова религиозно более, нежели тексты многих выдающихся духовных и светских писателей. Вместе с тем Лермонтов не был и не претендовал на роль духовного поводыря – это удел иной категории людей. Воспринимая картину мира в связях духовной и бытийной истории, Лермонтов видел своё участие именно в таком диапазоне. На этом подчас незримом поле битвы наиболее действенным оружием ему служил «железный стих», которым он нещадно бичевал торгующих совестью, а в другом помощником ему был Глагол метафорического Пророка. История впоследствии не раз подтвердила гражданскую бескомпромиссность Лермонтова, так и не смирившегося с духовной неволей и унижениями своего народа.
Как конкретно на фоне этих реалий выглядит религиозность великого поэта, и что, собственно, является религиозностью в творчестве?
Главнейшим свидетельством религиозного содержания, пожалуй, следует признать духовную сопричастность к созиданию, которое не может реализоваться вне развитого сознания и нравственно ведомой свободной воли человека.
Условный «раб Божий» (не будем пока придираться к этой во многих отношениях ущербной формуле Богопочитания) не есть раб по натуре. Рабское сознание может быть религиозным, но никогда – духовным. Поскольку оно не в состоянии осознать Бога непрестанно пребывает в тенетах мелкодушия и трусости. Облачившись в «вериги» сомнения в человеке вообще и в себе, в частности, оно, отмеченное печатью фанатизма, нередко вырождается в сектантство. Но и высокое сознание есть лишь условие для вышнего осознавания. И если духовным оно является, когда мораль человека и его нравственность подчинены вестнице души – совести, то религиозным оно может быть, если со-вестие это подчинено некой цельности, незримо стоящей над всем.
Сходные процессы наблюдаются в творчестве. Религиозность автора проявляет себя не внешне, не религиозными атрибутами, но лишь, когда душа его в процессе духовного действа становится живой тканью неугасимого и вечного. Ценность духовности в «чистом» виде состоит в том, что она надличностна и в этом смысле анонимна, поскольку личное и авторское в ней растворяется в чём-то большем и куда более значительном, принадлежащем не одному только автору. В этой кульминации духа, творчество, наполняясь религиозным содержанием, становится религиозным. «Под религиозным содержанием искусства, – писал Лев Толстой, – я разумею не внешнее поучение в художественной форме каким-либо религиозным истинам и не аллегорическое изображение этих истин, а определённое, соответствующее высшему в данное время религиозному пониманию, мировоззрение, которое, служа побудительной причиной сочинения драмы, бессознательно для автора проникает всё его произведение». Но участвовать в этом таинстве, продолжает свою мысль писатель, «может только тот, кому есть, что сказать людям, и сказать нечто весьма важное для них: об отношении человека к Богу, к миру, ко всему вечному, бесконечному». В этом смысле творчество Михаила Лермонтова истинно религиозно. Но, натыкаясь на реалии, несовместимые и несопоставимые с духовными категориями, Лермонтов прибегал к пылающему огнём «глаголу», единственно, по его мнению, способному выжечь коросту мелкодушия и пробудить спящую совесть. Наделённый беспрецедентной одарённостью, с юности зрелый поэт как никто остро чувствовал (прибегну к уместной здесь мысли Вл. Ходасевича) «роковую связь человека с художником, личной участи с судьбой творчества». Веря в предначертанное и поверяя здешнее бытие вышним, Лермонтов был непримирим со злом в его бытийной ипостаси. Будучи дворянином и профессиональным воином (и в этом качестве проявляя исключительную храбрость), поэт принадлежал к числу людей, чьи честь и достоинство соответствовали их таланту и духовному величию. Потому гражданская позиция в произведениях Лермонтова заявляет о себе с самого начала – сильно и бескомпромиссно! Даже своего кумира – Александра Пушкина Лермонтов как-то упрекнёт в том, что он пошёл на компромисс с «вельможной» Россией: «О, полно извинять разврат! / Ужель злодеям щит порфира?» (1831). Лермонтов принципиально не согласен с тем, что борьба с публичным злом есть дело полиции, а не поэзии. «…Позабыв своё служенье, / Алтарь и жертвоприношенье, / Жрецы ль у вас метлу берут?», – укоряет пушкинский Поэт «толпу». «Ведомый» Вергилием, Пушкин раскрывает своё поэтическое кредо: «Не для житейского волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв» («Поэт и толпа», 1828).
У Лермонтова иначе.
Осознавая силу «созвучья слов живых», он готов был броситься в битву «на звук тот». Ему куда ближе гражданская позиция «исправившегося» Пушкина, запечатлённая в его ответе «Клеветникам России» (1831).
Уличая «озлобленных сынов» Запада в малодушии пред «наглой волей» Наполеона, Пушкин предостерегает и потомков «клеветников»: «Есть место им в полях России, / Среди нечуждых им гробов». Столь же высокий пафос пронизывает знаменитое «Бородино» Лермонтова, преисполненное духом массового патриотизма и самоотверженного геройства. Именно по этой причине поэт, неудовлетворённый пассивностью своего поколения, приводит ему в пример «дядей», прошедших школу непобедимых полководцев – П. А. Румянцева и А. В. Суворова. В «Бородино» у Лермонтова не очень навязчиво, но всё же заявляет о себе мотив отчуждения сильного духом народа от внешней власти. Этот мотив станет особенно заметным, если сравнить стихотворение с не столь уж давними одами, посвящёнными победе русского оружия. Ни на шаг не отходя от престола, они, по сути, являются безудержными панегириками императорской власти. И это при том, что праведность «помазанников божьих», утверждённая законами и возведённая в абсолют, нередко оспаривали их дела.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?