Текст книги "Наследники Борджиа"
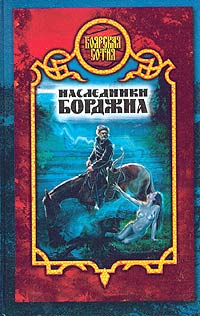
Автор книги: Виктория Дьякова
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Никита покорно разжал руки. Луна заскочила за серую тучу, и свет ее стал блеклым и тусклым как у прогоревшей лампады. На псарне тревожно завыла собака, а откуда-то издалека, из лесных болот, ей ответила уханьем выпь. Белозерские осетры, спокойно почивавшие на дне пруда, заволновались, раздались частые всплески воды, и то и дело над поверхностью пруда, увитого у берегов цветами белых и розовых лилий, замелькали выгнутые серебристые спинки и хвосты. Вассиана высвободилась из объятий князя и быстро поднявшись с травы, накинула на себя блузу, проворно застегивая ее мелкие золотые пуговки на груди и запахнула вокруг талии флорентийскую юбку. Уронив руки на колени, Никита молча наблюдал за ней, не шевелясь. Взгляд пронзительно-зеленых глаз его стал мрачен, а от самых уголков их вдоль загорелых скул пролегли к самому рту две печальные борозды – морщины.
– Хотел бы я взглянуть на того, кто тебя неволит, – промолвил он слегка изменившимся, надтреснутым голосом, – Кто выдумал эту муку для нас обоих, чтоб утолить свою ненасытную страсть властвовать над сердцами и неволить души людей. Неужто сам он никогда не знал огня любви, не ведал тяги, по сравнению с которой и сама смерть – ничто, только возможность вечно быть с любимой?
– И знал, и ведал. И кровь пролил, и всему миру оставил навеки беспримерный подвиг самопожертвования во имя той самой любви, о которой ты говоришь, во имя любви к женщине, которая тоже себя не пощадила, и во имя любви к Богу, что как известно,» движет солнце и светила». И сотворил о ней песни, да только, – Вассиана опустилась на колени напротив Никиты и взяла его руки в свои, – хоть и неизвестно тебе имя его, поверь, величием своим оно вполне заслуженно причислено к нетленному сонму мучеников за Христа. Вот только я всей жизнью своей, грехами своими не заслужила снисхождения, и не оставила ни в одном уголке земли живой души, которая отмолила бы мою дерзкую вину и гордыню. На всем пути своем земном до страшного смертельного ранения, я не просила у Господа того, о чем молю сейчас, с тобою встретясь. И если беспощаден ко мне тот, кто, как ты сам сказал, меня неволит, так только от того, что я сама того вполне достойна. «Мзда всем нам по заслугам воздается. Не меньше и не больше никогда». Не может быть доступно грешнику благословенье, которого не позволил вкусить себе святой. Признайся мне, сеньор Ухтомы, разве не жжет тебе сердце ненависть ко мне за все терзанья, что я уже доставила твоей семье? Ведь я не отрицаю, говорю прямо – все беды ваши от меня. Для того я и пришла в твою жизнь, чтобы ее разрушить. И ничего другого я сделать не могу, ничего другого не умею. Я не хочу, чтоб ложь стояла между нами, и не хочу, чтобы сжигали твое сердце напрасные надежды, коим никогда не суждено осуществиться. В твоей душе, не ведавшей дотоле грешного сомнения, борются ненависть и любовь, и что одержит верх? Вот ты пришел ко мне. Что ж, значит, любовь твоя сильнее. Но знай же наперед, что очень горьким будет мой ответ на преданность твою. Готовься к нему, принц де Ухтом, скрепи сердце свое. Уверена заранее, оно уже не выдюжит более. Ты, наконец, откажешься от меня. Так и должно быть. Так верно.
Княгиня попыталась встать, но Никита удержал ее руку и притянул к себе.
– Знаешь ты, кто осадил монастырь? – негромко, но веско спросил он, не отрывая пристального взгляда от ее разгоряченного лица. – Не твой ли мученик-сеньор послал своих разбойников сеять смерть и разорение на моей земле и осквернить святыню нашу? Отвечай! Знаешь?
Вассиана промолчала, но все тело ее напряглось, как у дикой кошки перед прыжком.
– Что нужно им? – продолжал спрашивать Никита.
Но княгиня упорно молчала. Тогда Никита отпустил ее руку. Еще мгновение – и, казалось, он ударит ее столь ненавистное и безмерно дорогое для него лицо. Но князь сдержался, только сильно оттолкнул Вассиану от себя, так что, поскользнувшись на траве, она едва не упала. Не оборачиваясь, почти бегом поспешила прочь и вскоре исчезла во мраке аллеи.
Никита некоторое время еще смотрел ей вслед, затем поднялся с колен, перекинул через плечо рубаху и тоже направился к дому. За редкими ветвями яблонь, опоясывавших усадьбу, он увидел стремительно мелькнувшую на крыльце флорентийскую юбку княгини и почти тут же последовавшего за ней испанца, который поджидал ее на дворе. Не обращая внимания на Со-мыча, торопливо докладывавшего о приготовлениях к походу, Никита тоже поднялся в дом и у самых дверей своих покоев встретил Стешку, послушно дожидавшуюся его у порога. Завидев Никиту, девушка взволнованно вскочила на ноги, оправляя ленты в волосах, и низко поклонилась до земли.
– Ты что сидишь здесь? – удивленно спросил ее князь. – Или работы нет? Или не спится?
– Работы много, государь, – склонила голову Стеша, – только я вот спросить хотела, не нужно ли чего, воды али вина принести? – Она с надеждой заглянула в лицо Никиты.
– Вина, пожалуй, принеси. – Князь открыл дверь горницы и, войдя, устало повалился на застеленную соболями кровать. – Принеси, Стеша, вина.
– Я мигом, – радостно отозвалась девушка и тут же исчезла.
Никита закрыл глаза. Перед ним тут же снова встало лицо Вассианы, ее сине-зеленые глаза удлиненный формы, как глаза феникса, полные невысказанного страдания и немых признаний. «Где берег тот в благоуханье роз, где гладь Тиррентская, укрытая от бурь, Неаполь окружает?» – вспомнились ему слова канцоны, услышанные еще во время путешествия в Италию, в краю, где на склонах вулканов, окутанных голубоватой мглой, смуглокожие пастухи в бархатных плащах и остроконечных шляпах, пасут ленивые стада овец.
– Государь, государь, вина просили! – Стеша осторожно дотронулась до руки Никиты и пальцы ее заскользили по его плечам и груди. – Проснитесь, государь, – прошептала она ласково, наклоняясь к его уху.
Никита открыл глаза. Стеша осторожно поставила на угол кровати кувшин с вином и забравшись с ногами на постель, стала нежно целовать его лоб, глаза, губы.
– Совсем забыл меня, государь, совсем забыл. Истосковалась я, Никитушка, свет мой ясный, ненаглядный мой государь, – приговаривала она.
Никита инстинктивно обнял ее, но тут же разжал объятия и отстранил Стешу от себя.
– Не нужно, оставь меня.
– Что ты, что ты, государик, миленький? – испугалась Стеша, и в голосе ее засквозили слезы. – Али не мила тебе стала? Разлюбил, стало быть, совсем околдовала тебя иноземка треклятая?
Никита легко приподнял девушку и сел на кровати, поставив ее на пол рядом с собой.
– Я виноват перед тобой, Стеша. – Он старался говорить как можно мягче.
– Не всякий господин на моем месте стал бы объясняться, но я не хочу, чтобы в душе ты таила на меня зло. Я был искренен с тобой, но так вышло, что другая мне дороже самой жизни стала. Не завидуй ей – на ее месте, да и на своем тоже, я и врагу не пожелал бы оказаться. Но это один крест нам с нею на двоих, чтоб всю жизнь тащить его. А ты свою жизнь на меня не трать. Выходи за Фрола, живите счастливо. Приданым не обижу.
– Так, может, переменится еще, государь? – робко предположила Стеша, и из глаз ее скользнула первая слеза.
– Не переменится. – Никита решительно покачал головой. – Не обманывай себя. Она будет мучиться – я с ней буду, она умрет – я за ней пойду. Не дано мне другого. Да другого и не хочу.
– Государь! – Не сдержавшись, Стеша зарыдала и закрыв ладонями лицо, бросилась вон из комнаты. Убегая, она задела край княжеской постели, и кувшин с вином упал на пол, разбившись вдребезги. Никита не удерживал ее. Потупив взор, он молча смотрел на растекающееся по коврам вино, как на все разраставшуюся лужу крови.
На лестнице Стеша едва не сбила с ног неторопливо поднимавшегося в покои князя Сомыча.
– Ошпарили тебя никак, девица? – донесся недовольный голос старого финна. – Вот понеслась, оглашенная! Чего ревешь-то, молодка?
Не ответив, Стеша громко всхлипнула и поспешила вниз.
Пожав плечами, Сомыч подошел к дверям князе-вой опочивальни и, разок стукнув, просунул голову в комнату:
– Шлемец-то почистить бы надо, как скажешь, государь? – спросил он, показывая низкий, изящно выгнутый ратный головной убор, имевший на венце и ушах золотую насечку, а на тулье – высокий сноп из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных во всю длину их яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвесно железная золоченая стрела, предохранявшая обычно лицо от поперечных ударов.
Но видя, что Никита никак не откликается на его слова, Сома осторожно вошел в спальню и, отложив шлем в сторону, подсел к князю на кровать.
– Что невесел ты, Никитушка? – участливо положил он корявую натруженную руку на колено своего молодого господина. – Какая кручина тебя гнетет? Тревога за братца младшего, али еще что? Совсем ты с лица сошел, сокол ясный. Скажи старику Соме. Я ж тебе и за отца, и за мать буду. Малым нянчил. Может, и подскажу чего путное-то, сынок. Авось и полегчает.
– Спасибо тебе, батя, за сочувствие, – Никита обнял старика за угловатые сутулые плечи. – Только как мне рассказать тебе, коли я сам себя не пойму? В самом себе себя утратил, веришь ли?
– А что ж не верить? – глубоко вздохнул Сома. – Небось, немало я на свете пожил. Всякое бывало. Только за Стешку ты не грусти. У нее сердце ветреное, сегодня поплачет, а завтра и позабудет все, как и не бывало вовсе. Бабьи слезы что вода. Солнце глянет – и испарились. Сама не помнит. Но вот заприметил старый Сома, – осторожно продолжил старик, скосив почти выцветший белесый глаз под седой клочковатой бровью на Никиту, – давненько еще, в Ита-лиях тех самых, что со старшим братом твоим у тебя одна зазноба вышла. Не та ль печаль сердце твое сушит нынче?
– Та, отец, – склонив голову, откровенно признался Никита, – она самая. «Цветок Италии, растленный и лукавый», – так, кажется именовали мою зазнобу прежде их поэты. «Безгласый крик разбившейся мечты»… – Он грустно улыбнулся.
– Ну, мы высоким-то словам не учены, хоть и звучит красиво, что скажешь, – крякнул недовольно Сома. – Только в какие слова суть не оберни, а все одно будет. Я тебе, сынок, по-нашему скажу. Сдается мне, что борятся в тебе две силы: злой Шайтан и добрый бог Чампас. И нагнетает в душе твоей Шайтан мысли горькие, чувства недобрые, обиды нешуточные. Затмевают они неверием сердце твое, черной краской малюют лик полюбившийся. Точит, ковыряет тебя червячок этот. Жаль тебе самого себя очень уж. А ты отринь лукавство шайтаново, отстранись и увидишь, поможет тебе бог Чампас узреть то, что даже и старый Сома, хоть глазом да умом не молод, а уяснил – страдает зазноба твоя, тянется к тебе. А значит, сколько бы греха на ней не было, а как Господь учил, страданием очистится вся, что голубка сизокрылая. Так что терпи, сынок. Не себя жалей, ее пожалей. Не о себе пекись – о ней позаботься. Не себя береги – за нее пожертвуй. Вот и окупится тебе сторицей. Одолеете Шайтана совместно, а где надо, там и мы подмогнем, добрый люд везде сыщется, и в Итали-ях их коварных тоже наверняка хорошие люди есть. Терпи, княже. От сторонки родной не отступайся, надо оборонять – оборони, как дед да прадед на поле Куликовом, без страха и сомнения иди. Наша вера истинная, даст Господь – ляхов всех к их пращурам сопровадим, уж не сумлеваюсь я ничуть. Ты только с духом соберись, откинь мысли ненужные. Счастье, может, ждет тебя большое и слава воинская. А как же ты, князюшка, счастья захотел, не помучившись-то? Где ж слыхал ты, что бывает такое? Чтоб испытаний не послав, Господь мечты твои исполнил? Не бывало такого испокон века. Ты слезами сперва умойся, поболей душой, попробуй лиха на зубок, а уж там, коли выдюжишь, судь-бинушка и улыбнется. А верить или не верить в по-дружницу свою – так это каждый сам для себя выбирает. И коли б не видал я, о ком речь идет, так и не осмелился бы совета тебе дать, сынок. Ан, нет. Ведомо мне имячко ее. А потому послушай старика, что в колыбели тебя еще беспомощного качал, – верь. Не так плоха она, как сейчас тебе кажется. А то, что там ее, как выразился ты высоко, рас… рас… Тьфу ты, Господи прости, и не выговоришь, проще по-нашему скажу, распутной называли, так чужим языкам замки не повесишь. И Магдалина грешила, а ведь простил ее Господь. Помучился, но простил. Так и ты. Не сможешь ты с холодным сердцем ее ненавидеть, через нее самого себя ненавидеть станешь, да и порушишь жизнь свою. А ты любовью ненависть-то ту затуши, вот вся она на нет и сойдет. Следа не останется. Вот как с Ляксей Петровичем быть, вот где беда! Да время придет – видать станет. Авось и образуется все. Ты приляг, Никитушка, сосни часок. Перед дорогой дальней да сечей ратной отдохнуть надобно. А старый Сома рядом посидит. Ложись, ложись, государь Никита Романович. Утро-то, как говорится, вечера мудренее будет.
– Верно ты говоришь, отец. Полегчало мне. – Никита с признательностью прижался щекой к сморщенной дряблой щеке Сомы и улегся на постель, закрыв глаза. Сома заботливо укрыл его ярко-желтым шелковым одеялом, подбитым мехом черно-бурой лисы, и тут заметил на полу черепки от разбитого кувшина.
– Вот девица, вот набедокурила и убегла, – заворчал он, подбирая осколки. – Ковер попортила. Ищи ее – свищи теперь. А кто за ней тут убирать должен? Все Сома, все Сома…
Собрав кусочки в подол рубахи, старый финн вынес их из спальни господина, а когда вернулся, увидел, что у постели спящего князя стоит княгиня Вассиана. Она задула свечу у изголовья кровати и присев рядом с князем, тихо опустила свою красивую голову на его грудь и осторожно взяла его руку в свою. Сома поспешно прикрыл дверь и на цыпочках спустился вниз.
* * *
Поутру, едва забрезжила заря над Москва-рекой, Витя растолкал сонного Рыбкина и через заднюю калитку, по проторенной бабкой Козлихой дорожке, поспешил на Даниловское подворье – разыскивать старуху. Рыбкин, прихрамывая, поспевал за ним. Накануне, вылезая из-за кучи мешков с мукой, он угодил в ямку с коровьим навозом и помимо приобретения отвратительного запаха, надолго привязавшего теперь к нему, слегка подвернул ногу. Витя, конечно, отчитал его как следует. Но что поделаешь? Слава Богу, еще не поломал себе ничего.
Выходя из домика для слуг, Витя видел, как седлали на конюшне для князя Ухтомского его любимого вороного скакуна по кличке Перун под червчатой попоной с золотисто-черным султаном в шитом жемчугами налобнике. А вскоре на крыльце появился и сам Никита Романович. Первый янтарный луч рассветной зари ослепительно блеснул на золоченой стреле его начищенного как зеркало шлема, которая была удальски воздета посредством щурепца и поднимаясь до высоты яхонтового снопа, венчающего головной убор князя, походила на золотое перо, воткнутое в полку ерихонки.
«Ух ты, красота какая! – не мог не восхититься Витя. – Прямо горит все!».
Вокруг Никиты суетились Сомыч и Фрол. Но наблюдать за их приготовлениями у Вити не было времени. Надо было выполнять поручение княгини. На Даниловском подворье, где у монастырской стены спали – кто на травке, а кто и прямо в пыли – десятки нищих и покалеченных, Витя к радости своей без особого труда обнаружил Машку-Козлиху, полоскавшую в реке какие-то грязные тряпки.
Гарсиа не ошибся. У запасливой старухи, как в Греции, найти можно было все, что угодно. Причем, все свое «богатое» хозяйство она носила при себе. Узнав о том, что Витю прислали за болотным голубцом, Козлиха что-то заверещала себе под нос и нимало не смущаясь, задрала до ушей верхнюю юбку, отцепив откуда-то с зияющей дырами рыже-малиновой выцветшей нижней юбки холщовый мешочек с необходимым снадобьем. Проделала она все это настолько быстро и ловко, что Витя еще и рта не успел закрыть, высказывая свое поручение, а беззубая Козлиха уже совала ему в ладошку волшебную травку.
– Далеко, далеко на болото черное ходила я за ним. Верст тридцать от Слободы, средь лесу дремучего, Поганою Лужей зовется, – затараторила она, прицарапывая Витину руку крючковатым черным ноготком, – страхов-то насмотрелась, Господи упаси. В водице чистой потом с тремя углями отмочила, да наговор прочла…
– Ты вот что, скажи-ка мне, бабанька, – прервал ее Витя, – голубец-то свежий? Не протух?
– Чо? Не поняла я, прости, сударик, – вытаращилась на него Козлиха.
– Голубец, говорю, подействует? – спросил Витя погромче. – Не испортился там, в юбках-то твоих?
– Так как – испортится? Как испортится? – замахала на него руками старуха. – Если ж его по правилу-то приготовить, вечный он. Уж верь мне, сударик. Я тебя не подводила.
– Верно, – согласился Витя. – Бабанька ты дельная, я гляжу. Проку от тебя много. Прямо шагу без тебя не шагнешь. Ценный работник. Не то, что некоторые, – он обернулся на позевывавшего за его спиной Рыбкина. – Все только спать да есть. Ладно, вот тебе, бабанька, вознаграждение, которое госпожа просила передать. – Витя пошарил по карманам и вручил Козлихе обсыпанный хлебными крошками перстенек с хризопразом, полученный от Гарсиа. – Но если дело сорвется, – он недвусмысленно пригрозил старухе пальцем, – из-под земли достану, так и знай.
– Да, знаю, знаю я тебя, батюшка, уж не сумле-вайся, все путем как по нужде надобно выйдет, – уверяла его довольная ведунья. Покрутив перстенек в заскорузлых коричневатых пальцах, она тут же сунула его в какой-то только ей одной ведомый карман под мышкой. И замурлыкала себе под нос песенку.
– Ну, некогда нам рассусоливать тут, – Витя решительно было сунул тряпицу с голубцом за пазуху, но старуха быстро вцепилась ему в руку коготками:
– Ты к телу-то, к телу его, милок, не клади, – предупредила она, – не то и бровью повести не успеешь, а такая слабина с тобой приключится, что и ног не почуешь.
– Вот так так! – Витя не на шутку испугался. – А как же мне нести его?
– А ты в карман положи, да приговаривай всю дорогу: «Чур, слову конец, делу венец». Так и минует тебя лихо, – посоветовала ведунья.
Витя осторожно опустил голубца в карман кафтана.
Рыбкин перестал зевать и на всякий случай отступил шага на два подальше.
– А ты чего шарахаешься? – прикрикнул на него Витя. – Тоже мне еще друг. Ну, ладно, спасибо тебе, бабанька, – попрощался он с Козлихой, – но время дорого. А нам спешить надобно. Где тебя искать, если что еще понадобится?
– Да здесь я, всегда, всегда, мил-человек, – закланялась колдунья, – ежели нужда какая приспичит – так милости просим…
– Ты только это, бабка, – вдруг вспомнив наставления Гарсиа, наказал Козлихе Витя, – подруге своей, Лукиничне, не говори, что я был, госпожа велела.
– Не скажу, милок, не скажу, – зашамкалг та, – как же, все понимаю я.
– Вот то-то.
Обратно возвращались почти бегом. Петухи давно уже пропели. Солнце поднималось все выше, и от болотистых берегов реки, поросших камышом, поднимался прозрачный утренний пар. То и дело, надрывая тишину отчаянным всплеском крыльев, взмывали ввысь и снова приземлялись на воду стаи диких уток, из камышей доносилось их ленивое покрякивание, на которое тут же отзывалось однообразное отрывистое кваканье лягушек. Резким диссонансом им прозвучал жалобный крик водяной курочки, от которого Растоп-ченко даже вздрогнул, а издалека, из-за лесов, откликнулся ей протяжным воплем филин. В чуткой рассветной тишине долетел до Витииого уха стук топора одинокого дровосека и даже треск надрубленного дерева. Черный ворон низко пролетел над верхушками дубов, покрывших склон перед Даниловским подворьем, громко захлопал крыльями, и зловещее карканье его, повторившись многими отголосками, потонуло в первых ударах колокола на соборе.
Витя торопился. Он ощущал некоторую нервозность, так как, во-первых, его очень беспокоил голубец, который покоился в кармане его кафтана. Он и сам не мог себе объяснить, но почему-то в Козлихино заклинание не верил, а вот в силу голубца – очень даже. Подвергнуться какой-то средневековой порче Вите, особенно не страдавшему «на Родине» плохим здоровьем, вовсе не хотелось.
Во-вторых, сильно раздражал Рыбкин. Витя уже не раз пожалел, что взял теперь сержанта с собой. Мало того, что из-за своего прихрамывания, тот все время отставал, так еще и изрядно кислый вид бывшего сотрудника органов, как после проглоченного лимона, ясно выдавал бесспорный факт, что и на советскую милицию «болотный голубец» произвел изрядное впечатление. Не вызывало сомнения, что Рыбкин даже стал хромать сильнее, только бы идти подальше от Вити.
А в-третьих, Растопченко еще не очень научился обходиться без наручных часов и потому боялся опоздать и тем смазать все дело. Бормоча под нос старухину скороговорку, Витя проскользнул через заднюю калитку в усадьбу Шелешпанских и понял, что спешил он не зря. Князь Никита Романович уже отъехал к государю. Подоспевший Ибрагим Юсупов последовал за ним, а перед самым парадным крыльцом боярского дома расположились временным лагерем прибывшие с Ибрагимом ногайцы и башкиры. Таких воинов Витя еще не видал, и потому не мог не остановиться, чтобы поглазеть, забыв на время даже про «голубец», от которого мечтал поскорее избавиться. Еще от калитки Витя заслышал мерные и заунывные звуки неизвестного ему инструмента, похожие на вой степного ветра или гул макушек деревьев в непогоду. Звук тянулся долго, занудливо, а оканчивался очень резко и отрывисто, напоминая присутствием едва различимого шипения фырканье разъяренного домашнего кота. А вслед раздалось несколько более звонких всплесков, и вдруг полились они рекой, словно множество колокольчиков зазвенело вокруг.
Приблизившись, Витя обнаружил, что зауныв-ч ные звуки издает небольшой рожок в руках одного из ногайцев, а звуки колокольчиков, так те – вот невидаль! – они все вместе, хором выводят… горлом, да так искусно, что и вовсе голоса человеческого не различишь.
– Слышь, а как инструмент называется, вон у того, в шапке, в руках? – в удивлении спросил Витя проходившего мимо Фрола и указал на музыканта. – Не знаешь?
– Как не знать, чезбуга это, что наша дудка или жалейка, – спокойно ответил тот и поспешил по своим делам.
«Вот так так! Дудка, значит…» – подумал про себя Витя и подошел поближе.
Татары не обращали на Витю никакого внимания. Они сидели прямо на земле на широкой вытоптанной поляне перед крыльцом, в кружок, с поджатыми под себя ногами, и раскачивались в такт музыки.
Одеты они были весьма разнообразно и красочно. Кто в пестром халате, перепоясанном кушаком, кто в бараньем тулупе, несмотря на жару, кто в расшитом золотом верблюжьем кафтане. Под одеяниями проглядывали кожаные доспехи. Головы воинов украшали нахлобученные до бровей меховые шапки, сплошь обвешанные большими и маленькими звериными хвостами, у кого от белки, у кого от лисицы, а у кого и от барса. Из-под шапок торчали длинные засаленные косицы волос.
Широкоскулые смуглые лица их были изрядно намазаны жиром, который, плавясь на солнце и изрядно привлекая мух, буквально облепивших щеки некоторых воинов, стекал на их одежды и источал тошнотворный запах. Но привыкших к зною кочевников ничто не смущало.
Воткнутые в землю копья их торчали возле, отбрасывая длинные тени до самого сада. Низенькие степные лошадки, с толстыми косматыми ногами в кожаных наколенниках, паслись тут же под присмотром одного из княжеских конюших. А чуть в отдалении, под сенью грушевых деревьев виднелись несколько войлочных кибиток.
Набрав в легкие как можно больше воздуха, солист дул в свою длинную репейную дудку, уперев ее концом в верхние кривые и коричневатые зубы, пока хватало духа. А другие подтягивали ему горлом. Подустав, музыкант доставал из-под тулупа висевший на поясе кожух с питьем и, смочив толстые лоснящиеся губы обильно сдобренным жиром молоком, продолжал выводить свои бесконечные грустные переливы, в которых нет-нет да и прорывалась дикая тоска кочевого племени по бескрайней первобытной степи, пронизываемой всеми ветрами, метания растревоженных табунов и устрашающая ярость набегов.
Появления Гарсиа отвлекло Витю от прослушивания татарского фольклора. Натолкнувшись на строгий взгляд испанца, Витя вспомнил о «голубце» и, дав знак, что все в порядке, поспешил к условленному месту, на старую конюшню. Для отвода глаз он немного поплутал между хозяйственными постройками и, наконец, тщательно осмотревшись по сторонам и убедившись, что все спокойно, толкнул рукой покосившуюся дощатую дверь.
Де Армес встретил его прямо на пороге. Ухищрения Вити по соблюдению секретности не вызвали у него восторга, так как время поджимало. С огромным облегчением Витя сунул испанцу в руки холщовый мешочек с «голубцом». Инстинктивно он даже осмотрел свои пальцы и ладони, не вскочило ли где чего. Заметив его движения, испанец иронически улыбнулся:
– Долго искал старуху? – спросил он.
– Да нет, – ответил Витя. – Только пришли к подворью, сразу – вот она, ненаглядная, тут и есть.
– А где же задержался?
– Да так… – Вите не хотелось рассказывать про свои мытарства с Рыбкиным. Зачем портить имидж?
Но Гарсиа уже больше не интересовался этим.
– Скоро принц Никита от государя воротится, – продолжал он. – Видел, татары уже приехали? Поджидают их и Ибрагимкой. Так что ты канареек не считай и ворон тоже. Сразу к принцу беги. Подготовил речь?
– А как же! – соврал Витя. Сам он еще и не думал об этом. Но надеялся на экспромт, что нужные слова вовремя сами подыщутся.
– Ну, смотри… – Гарсиа, видимо, догадался, что Витя покривил душой, я– На мои подсказки в этот раз не рассчитывай. У меня другая работа будет. Только вот что важно, запомни хорошенько. – Испанец внимательно посмотрел Вите в лицо своими черными соколиными глазами. – «Прошения» свои подавай не раньше, как меня на дворе заметишь. Но где б ты меня не увидал – на меня не глазей. Твоя забота – в поход напроситься и всех отвлечь, пока я дело свое сделаю. Ну, а согласится принц Никита тебя взять – его слушай. Со мной больше встреч не ищи. И к госпоже не лезь. Я сам тебя в монастыре найду. Понял?
– Ага. – Витя почувствовал, что он снова оказывается в центре какой-то очень запутанной интриги, и с одной стороны обрадовался: опять представится случай себя показать да и заработать тоже, если княгиня не обманет; а с другой – слегка смутился: как еще все получится-то?
Оставив Витю наедине с его размышлениями, Гарсиа вышел из конюшни.
Увидев это, Растопченко поспешил за ним. Теперь уж расслабляться нельзя. Снова завертелась карусель. Только поспевай. Испанец тут же опять исчез, как сквозь землю провалился, хотя только что шел в двух шагах впереди Вити. «И как он это умеет?» – подивился Витя про себя, направляясь обратно к парадному крыльцу княжеского терема.
Татары продолжали тянуть свою заунывную песню. Но едва Растопченко уселся на дощатую скамейку под стеной дома рядом с нежившимся на солнышке толстым рыжим котом поджидать приезда князя Никиты, как зазвенел бубен со стороны главных ворот усадьбы, в который бил кожаной плетью боярский холоп, возвещая домочадцам и слугам о возвращении хозяина. Татары тут же повскакали со своих мест, расхватали пики и, громко тарабаря по-своему наперебой, кинулись к своим лошадкам. Через несколько мгновений с аллеи донесся дробный глухой стук копыт и звон многочисленных колокольчиков, украшавших сбрую лошадей.
На площади перед домом появился князь Ухтомский на вороном Перуне, так рьяно встряхивавшем головой, что казалось, все гремучие золотые и серебряные прорезные яблочки, гроздьями болтавшиеся на его налобнике, вот-вот оторвутся. Алмазное перо, вставленное в сбрую между ушами и алмазные нити, которыми были увиты грива и хвост скакуна, сияли на солнце всеми цветами радугами.
За княжеским Перуном из аллеи вылетел разгоряченный аргамак Юсупова, под траурным черным чал-даром. Остановившись, он громко заржал и взвился на дыбы, чуть не опрокинувшись навзничь. Но седок быстро усмирил его, и почувствовав острые шпоры хозяина на своих боках, аргамак притих.
Сам молодой князь Юсупов одет был скорее по московскому образцу и только отороченная мехом черно-бурой лисицы шапка с пышными хвостами по бокам говорила о том, что именно он является беем над сгрудившимися в сторонке татарами. Лицо жиром молодой князь не мазал. Ростом был невысок, но станом тонок. Из-за низко вырезанного ворота его темно-синего кафтана виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного черным шелковым кушаком с выпущенною в два конца золотою бахромой. Бархатные черные штаны заправлены были в алые сафьяновые сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, спущенными в частых складках до половины икор. Когда Ибрагим спрыгнул с седла, под кафтаном его бряцнуло железо – доспехи. Он тоже был вполне уже готов к походу.
– Государь о судьбе монастыря обеспокоился очень, – сообщил Никита вышедшему ему навстречу из дома посланцу Геласия, – о спасении его обещал молитвы читать денно и нощно. Только вот войско прямо сегодня собрать не успеет. Распущено войско. А те, кто есть, так при службе все. Велел нам государь с Ибрагим-беем ни дня не медля с людьми своими на выручку монастырю скакать, а он вослед нам войско пошлет. Так и сказал игумену передать, что не оставит в беде дорогую сердцу его сторонку.
– Господи, благослови отца нашего, государя всемогущего, ниспошли ему благоденствие, – перекрестившись, низко поклонился монах Арсений. – И тебе, княже, нижайшее благодарствование, что не оставишь в беде.
– Как оставить! – воскликнул Никита. – Сейчас молебен отслужим, с княгиней да братом своим попрощаюсь – ив путь…
Затесавшись среди дворовых, окруживших Ибрагим-бея и князя Ухтомского, Витя вдруг заметил, как из-за дальнего угла дома появился капитан де Армес. За спинами собравшихся людей он прошел к аргамаку Юсупова, и Витя успел увидеть, как в руке капитана мелькнул уже весьма знакомый Растопченко холщовый мешочек. Тут Витя сообразил, что пора действовать. Протолкнувшись вперед, он подскочил к Никите, уже поднимавшемуся по лестнице парадного крыльца в дом, и упав на колени, скорбно запросил:
– Государь, снизойди к просьбе моей! Подумал я, что коли не хватает тебе бойцов, так могли бы и мы тебе чем сгодиться. Не позволяет сердце нам сидеть сложа руки, когда такая беда у порога стоит! Хлеб твой ели, мед пили, жалостью и добротой твоей пользовались. Так позволь отслужить…
Никита сперва очень удивился Витиному порыву, и черные брови его слегка приподнялись. Затем он глянул на Ибрагима:
– Как считаешь, сгодятся нам еще два ратника? Вот прибило их к берегам нашим. Хоть и свены, иноземцы, и верхом ездить не горазды, зато в рукопашной схватке хороши, показали себя на Белом озере. Награждал их князь Алексей Петрович за службу верную…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































