Текст книги "Герман, или Божий человек"
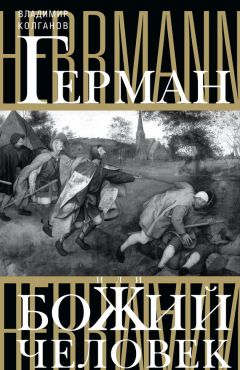
Автор книги: Владимир Колганов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Глава 7. Герман и Булгаков
На первый взгляд это пустые хлопоты – пытаться найти какие-нибудь точки соприкосновения между Юрием Германом и Михаилом Булгаковым. Мне неизвестно ни одного свидетельства о том, что они встречались – будь то в Ленинграде, где Булгаков побывал в 1926 и в 1939 годах, или же в Москве, куда наверняка приезжал Юрий Герман. Да и вряд ли Булгаков мог испытывать симпатию к обласканному властью популярному писателю, славящему трудовые подвиги советского народа. Но было у них и нечто общее. Оба творили примерно в одно и то же время – во всяком случае, многие свои произведения создали в 30-е годы. Оба писали о врачах: у Германа это сценарий фильма «Доктор Калюжный», повесть «Подполковник медицинской службы» и его знаменитая трилогия, а у Булгакова врач становится главным персонажем и в «Собачьем сердце», и в «Записках юного врача», и даже в «Белой гвардии», если припомнить профессию Алексея Турбина. Ну что еще? Оба были женаты третьим браком, и даже у жен были схожие фамилии – Нюренберг и Риттенберг. На этом, пожалуй, сходство и кончается.
Попробую проанализировать различия. Юрий Герман, если верить его сыну, участвовал в «пирах Валтасара», сидя за одним столом со Сталиным, а Михаил Булгаков писал вождю просительные письма и только один раз вроде бы говорил с ним по телефону. Герман был вполне легитимным, признанным писателем, а Булгаков лавировал где-то на грани дозволенного властью, рискуя не только положением в обществе и благосостоянием семьи, но и собственным здоровьем. Если не считать романа «Белая гвардия», некоторых рассказов и пьес о Пушкине и о Мольере, то Михаил Булгаков так и оставался сатириком еще с тех самых пор, как трудился фельетонистом в компании Олеши и Катаева в «Гудке». Надо признать, что в те времена сатирик не мог долгое время быть в фаворе – слишком уж профессия рискованная, чреватая местью со стороны обиженных. Зощенко, впрочем, успел даже получить орден Трудового Красного Знамени, когда находился в зените славы, ну а неприятности начались уже потом. Однако его сатира была сосредоточена на быте, на нравах самой обычной публики. Напротив, сатира Булгакова, по существу, являлась политической, вот только придраться по большому счету было не к чему. И в самом деле, ни профессор Преображенский из «Собачьего сердца», ни герои «Мастера и Маргариты» не произносят контрреволюционных речей, так что Булгакова на первый взгляд и упрекнуть-то не в чем. Разве что припомнить знаменитую фразу профессора Преображенского о том, что не следует читать советских газет перед обедом. И что такого? Это всего лишь забота о здоровом пищеварении, не более того.
Особый интерес в любые времена представляет отношение писателя к действующей власти. Булгаков даже пьесу написал о том, как Жан-Батист Мольер унижался перед королем Людовиком, пытаясь сохранить театр. Юрий Герман, опять же если верить его сыну, «попал под абсолютное обаяние Сталина» и пользовался, но не злоупотреблял благосклонностью вождя. Булгаков же всего лишь надеялся на доброту тирана, на проявление справедливости по отношению к несчастному писателю. Да и то, по правде говоря, надеялся только до поры до времени.
Герман не один раз каялся в грехах, только бы «не выпасть из обоймы» – здесь я имею в виду всего лишь преимущества положения литературного генерала, которого он добился еще в 30-х годах. Если и расставался он с этим званием, то очень ненадолго. И каждый раз после очередной взбучки, полученной от партийных органов, вносил коррективы в свой творческий процесс.
Булгаков только один раз поддался искушению, как бы выпрашивая снисхождение к себе, пытаясь убедить вождя в своей лояльности. Однако и задуманная пьеса о молодом Сталине не помогла – слишком явная лесть всегда вызывает подозрения. В аналогичной ситуации Герман оказался предусмотрительней и тоньше – его рассказы о Дзержинском, вышедшие в свет уже после смерти Железного Феликса, нельзя рассматривать как прославление главного чекиста, а уж о том, чтобы написать о Сталине, думаю, он никогда не помышлял.
Пожалуй, есть определение, которое применимо по отношению к каждому из этих двух писателей. Это – «честный и наивный». Юрий Герман верил в правоту идей, которые он в той или иной мере отстаивал на страницах своих книг, – я имею в виду возможность построения справедливого общества в отдельно взятой социалистической стране. А Михаил Булгаков не сомневался в том, то все усилия властей напрасны, поскольку очевидные для него пороки окружающих людей никак не соответствуют тем принципам справедливости, о которых не перестают твердить с самых высоких трибун. И вместе с тем он наивно верил в то, что справедливый тиран сможет навести кое-какой порядок или хотя бы оказать моральную поддержку талантливому, но униженному и оскорбленному писателю. Эта вера была основательно подорвана в 1938 году, после процесса над «врачами-умертвителями», однако и потом оставалась слабая надежда, которая рухнула лишь незадолго до смерти, после досадной неудачи с пьесой «Батум».
Впрочем, наивность Юрия Германа при ближайшем рассмотрении оказывается не столь уж очевидной. Даже если он разделял в чем-то сомнения Булгакова, свою задачу он видел в том, чтобы пробуждать в людях добрые чувства, что уже немало. Критический реализм, а тем более сатира – не для него. Во многом Юрий Герман оставался тем самым романтиком, который написал еще в юные годы повести «Вступление» и «Бедный Генрих».
«Не совпадают» Герман и Булгаков и в своем отношении к Максиму Горькому. Если для Германа пролетарский писатель стал крестным отцом в том, что касается литературы, то для Булгакова он не сделал ничего хорошего, можно даже сказать, что навредил. Ведь это Горький дал отрицательный отзыв на роман Булгакова «Жизнь господина де Мольера»:
«Нужно не только дополнить ее историческим материалом и придать ей материальную значимость, нужно изменить ее «игривый стиль». В данном виде это – несерьезная работа и – Вы правильно указываете – она будет резко осуждена».
Так отвечал писатель, живший тогда в Сорренто, редактору серии ЖЗЛ А. Н. Тихонову.
Не знаю, кто подсказал Герману этот умный ход – обратиться за помощью к Максиму Горькому? Возможно, догадался сам. А вот Булгаков такого покровителя так и не нашел, хотя и пытался его обрести в лице вождя народов Сталина. Кое-что удалось, однако надолго благосклонности вождя писателю не хватило. В итоге книгу о Мольере положили под сукно, ну а в Художественном театре со скрипом продвигались репетиции пьесы Булгакова все о том же Мольере, начавшиеся еще в 1932 году и затянувшиеся на четыре года. Совсем другое – это горьковская пьеса «Враги». Вот что телеграфировал Немирович-Данченко в Сорренто Горькому, рапортуя о постановке этой пьесы:
«Дорогой Алексей Максимович, рад сообщить Вам об очень большом успехе «Врагов» на трех генеральных репетициях. На последней публика поручила мне послать Вам ее горячий привет. Все участники и я испытывали глубокую радость в этой работе и теперь счастливы ее великолепными результатами. Немирович-Данченко».
Понятно, что Булгаков подобного приветственного послания ни разу за свою жизнь не удостоился. Не удивительно, что в 1937 году его жена записала в своем дневнике впечатления от спектакля по пьесе Горького:
«Пошли в Камерный – генеральная – «Дети солнца». Просидели один акт и ушли – немыслимо. М. А. говорил, что у него «все тело чешется от скуки». Ужасны горьковские пьесы. Хотя романы еще хуже».
И все же в начале 1936 года репетиции «Мольера» завершились, и даже дали семь представлений. Вот запись в дневнике Елены Сергеевны:
«Опять успех, и большой. Занавес давали раз двадцать. Американцы восхищались и долго благодарили».
Здесь имеются в виду первый посол США в СССР Уильям Буллит и другие дипломаты. Насколько я могу судить, мнение американцев для Булгаковых значило немало. Они не раз бывали на приемах в посольстве и в свою очередь принимали американских дипломатов у себя. Казалось бы, ну что особенного? Однако и здесь прошел некий водораздел между Булгаковым и Германом. Я не берусь делать какие-то особенно многозначительные выводы, однако приведу отрывок из романа Юрия Германа «Дорогой мой человек». Здесь гнев Владимира Устименко вызван тем, что американский журналист позволил себе «маленькую шутку насчет боеспособности русского народа»:
«Был час ужина, за соседним столиком брюхатый американский журналист толстыми пальцами чистил апельсин, его военные «прогнозы» почтительно слушали очкастые, с зализанными волосами, похожие, словно близнецы, дипломаты.
– Сволочь! – сказал Володя.
– Что он говорит? – спросил Тод-Жин.
– Сволочь! – повторил Устименко. – Фашист!
Дипломаты закивали головами, заулыбались.
Знаменитый американский обозреватель-журналист пошутил. «Эта шутка уже летит по радиотелефону в мою газету», – пояснил он своим собеседникам и бросил в рот – щелчком – дольку апельсина. Рот у него был огромный, как у лягушки, – от уха до уха. И им всем троим было очень весело, но еще веселее им стало за коньяком».
И еще один фрагмент:
«Возле разбомбленной гостиницы «Заполярье» на гранитных ступеньках и между колонн сонно курили американские матросы – все здоровенные, розовощекие, с повязанными на крепких шеях дамскими чулками, – пытались торговать. Возле одного – очень длинного, совсем белобрысого – пирамидкой стояли консервы: колбаса, тушенка».
Впечатление и впрямь не самое приятное от этих «янки».
Как я уже сказал, иное отношение к американцам было у Булгакова. И вот литературовед и заодно психолог Александр Эткинд, проанализировав дневниковые записи Булгаковых и заново перечитав роман «Мастер и Маргарита», сделал ошеломляющий вывод, будто прообразом Воланда стал именно Уильям К. Буллит, собственной персоной! Когда читаешь такие откровения, поневоле забываешь об основных героях этой книги, ну хоть на несколько минут:
«Пребывание Буллита в Москве довольно точно совпадает по времени с работой Булгакова над третьей редакцией его романа. Как раз в ней прежний оперный дьявол приобрел свои человеческие качества, восходящие, как нам представляется, к личности американского посла в ее восприятии Булгаковым – могущество и озорство, непредсказуемость и верность, юмор и вкус, любовь к роскоши и к цирковым трюкам, одиночество и артистизм, насмешливое и доброжелательное отношение к своей блестящей свите».
Надо признать, что не слишком убедительно, хотя какие-то черты Воланда писатель мог позаимствовать и у Буллита. Но вот очередная порция доказательств:
«Буллит тоже был лыс, обладал, судя по фотографиям, вполне магнетическим взглядом и вместе с Воландом маялся стрептококковой инфекцией, от которой болят суставы».
Тут остается только развести руками. Посол был лыс, но самое главное – у него болят суставы! Неужели и впрямь отношения были настолько близкими, что Буллит рассказывал о своих болячках за обеденным столом? К этому добавлю, что Эткинд разглядел в Воланде дар психоаналитика, которым вроде бы обладал Буллит, набравшийся премудрости у Фрейда.
Но все это как бы присказка. А сказка в том, что, судя по версии Александра Эткинда, Буллит намеревался дать Мастеру «покой», то есть всего-навсего помочь ему эмигрировать из Советского Союза. Ведь Зигмунду Фрейду в свое время он помог бежать из Австрии. Но дело в том, что решение дать Мастеру покой принимал вовсе не Воланд:
«– Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?
– Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе это хорошо известно. – Он помолчал и добавил: – А что же вы не берете его к себе, в свет?
– Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий.
– Передай, что будет сделано, – ответил Воланд…»
Так, может быть, образ Иешуа Га-Ноцри был списан с личности Уильяма Буллита? Или же здесь намек на то, что Буллит – дух зла, а вот американский президент – символ вселенского добра? Последнее лишь в том случае, если бы Рузвельт отдал распоряжение послу вывезти писателя тайком, в дипломатическом багаже из Советского Союза. Так кто же все-таки претендовал на роль Иешуа?
Однако оставим попытки объяснить необъяснимое и попытаемся понять отношение Юрия Германа к тому, о чем с такой печалью в голосе Левий Матвей поведал злому духу Воланду. Для этого обратимся к повести Германа «Я отвечаю за все», а именно к последнему письму Ашхен Ованесовны Оганян, которое Владимир Устименко прочитал уже после ее смерти:
«Странно: я где-то читала, что природа оставляет старикам любовь, которую проще всего удовлетворить, – любовь к покою. Почему же я не только не жажду этого покоя, но ненавижу его, как тех воров, которые обкрадывают моих больных? Да, да, я ненавижу покой, это мой самый главный враг. Я ненавижу спокойных, я не верю им. Если они спокойны, значит, их не касается, значит, им дела нет, значит, они случайно затесались в нашу жизнь и ничего у них не кровоточит».
Пожалуй, эти слова определяют главное различие между Юрием Германом и Михаилом Булгаковым. Булгаков случайно попал в ту жизнь, которую так образно описал в своих произведениях. Лучшие его годы остались позади – это жизнь в большой и дружной семье в родном Киеве, женитьба на дочери действительного статского советника, перспектива добиться вполне обеспеченного существования в качестве частнопрактикующего врача. Если бы удалось эмигрировать в 1920 году, возможно, не было бы знаменитого писателя, зато не появилось бы столь раннее желание обрести покой. Усталость от невзгод, от непонимания, от завистливых коллег, от унижений, от неустроенности быта – эта усталость накапливалась и не давала продуктивно работать. Но оставалась мечта, надежда, что где-то там, за границами СССР, все было бы совсем иначе.
Юрий Герман был моложе Михаила Булгакова почти на двадцать лет, поэтому той, прежней жизни он не знал, ну а во время Первой мировой войны вместе с родителями таскался по фронтам, не ведая того, что творилось в Петрограде, где прожил всю оставшуюся ему жизнь. Так что с наступлением революционных перемен юный Герман воспринял все как данность – ему просто не с чем было сравнивать. Отсюда его энтузиазм, вера в коммунистические идеалы. Если же за энтузиазм, за веру щедро платят, нет никаких причин для появления сомнений в справедливости того, что происходит в стране. Впрочем, сомнения возникали, но уже в зрелые годы, после Второй мировой войны. Скорее даже не сомнения, а досада, вызванная отдельными ошибками, которые допускали невежды, руководившие культурой. Вот и после ареста Бродского был изрядно возмущен, все порывался звонить куда-то, кажется, своим друзьям в угрозыск, как будто Бродский проходил по их делам. Возможно, понимал – не доведет нас до добра то, что происходит. Однако не хотелось ставить под сомнение то дело, которому прослужил почти всю жизнь.
Глава 8. Неистовый проповедник
Готовясь к написанию книги, я перечитал кое-что из произведений Германа – его знаменитую трилогию и повесть «Лапшин», положенную в основу фильма «Проверка на дорогах». Если прежде, основываясь на юношеских впечатлениях, оценивал эту прозу не очень высоко, то вот теперь могу признаться в том, что она произвела на меня довольно сильное впечатление. Особенно взволновала повесть «Я отвечаю за все». Могу даже поставить ее рядом с романом «Время и место» и повестью «Дом на набережной» Юрия Трифонова, весьма почитаемого мной писателя. Причина моего восхищения еще и в том, что многие из нынешних производителей толстых романов Юрию Герману, увы, даже в подметки не годятся. Что говорить, если роман «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова в сравнении с этой повестью выглядит слабее, но не настолько, чтобы назвать роман макулатурой, как это сделал в свое время Иосиф Бродский. Впрочем, Юрия Германа нобелевский лауреат тоже наверняка бы обругал при случае.
Позволю себе привести отрывок из повести «Я отвечаю за все», в котором следователь допрашивает заключенную Аглаю Петровну Устименко:
«Он не поверил своим ушам. Когда в тридцать седьмом подследственный хлопнул его, тогда лейтенанта, стулом по голове, он удивился куда меньше.
– Как вы меня назвали?!
– Как и следует называть такую сволочь: врагом народа…
Ей теперь стало совершенно все равно. Письмо перехвачено. Но как, если им даже неизвестно, кто его передал? Они хотят узнать имя, чтобы покончить с солдатом за то, что он честный. Нет, они не узнают! Она не назовет его!.. А этот белозубый – враг народа, враг! И почти с удовольствием, медленно растягивая слова, Аглая Петровна произнесла еще раз:
– Вы – враг народа! Вы здесь – шайка вредителей и…
Договорить она не успела. Он ударил ее в переносицу – этот способ битья у боксеров имеет свое специальное наименование, а майор Ожогин любил, уважал и понимал спорт с детских, нежных лет. Кроме того, он любил пострелять по зайчишкам, порыбачить, разбирался в шахматах, обожал свою дочку Люсю, свою старенькую маму, жену Соню, которая, и по его мнению, и по мнению его коллег, «неподражаемо» исполняла сольный танец «арабески» в программе самодеятельности войск МВД, любил глядеть на золотистых стрекоз на рыбалке и, главное, свято и безоговорочно верил в то, что дыма без огня не бывает и даром еще никого не сажали».
Вот приходилось читать мнение, будто это первый случай, когда в советской литературе появилось описание пыток заключенных. Думаю, что не совсем так.
Ударить женщину – это мерзкий поступок, издевательство, но еще не пытка. А впечатляет здесь совсем другое – Юрий Герман устами героини повести впервые называет палачей из НКВД теми же словами, которыми клеймили тех, кого мучили в застенках. И смысл этих откровений не в том, что идеи коммунистов непоколебимы, а в том, что любую, даже самую благородную идею можно исказить, превратив в источник удовлетворения своих амбиций, в способ обеспечения собственного благополучия ценой унижения и даже истребления других людей.
И чуть далее по тексту:
«– Сука! – сказал он погодя, когда Аглая Петровна пошевелилась. – Сука! Ты у меня поговоришь!
Она села на полу, возле ножки письменного стола. Из ее носа шла кровь. Ожогину было стыдно, и даже сосало под ложечкой: он ударил беспомощную женщину, да еще женщину лет на двадцать старше, чем он, – но деваться было некуда, и он стал себя распалять словами, которые произносил вслух. Это были низкие и грязные ругательства, но какое это имело значение, если ругал он «изменницу Родине», «фашистскую гадину», «агента гестапо». И, сделав два шага, майор Ожогин встал над Аглаей Петровной и сказал ей:
– Я тебя в кашу сапогами сомну! Понимаешь ты это?
– Сомни, негодяй! – тихо ответила она. – Убей, я же в застенке! Ну? Бей! Что ж ты, вражина, негодяй, гадина? Бей!
Ее горящие, ненавидящие глаза, открытые навстречу смерти, смотрели на него. И он отступил.
Сделал шаг, еще маленький шажок, ничего толком не соображая, крикнул, чтобы позвали из санчасти. И когда Устименко унесли, сел на стул. Его трясло. Ввалившиеся сержанты увидели, что он плачет. Одна слеза текла по его бледной щеке, и, стуча зубами о край стакана, разливая воду, он говорил:
– Никаких нервов не хватает. Понимаешь – «враг народа», так и режет. Это я-то враг народа. У меня и контузии, и ранения, я на мине подорванный, я…»
Конечно, при жизни Сталина никто бы не решился такое написать. Но дело тут не в сюжете, а в том, что и вправду впечатляет! Юрий Герман был не столько повествователь, каких много, но одаренный драматург – его повести словно бы предназначены для сцены, для того, чтобы на их основе делать фильмы. Он понимал психологию своих героев, как никто другой. Когда писал, жил их эмоциями – возможно, именно поэтому сердце и дало сбой в 1955 году. Да, это был писатель!
Не знаю, согласятся ли с этим предположением литературоведы, но у меня возникло впечатление, что прототипом Аглаи Петровны из повести Германа «Я отвечаю за все» была поэтесса Ольга Федоровна Берггольц. Конечно, судьбы у них были разные, но вместе с тем и много общего – несправедливый арест, пытки, возможно, было и письмо Берггольц в ЦК, поэтому и разобрались, освободили, восстановили членство в партии. Впрочем, считается, что освобождение стало следствием смены руководства НКВД, когда с приходом Берии были пересмотрены некоторые дела осужденных при Ежове. Однако могло быть и письмо, иначе с какой стати пересмотрели дело именно Берггольц?
В подтверждение своей версии о прототипе одного из главных персонажей повести приведу отрывок из «Запретного дневника» знаменитой поэтессы:
«Вопрос. Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Признаете себя виновной в этом?
Ответ. Нет. Виновной себя в контрреволюционной деятельности я не признаю. Никогда и ни с кем я работы против советской власти не вела.
Вопрос. Следствие не рекомендует вам прибегать к методам упорства, предлагаем говорить правду о своей антисоветской работе.
Ответ. Я говорю только правду».
По-видимому, это воспоминание о самом первом допросе после ареста поэтессы. Берггольц здесь еще довольно сдержанна, не позволяет себе в чем-то обвинять тюремщиков. О том, что было дальше, в дневнике нет подробных записей, поэтому писатель вынужден домысливать. Хотя не исключено, что поэтесса многое рассказала ему при встрече, не доверив откровения дневнику. В любом случае писатель не ограничен необходимостью достоверно излагать события, он силой своего таланта создает некий художественный образ, который должен передать читателю и смысл, и чувства героини, и ее боль…
И вот еще отрывок из дневника, в котором речь идет о приеме в партию:
«Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена. Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется мне сказать:
«Родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то… Это не изменило моего отношения к нашим идеям и к нашей родине и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось мне, болит и горит во мне, как отрава».
Конечно, трудно сравнивать строки из художественного произведения с записями в дневнике, однако те же мысли, те же эмоции, тот же надрыв чувствуются в каждом слове. Так что влияние на творчество Юрия Германа мыслей и переживаний поэтессы, тех страшных испытаний, которые выпали на долю Ольги Берггольц, – это влияние, на мой взгляд, несомненно.
И снова обратимся к мнению Алексея Германа о литературном творчестве отца:
«Он очень рано начал, но реализовал свой талант не до конца. И так получилось, что широкую известность ему принесли, с моей точки зрения, не самые лучшие вещи. Испытываю от этого жгучую обиду. Прекрасные повести «Лапшин» и «Жмакин» он переделал в несовершенный, по-моему, роман «Один год». Верил, что читатели любят благополучные концы – пусть все завершается хорошо».
Мне кажется, что тут Алексей Юрьевич был не прав. В первые послевоенные годы, когда для всех, кроме немногих «избранных», жизнь была не сахар, кому интересно было читать о том, как плохо им живется, кому нужны были трагедии и то, что теперь называется «чернухой»? Именно поэтому такой популярностью пользовался фильм «Кубанские казаки». Сказка? Ну и пусть! Зато хотя бы в кино или за чтением интересной книги можно отвлечься от ежедневных забот, забыть о трудностях тогдашней жизни. В конце концов, ведь не у всех же в доме были домработницы. Но об этом – ниже.
И вот еще о чем подумалось: Алексей Герман завидовал отцу, поэтому то хвалил его, то в чем-то упрекал. Такой популярности, какая была у Юрия Павловича, сыну явно же недоставало. Кому не хочется быть в своем деле одним из первых, получать награды, чувствовать, что трудишься для многих людей, а не для ограниченного круга почитателей? И тут возникает главное противоречие: с одной стороны, есть желание творить для всех людей, а с другой – может статься, людям это и не нужно. Вот Юрию Герману, на его счастье, повезло.
Опять мнение сына об отцовской прозе:
«Я вот сначала придумал снять про отца, про мать – такое кино. И все его построить на ножницах: их понимание жизни тогда и наше понимание той жизни сейчас. Наша любовь к ним, наше преклонение перед ними, их пронзительный и пытливый ум и наш ум. Но они не отягощены знаниями, а мы обременены ими. Не обязательно, что мы умнее, – просто знаем, что выйдет, что не выйдет. Так я понимаю сейчас и отцовскую прозу».
Тут верно сказано – мы именно «обременены». Верно и то, что знаем, как это все закончилось. Другое дело, что знание фактов отнюдь не предполагает понимание причин. Просто не каждому дано в этом разобраться. Если же исходить из того, что вот для кого-то там, в прошлом, была счастливая, радостная жизнь, несмотря на случавшиеся иногда невзгоды, а теперь по большому счету ни радости, ни счастья нет, – тогда выводы приходится делать грустные, подчас даже трагические, и нынешняя жизнь для такого человека будет словно бы окрашена в темные цвета.
Однако снова Алексей Герман рассказывает об отце:
«У нас бывали ужасные отношения. Он один раз меня ударил, когда мне было 15 лет. Он, конечно, был бедняга: ударил меня, со своей точки зрения, правильно – поучить, но вообще неправильно, несправедливо. Я на Новый год ушел и пришел утром – договорился с сестрой, а сестра побоялась сказать, что она меня отпустила. А родители звонили в морг, в милицию. Когда я пришел, папа сказал: «Ах ты сволочь!» – и дал мне по морде… Вообще, он очень внимательно следил за мной. Все время просил меня что-нибудь написать. Как-то сказал: «Вот ты меня передразниваешь, а напиши-ка в «Россию молодую» кусочек, два абзаца, вот как тебе кажется, как я пишу». Я взял и написал… Он это все, слово в слово, вставил в книжку».
Тут следует добавить, что обиженный оплеухой сын пропал из дома на три месяца – можно представить себе, что пережили любимые родители за это время. Не исключено, что беспокойство о судьбе сына сказалось на здоровье отца – через два года у него случился инфаркт. Странная это штука – сыновняя любовь. К счастью, в тот раз все как-то обошлось. Однако я хотел бы обратить внимание на то, что подростку было доверено право поучаствовать в создании столь важного для отца произведения. Теперь вроде бы понятно, почему этот роман получился не вполне удачным, хотя не исключено, что Юрий Павлович взялся за дело лишь по необходимости, не испытывая вдохновения. А если вновь вернуться к той досадной оплеухе, то что еще можно по этому поводу сказать? Даже если случались «ужасные отношения», вполне естественно, что сын прощал отца. Как не простить, когда всем ему обязан?
«По-своему я крепкий мальчик. Вероятно, в каких-то вещах даже более крепкий, чем отец. Папа все-таки был пуганым, а я – не пуганый, поскольку рос сыном писателя, который дважды пил водку с вождем, у которого была Сталинская премия, огромная квартира, несколько домработниц, личный шофер. Когда папа попадал в какие-то неприятности, постановления и так далее – ниже двух домработниц мы никогда не падали».
Это существенный момент, поскольку количество домработниц – это что-то вроде знака отличия, грамоты о принадлежности к «номенклатуре». Вот, скажем, «у Черкасова было пять человек прислуги, а у нас было трое». Конечно, тут нет и намека на обиду, однако это означает, что есть куда еще расти. Впрочем, допускаю, что мне такие тонкости не дано понять – у нас в доме в Большом Козихинском домработниц сроду не было, ни в нашей семье, ни у соседей. Простым советским инженерам это как-то не с руки. Ну а инженерам человеческих душ, видимо, так было по статусу положено.
И тут возникает странная мысль. Сейчас писателей хоть пруд пруди, а истинных авторитетов среди них не видно. Да и откуда им взяться, если профессия становится не престижной, да и заработки так себе. Может быть, потому и наблюдаем в последние годы размывание нравственных ориентиров? Может быть, оттого и разрастается язва всепроникающей коррупции? Может быть, и вражда между «либералами» и «патриотами» – все это из-за отсутствия вызывающих уважение наставников и поводырей, которым бы хотелось верить? Даже Сталин понимал значение литературы для воспитания масс, поэтому в прежние времена наибольшими благами и привилегиями среди творческой интеллигенции пользовались ведущие писатели – властители дум, защитники идеалов доброты и справедливости. Разные среди них встречались люди, однако многих поминаем добрым словом. Теперь же, когда властителями дум становятся звезды шоу-бизнеса, о каком нравственном совершенствовании может идти речь, о каком согласии можно говорить? Даже любовь к Родине становится чуть ли не ругательным понятием.
Еще одна зарисовка, необходимая для понимания и характера, и мировоззрения Юрия Германа:
«Мой папа был настоящий русофил в стиле девятнадцатого века. Эдакий толстовец. Ходил в валенках, называл поселок Сосново «деревней» и таким образом соединялся с народом. Кончилось тем, что дачные строители, которые, выпивая с ним, клялись ему в любви, дико его обокрали. Папа расстроился, отгородился высоким забором, сменил самогон на коньяк и перестал носить валенки, к великой радости всей семьи».
Несмотря на незначительные казусы в отношениях с народом, в жизни на хороших людей Юрию Герману везло. Вот и издатели его любили, и Алексей Максимович дал путевку в жизнь. И даже в дни невзгод хорошие люди его не покидали, поддерживали, чем могли. Среди его друзей были и соседи по писательской надстройке, и коллеги из дачного поселка: Григорий Козинцев, Евгений Шварц, Дмитрий Шостакович. Алексей Герман вспоминал о встречах друзей в Соснове, где располагались дачи:
«Папа с Шостаковичем дружил. Он приходил к нам по железнодорожному полотну, и они – папа, Козинцев, Шостакович и Шварц, – все с тростями, отправлялись пить боржом в шалман «Золотой якорь».
Немудрено, что вспоминали друзья о Юрии Германе с признательностью и теплотой, хотя боржоми тут, конечно, ни при чем – думаю, что в шалмане пили что-нибудь покрепче. Надо сказать, что писателю особенно нужна поддержка, впрочем, так же как и композитору или художнику. В отличие от кинорежиссеров им приходится творить наедине с самим собой, когда по большому счету некому излить душу, не с кем посоветоваться. И вот в редкие минуты отдыха эта возможность пообщаться с друзьями дорогого стоит. Так и хочется сказать: повезло тем, у кого есть верные друзья!
Близко знаком был Герман и с Константином Симоновым. Об этом писал в своих воспоминаниях драматург Александр Штейн:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































