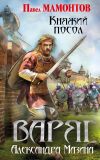Текст книги "За святую обитель"
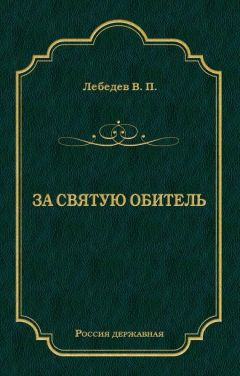
Автор книги: Владимир Лебедев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
На паперти[20]20
Паперть – площадка перед входом в храм, чаще всего со ступеньками. Иногда паперть бывает под навесом или же представляет собой небольшой притвор, со стенами и крышей.
[Закрыть] большого храма издалека виднелась черная мантия архимандрита Иоасафа; блестел в его высоко поднятой руке серебряный крест.
Притих народ, смолкли люди обительские, внимая пастырскому слову. Ближние передавали дальним – так расходилась речь архимандрита по всей обители.
– Слышь, Грунюшка, – ловила бегучие толки старуха. – Хотят нас ляхи нечестивой царице Маринке отдать!..
– Сгинь она совсем! – вмешался седой купец. – Бесам она свою душу продала. Колдунья она, оборотень. Когда мы на Москве Самозванца казнили, в ту пору, православные, обернись Маринка совой серою – и в окно из дворца улетела!..
– Ишь ты, нечисть какая! – крестясь, буркнул посадский. – Так и не поймали?..
– Прямехонько в Тушино пустилась, злодейка. Она же и надумала самозванца-то нового…
– Гляньте-ка, гляньте! – зашумели кругом голоса. – Это никак воеводы на паперть взошли… В самую церковь идут…
– Крест пошли целовать, – отвечали ближние к паперти…
– Чтобы без измены в осаде сидеть…
– Над мощами угодника Божьего крест целуют.
– А доблестен князь-воевода!
– Не впервой ему! Не выдаст обители!
За воеводами начали входить в церковь для крестного целования низшие начальники – сотники, есаулы… Потом потянулись стрельцы, дети боярские, пушкари, казаки верные – и простой народ туда же валил…
А колокола обительские гремели все звончее, все радостнее, словно ликовали: есть-де кому нашу обитель-матушку оборонять, отстаивать…
Добрались до церкви и молоковские молодцы. Ярко горели глаза у Тимофея Суеты, у Данилы, у Анания; только Оська Селевин словно бы скучен был, глядел он все в землю.
Вот пахнуло на них ладаном[21]21
Ладан – душистое вещество (застывшая смола растений Ливана и других южных стран). Ладан сжигается на углях в особых сосудах, подвешиваемых на цепочках (кадилах). Его благовонный дым знаменует возносимую нами молитву ко Господу.
[Закрыть], засверкали пред иконами лампадки и свечи; вот и рака[22]22
Рака – гробница, обычно богато украшенная, с мощами того или иного святого.
[Закрыть] святителя… Взял Ананий крест из рук инока и молвил:
– Братья, товарищи, святой крест целую, нерушимую клятву даю – и за себя и за вас! Не изменим обители!
Истово крестясь, сотворили целование и Данила и Тимофей. После всех Осип Селевин приложился… Темновато было в храме, а то приметили бы, что побледнело в тот миг его лицо, скривились тонкие губы…
Шумела и радовалась толпа богомольцев, гудели колокола. В покое отца Иоасафа старец Гурий вручал Бессону Руготину ответную грамоту за печатью архимандрита. И в самом начале той грамоты таковая отповедь ляхам значилась: «Да весть ваше темное державство, гордии начальницы Сапега и Лисовский, и прочая ваша дружина, векую нас прельщаете, Христово стадо?.. Богоборцы, мерзость запустения, да весте, яко и десяти лет христианское отроча в Троицком Сергиевом монастыре посмеется вашему совету безумному, а о нихже есте к нам писаете, мы, сия приемше, оплевахом. Кая бо польза человеку возлюбити тьму паче света?.. Но иже всего мира не хощем богатства противу своего крестнаго целования…»
Видно, не забыл старец Гурий, как грамоты пишут: пристыдил и опозорил он ляшских начальников…
В польском стане
Разноязычный, шумный говор перекатывался по стану вражьему, что раскинулся за турами, рвами да валами земляными вокруг Троице-Сергиевской обители. Крепко оскорбились ляхи той грамотой, где иноки их пристыдили и опозорили, и с того самого дня работали, рук не покладая: землю рыли, туры готовили, валы насыпали. Так спешили, что к третьему дню октября месяца была святая обитель крепко-накрепко заперта непроходимым кольцом. Между турами чернели жерла пушек, словно ждали их медные пасти, когда им изрыгнуть с огнем и дымом каленые ядра в монастырские стены. Но польские военачальники еще хотели войску передышку дать. Пока молчали пушки и на Волкуше-горе, где стояли полки Сапеги, и на опушке рощи Терентьевской, где разбил свои таборы хищник-удалец – пан Александр Лисовский.
Был уже полдень. К стану Лисовского скакал на лихом коне черноусый воин в красном кунтуше[23]23
Кунтуш – у поляков вид мужской одежды: кафтан с откидными рукавами, спереди обычно незастегнутый и надеваемый поверх жупана. Кунтуши чаще всего шились из дорогих тканей, богато украшались и отделывались мехом.
[Закрыть], в красной заломленной кверху шапочке с соколиным пером. Не доезжая до ставки пана Лисовского, всадник услышал в роще, в самой чаще тенистой, веселые крики и звон кубков и чаш. Пришпорив скакуна, нарядный воин помчался туда.
Пан военачальник Александр Лисовский пировал с приятелями, расположившись на дорогих коврах вокруг бочонков с вином и наливкой.
– А! Пан ротмистр Костовский! – вскричал он, увидев вновь приехавшего. – Просим к нам… Кубок вина!
Ротмистр Костовский, приближенный гетмана литовского, ловко соскочил с лошади.
– Я к вам от пана гетмана, пан Лисовский.
– Чем могу служить его ясновельможности?
– Пан гетман скоро сам сюда будет. Он хочет с паном полковником совет держать…
Александр Лисовский, идя на монастырь, в надежде на богатую добычу собрал такую многочисленную рать, что сам себя переименовал из ротмистров в полковники.
– Совет? Чего тут советоваться! Грянем на монахов – и все!..
– Взгляните-ка на эти стены, пан полковник… – И Костовский указал на просвечивающие сквозь чащу башни и зубцы твердыни обительской. – Там ведь, как говорят, и пороху довольно, и пушкари искусные…
– Пустое, пустое, пан Костовский! Вот постреляем день-другой, оглушим-напугаем черноризцев, а там и на приступ… Я первый на стенах буду!..
– И мы ни на шаг от пана полковника! – закричали собутыльники Лисовского, и громче всех – пан хорунжий Тышкевич, через меру выпивший.
Ротмистр Костовский присоединился к пирующим. В серебряные кубки и в хрустальные бокалы полились венгерские и фряжские вина, зашипели русские меды, награбленные наездниками по монастырям и боярским палатам. Вольные шутки, хвастливые речи, несдержанный смех оглашали тихую рощу, где доселе звучал лишь псалом благочестивого прохожего инока да эхо монастырских колоколов. Эти колокола и теперь неустанно гремели, но заглушал их буйный говор иноплеменной рати.
Вскоре с шумом и звоном оружия подъехал к роще и сам гетман литовский Петр Сапега со свитою. Важный, толстый вельможа с длинными висячими усами, с горбатым носом, с высоким нахмуренным челом, поддерживаемый слугой, слез с коня.
– Vivat, гетман! – закричал Лисовский, спеша навстречу гостю с полным кубком в руках.
– Vivat! Vivat! – повторили гости.
Сапега выпил большой кубок венгерского, отер усы и обратился к пану Лисовскому.
– Не начать ли нам пальбу, пан полковник?
– Начнем, пан гетман, начнем! Только наперед отведайте этого меду; а потом пойдем и на окопы…
Ясновельможный не заставил себя просить и отдал-таки честь московскому старому меду.
– Готовы ли ваши люди, пан полковник?..
– Сами увидите, пан гетман… Еще кубок…
Выпивши вдоволь, веселые, с багровыми лицами, со сверкающими глазами паны вскочили на коней и понеслись к турам. Завыли сигнальные трубы…
Александр Лисовский любил повеселиться, но и ратное дело хорошо разумел. Не раз похвалил его Сапега за возведенные валы и туры. И жолнеры полковника хоть и подгуляли с утра, а все же быстро и стройно сомкнулись у своих значков. Пушки были давно заряжены, прислуга стояла с готовыми запалами.
Полковник Лисовский, бойко позванивая шпорами, повел гетмана к большому серединному укреплению, которое было возведено напротив Водяной башни. Целыми горами были навалены высокие, крепкие туры, и в широкую бойницу высовывалась огромная, старинная, позеленевшая медная пушка.
– Взгляните, пан гетман. Такой пушки у вас, наверное, не найдется, – похвалился полковник. – Ее взял еще наш славный герой Стефан Баторий, когда осаждал Псков. Вот тут пониже вырезано ее имя по московскому обычаю.
Гости с любопытством осматривали огромное орудие. На крепком медном устое славянскими литерами вырезано было – «Трещера».
– Посторонитесь, панове! – крикнул Лисовский. – Сейчас пошлем ядро монахам.
Рыжий пушкарь умело и ловко навел Трещеру и поджег затравку. Пушка хрипло громыхнула – чугунное ядро, засвистев, ударилось в каменный пояс монастырской башни и глубоко засело в ней.
– Хорошо намечено! – воскликнул Сапега.
– Какова пушка, таков и пушкарь! – заметил хвастливо полковник, указывая на рыжего воина, на лице которого изобразилась хищническая радость…
– Монахи отвечают…
Действительно, на Водяной башне показался белый клуб дыма. Ядро засело в передовые польские туры.
– Пан полковник, начинайте пальбу из всех пушек и пищалей, – сказал Сапега. – Мои тоже начнут…
Один за другим выстрелы слились в непрерывный гул, который еще увеличивался густым звоном обительских колоколов.
Словно сотни огромных, дымных змей поползли со всех сторон к стенам и башням. В ясном осеннем воздухе эти дымные змеи колебались, перекрещивались, сливались, таяли; на место их ползли из окопов новые. Со стен тоже заструились бело-дымные полоски – обитель отстреливалась. Колокола гудели по-прежнему.
– Славная музыка! – ликовал Лисовский. – Глядите, панове, сейчас опять грянет Трещера.
Пушка громыхнула, и один из зубцов Водяной башни, разбитый ядром, посыпался вниз пылью и осколками.
– Vivat! – крикнули паны. Пальба звучала беспрерывно.
– Еще по кубку венгерского, панове! – предложил Лисовский, махнув рукой своей челяди[24]24
Челядь – в старину собирательное название свиты и слуг какого-нибудь знатного и влиятельного лица.
[Закрыть]. – Под ядрами оно вкуснее.
– Откуда у вас этот пушкарь, пан полковник, – спросил Сапега в то время, как им расстилали ковры под защитой тур. Гетман давно уже любовался рыжим стрелком.
– Долго рассказывать, пан гетман. Он родом с Литвы, что-то там сделал, напроказил и просил у меня приюта. Я его испытал – вижу: в военном деле великий мастер… Во всех походах со мной был… Скажу по правде: много у меня верных людей, а вернее Мартьяша нет!
– А если он убийца, святотатец?[25]25
Святотатец – в более узком смысле преступник, что-либо похитивший в церкви (древнерусское тать означает вор). В более широком смысле святотатством называется оскорбление или поругание святыни.
[Закрыть] – улыбаясь, сказал Сапега.
– Какое мне дело до этого? Уж не думаете ли вы, пан гетман, что я боюсь суда? Ха-ха-ха!
– Удалец вы, пан полковник!
Шумную и веселую беседу польских военачальников прервал опрометью примчавшийся гонец из стана Сапеги. Конь его был весь в мыле.
– Ясновельможный пан гетман! – крикнул гонец, еле-еле отдышавшись. – На казаков напали московиты!
– Бредишь, пан Велемоский! – воскликнул Сапега, вставая поспешно с ковра. Повскакали и остальные.
– Правда, пан гетман! Они словно из-под земли выросли там, у пруда, где наши туры стоят; так и посыпались из глубокого оврага. Теперь резня идет…
– На коней, товарищи! Выручим казаков, а то эти трусы сейчас разбегутся… Живей!
По одному знаку Лисовского отборная сотня его гусар через мгновение мчалась уже за своим полковником и за гетманом.
Место схватки было недалеко. Удальцы обительские прокрались по глубокому Сазонову оврагу, что начинался у самых стен, и с тылу нагрянули на беспечных казаков атамана Епифанца. Схватка еще длилась. Паны увидели с полсотни рослых молодцов, которые, сжавшись в плотную кучку, отстреливаясь и отбиваясь бердышами[26]26
Бердыш – оружие: широкий и длинный топор на длинном топорище. Поставленный у ног бердыш верхним концом своего лезвия был на уровне головы воина.
[Закрыть], отступали к оврагу; видимо, воины монастырские спешили укрыться под защиту выстрелов со стен и с Плотнишной башни. Лисовский и Сапега сразу заметили, что побоище было нешуточное: три-четыре пушки были попорчены, туры – опрокинуты и изрублены; груда казачьих тел чернела у окопов.
С яростными криками понеслись поляки к месту схватки, наклонив длинные, острые копья.
– Приналяг, братцы, напоследок! – зычно окликнул своих богатырь Ананий Селевин, что впереди всех бился.
Не отставали от Анания Данила и Осип; рядом с ними держался и Тимофей Суета с тяжелой пищалью в руках; были тут и Павлов Семен, из послушников, и Айгустов Меркурий, пушкарь, и Пимен Тененев, и другие ратники обительские.
– Пальнем разом, братцы! В коней меться!
Разумен был совет сметливого Данилы Селевина. Уж близко были ляхи, кони их, что стрелы, неслись; еще немного – и смяли бы они пеших защитников монастыря. Но как грянули разом пищальные выстрелы – мигом вздыбились передние кони, попадали, задним путь загородили. А пока гусары ляшские справлялись со скакунами, смельчаки в овраг соскочили и перебрались через кусты и каменья на другую сторону.
Пан Лисовский бранился и проклинал всех, лежа под своим убитым скакуном, который, упав, отшиб и придавил ему ногу. Гусары поспешили к нему на помощь.
– Вперед! В погоню! – бешено закричал он, с трудом влезая на нового коня.
– Пан полковник, нельзя идти прямо под пушки, – заметил ему гетман.
Несколько ядер, пущенных со стен, ударились неподалеку. Кучка удальцов бегом пробиралась к монастырю, изредка оборачиваясь и грозя врагам. Лисовский с гневом глядел им вслед.
– Ну, пан гетман, тогда осмотрим наши потери…
Отряд вернулся к полуразрушенным турам. Казаки уже убирали тела убитых товарищей; те, которые ударились в бегство при неожиданном нападении, теперь возвращались нехотя, пристыженные. Атаман Епифанец, смуглый, седоусый, с густым чубом, завернутым за ухо, сумрачно помахивал раненой рукой.
– Эй, атаман! – крикнул ему гетман. – Вы москалей-то проспали, что ль?
– Малость загуляли молодцы, пан гетман. А те невесть откуда взялись. Мне тот, передний-то, чуть руку не отсек…
Сапега нахмурил брови и глазами сверкнул. Но больше не стал ясновельможный упрекать и бранить казацкую вольницу: знал он, что коли захотят казаки, то сейчас уйдут, – грабить-то да разбойничать везде можно.
Тем временем Лисовский осматривал попорченные пушки. Вдруг из-под одной из упавших тур послышался стон раненого. Полковник нагнулся…
– Эге, остался один! – радостно воскликнул он. – Сюда, товарищи, – пленник есть…
Казаки и гусары бросились на призыв полковника. Из-под сломанной туры вытащили молодого монастырского воина. Голова его была рассечена ударом казацкой сабли; по бледному лицу текли ручьи крови; он едва мог держаться на ногах, но глядел прямо в лицо врагам, смело и бестрепетно.
– Кто ты? – спросил, грозно приступая к нему, Лисовский.
– Слуга обительский, Лешуков Иван, – твердо ответил тот.
– Ты был с этими, что на нас налетели?
– Был и вон ту пушку я топором разбил…
Пленник указал на большую поломанную пушку и радостно улыбнулся, глядя на сурового пана.
– А ведомо тебе, сколько в обители ратных людей?
– Ведомо, только про то я вам не скажу.
Лисовский взбесился и ударил пленника по лицу.
– Шутки шутить вздумал? А пулю в лоб?!
Пошатнулся Иван Лешуков от удара, еще сильнее заструилась кровь из раны его; но, как прежде, остался он светел и тверд лицом…
– За веру православную, за обитель святую готов я приять венец мученический… Стреляйте, ляхи…
– Я тебя в смоле сварю!.. Я тебе бороду по волоску вырвать велю! – бешено закричал полковник.
– Твоя воля, пан. Все снесу, а от меня слова не дождешься…
Пленник прислонился к соседней туре и умолк. Польские солдаты бросали на него свирепые взгляды, но казаки посматривали на удальца ласково – по сердцу была им его отвага и смелость.
– Взять его в мой стан, – велел полковник. – Там из него мой Мартьяш что хочешь вытянет. Не железом, так огнем доймет – он свое дело знает… А нам, пан гетман, пора и пообедать после такой скачки.
С привязанным к седлу пленником отряд снова полетел к стану Лисовского. На этот раз полковник пригласил гостей в свой шатер, что был разбит за холмом на опушке рощи. Под просторным полотняным наметом были навалены целые груды награбленного добра. Тут были боярские кафтаны и ферязи с золотыми застежками, и женские летники[27]27
Летник – верхняя одежда русских женщин, надеваемая поверх рубахи, чуть более короткая, застегивающаяся спереди и имеющая длинные и широкие рукава. Летник был самой нарядной частью одежды и обычно богато украшался.
[Закрыть], и кокошники, расшитые жемчугом, и блюда серебряные, и драгоценные оклады со святых икон, сорванные безбожными руками… Сверкало насечкой и резьбой разное дорогое оружие, в кучу были свалены шлемы, кольчуги…
– Вы запасливы, пан полковник, – сказал Сапега.
– Все военная добыча, пан гетман. За все литовские жиды чистыми червонцами заплатят…
На зов полковника явились проворные, нарядные слуги в красных с золотом жупанах[28]28
Жупан – на Украине и в Польше род мужской одежды, длинный (ниже колен) кафтан, часто с нашитыми на груди петлицами. Поверх жупана носили кунтуш.
[Закрыть]. Они несли блюда, кубки и бокалы. Звон серебра, золота и хрусталя наполнил шатер; грохот пушек и перезвон монастырских колоколов доносились лишь как отдаленные раскаты грома. Перед гордыми, веселыми панами появились пироги с дичиною, жареное мясо, вареные овощи. Полные медом и вином фляги стояли целыми рядами.
– Настоящий пир, пан полковник! – воскликнул Сапега.
– Как же иначе? У меня пан гетман в гостях…
Но пирующие недолго обменивались любезностями – рты скоро были заняты приятной работой. Привыкшие к военной жизни паны угощались так же весело и беззаботно, как будто бы где-нибудь в замке, на родине.
– За нашу добычу и на погибель монахам! – провозгласил хозяин, поднимая кубок с венгерским.
– За добычу! – отвечали хором алчные наездники.
– А пленник, пан Лисовский? – спохватился через некоторое время Сапега.
– Пленник в хороших руках, панове. Теперь уже он наверняка заговорил, – полковник злобно усмехнулся.
Полы шатра слегка раздвинулись, показалось хитрое лицо пушкаря Мартьяша – рыжий литвин несмело вошел к пирующим; его маленькие глазки смущенно бегали по сторонам; он униженно и льстиво кланялся.
– Ну, что пленник? – крикнул ему Лисовский.
– Ясновельможный пан полковник, – запинаясь, хриплым голосом начал Мартьяш. – Я не виноват!
– Что случилось?
– Этот московит, пан полковник… Он был такой несговорчивый… Я его кольнул раза два кинжалом, а он…
Литвин перевел дух и опять начал кланяться…
– Говори! Говори! – наперебой закричали гости.
– А он, ясновельможные, упал… И гляжу – уж не дышит!..
Лицо полковника побагровело от гнева. Он вскочил с места и схватился за свою кривую саблю. Но Мартьяш рухнул к его ногам и завопил:
– Не гневайтесь, пан полковник! Этот москаль был простой жолнер… Он ничего не знал! Я сам разузнаю все что нужно ясновельможным панам. Только повелите, пан полковник…
Лисовский так же скоро успокоился, как вспылил. Он выпил кубок меду и вопросительно взглянул на рыжего литвина. Мартьяш, почуяв, что опасность миновала, стоял уже на ногах.
– Ясновельможные, – заговорил он уже смелее, с хитрой улыбкой, – клясться я не буду, да моей клятве даже ни один ксендз не поверит… А скажу вам попросту: отсыпьте мне сотню червонцев, и я монастырь возьму. Пан полковник давно знает Мартьяша, частенько я ему пригоден был…
– Говори дальше! – сказал Лисовский, видя, что хитрый литвин ждет ответа. – Двести дукатов получишь.
– Верю слову пана полковника… Ясновельможные паны, может, не знают, что я служил в войске королевском, как король Баторий Псков брать хотел. Был я при немце, что королю окопы строил и под псковские стены да башни порох подкладывал. Научился я у немца, как подкопы вести, и готов вам, ясновельможные паны, той наукой услужить. Давно уж у меня эта дума была, с той поры как мы здесь станом стали… И место я уж высмотрел, ясновельможные: всего лучше под угловую башню подкопаться; ветха башня, еле держится…
– Дело говоришь, – сказал весело Лисовский. – Вот тебе для начала! – и бросил литвину горсть дукатов.
– А если ясновельможные про силу монастырскую знать хотят, – продолжал Мартьяш, пряча дрожащими от алчности руками золото, – так и в этом я им служить готов. Речь московская мне знакома; прикинусь перебежчиком, все узнаю, все высмотрю… Ночью в монастырь наших жолнеров впущу… Эх, ясновельможные паны, и не такие дела на своем веку делывал рыжий Мартьяш! Только добычей не обидьте…
Жадно слушали пушкаря паны, и весельем горели их глаза, затуманенные медом да венгерским.
– Завтра же подкоп веди! – воскликнул Сапега и тоже Мартьяшу горсть дукатов отсыпал. – А потом и в монастырь тебя пошлем. Правда, пан полковник?
Лисовский, радостный и довольный, хохотал, взявшись за бока.
– Лихо! Лихо, пан гетман! Каков у меня Мартьяш?
И опять пошла панская попойка, песни зазвучали; начали паны лобызаться, друг друга со скорой победой и добычей поздравлять. Крик и шум стоял в шатре.
А с окопов все сыпались в стены и башни обители ядра, все ревели, как звери голодные, польские пушки со всех сторон. Обитель словно плавала в облаках дыма порохового, отстреливаясь от врагов; и непрерывно, стойко, громко и торжественно гудели с колоколен обительских большие и малые колокола…
В огне
Третий день настал с тех пор, как заговорили польские пушки, а все не умолкал их дикий рев, все изрыгали их медные жерла огонь, дым и чугун. Хуже всех приходилось тем монастырским пушкарям, что засели на Водяной башне, напротив злой пушки Трещеры. Но и тут явное чудо свершалось, хранил святой Сергий своих воинов: ядра сбивали зубец за зубцом, вонзались в каменную толщу стен, но народу били немного; да и башня, хотя вся тряслась и осыпалась, а трещин не давала… Пробоины заделывали глиной с песком и мелкими каменьями.
Самый ловкий пушкарь обительский Меркурий Айгустов, из детей боярских, служил примером другим воинам.
В ясное октябрьское утро живая работа кипела наверху Водяной башни; молодые послушники носили снизу по каменной узкой лестнице ядра и порох; пушкари наводили жерла на туры вражеские, заряжали пушки…
– Не спеши! Не спеши! – покрикивал Меркурий Айгустов своим помощникам. – Пусть ляхи без передышки палят – уморятся скорей. Ну, с Богом…
Подожгли запал, грянул выстрел; видно было, как одна тура, сбитая ядром, осела, свалилась и открыла красные жупаны польских воинов.
– Наводи на них!
Новое ядро заставило врагов попрятаться. С их стороны рявкнула Трещера – отлетел угол зубца башенного; молодого послушника задело по плечу каменным осколком – испугался юноша и ядро из рук выпустил… Айгустов все сразу приметил.
– Не робей! Не робей! Давай ядро сюда!..
Но послушник, бледный, дрожащий, бросился к лестнице, шепча трясущимися губами:
– Ой, страшно! Спаси, Господи! Ой, боюсь!..
Из темного отверстия лестницы показался черный клобук архимандрита Иоасафа. Настоятель слышал испуганный лепет юноши и шагнул вперед.
– Чего страшишься, чадо неразумное? Без воли Господней ни единый волос не упадет с главы нашей… Смотри, я за тебя послужу пушкарям…
И старый инок, с трудом подняв откатившееся тяжелое ядро, понес его к пушке. Застыдился боязливый послушник, впереди других бросился он помочь крепкому духом старцу.
– Так, так, чада мои милые! – говорил с доброй улыбкой отец архимандрит, видя, как живо и ладно закипела опять работа, как бодро сносили подвигнутые его примером послушники тяготы боя.
– Отец архимандрит, – молвил весело Айгустов, заряжая пушку. – О нас не кручинься – справимся…
– Вижу, вижу… Исполать тебе, добрый молодец!
Благословив Меркурия, воинов и послушников, старец неспешно спустился по лестнице на стену. Тут шла та же работа; воевода князь Долгорукий всех подбодрял, за всеми смотрел. Благословил старец и князя.
– Жарко, отче, – молвил князь. – Ишь, нехристи без устали палят. Бывал я в битвах и осадах, а такой не помню.
– Не робеют ли у тебя, княже, ратные люди? – допрашивал архимандрит, поглядывая на воинов.
– Нет, отец Иоасаф, молодцами держатся. И деревенские парни не хуже стрельцов. Вон тот молодец у меня больно ловок, так палить привык, что уж я его в сотники поставил. Эй, парень!..
Данила Селевин, в новом кафтане с галуном, подошел к ним, усталый от жаркой работы. Отец Иоасаф, любовно улыбаясь, благословил его:
– Откуда будешь, молодец?..
– Молоковские мы все, отец архимандрит, трое нас, братьев… Пришли святому Сергию послужить… Селевиными звать…
– Тот богатырь-то, что от богомольцев приходил ко мне, брат, что ли, тебе?
– Старший брат, отец честный… Все мы крест целовали – не сдавать обители до смерти…
Еще раз благословил отец Иоасаф Данилу; пошел сотник к пушкам.
– А быть скоро приступу, отче, – сказал воевода. – Вишь, как ляхи палят спешно… И целят-то худо… знать, просто оглушить, напугать норовят, а там и нагрянут.
– Отобьемся с Божьей помощью, князь.
– Вестимо… Эй, левее наводи, левее!..
И князь поспешил к пушкарям. Успокоенный, ободренный, спустился настоятель со стен во двор обители.
Около келий да амбаров много люду толпилось. Плакали и вопили ребята, голосили женщины, старики и больные молились в полный голос… Велика была на обительских дворах сумятица, но и тут отцу Иоасафу не пришлось сильно кручиниться. Заботливы были старцы монастырские, умели они народ разумным словом утишить, успокоить.
Иеромонах отец Корнилий сидел на крылечке своей келейки; плотным кругом теснились к нему богомолки и богомольцы: девушки, бабы, старики, дети… И не было слышно тут ни плача, ни криков; так все заслушались старца, что словно бы и позабыли про ляхов, про грохот вражеских пушек.
– И не раз, чада мои милые, – говорил старец, – находила на Русь година тяжкая, не раз шли на нее боем враги-нехристи, простой люд и бояр в полон брали, рушили храмы православные, города и села огнем жгли. В старину ханы татарские всю землю нашу под своей рукою держали; к ним, в орду поганую, ездили князья православные ответ держать, кланяться… Но и та беда горькая прошла над Русью-матушкой. Восстал на татар великий князь московский Димитрий Иоаннович… Долго князь глубокую думу думал, золото-серебро собирал, полки снаряжал. И пошел он, великий князь, к подвижнику Божию, к святому Сергию, что тогда еще длил свое житие земное. И дал святой Сергий великому князю благословение, и с бодрым духом двинул князь полки на Мамая, злого хана татарского. О ту пору даровал Господь молитвами святого Сергия дружинам княжеским победу великую… Почто же смущаетесь и плачетесь теперь, чада мои? За нас, за всю Русь православную преподобный Сергий у престола Божия печется!..
Не пропускали богомольцы ни единого слова из мудрой речи старца Корнилия. Слезы текли по щекам их, вызывала те слезы вера и надежда светлая.
К другому кружку богомольцев перешел отец Иоасаф. Старец Гурий тоже ободрял и поучал простой народ:
– И повелел благоверный царь Василий Иоаннович мощи невинно убиенного отрока, царевича Димитрия, перенести из Углича в стольный град Москву. Святители церкви православной Филарет Ростовский и Феодосий Астраханский прибыли с боярами царскими в Углич. Многими тысячами стеклись угличане к могилке царевича. И когда начали рыть землю над гробом отрока – разлилось в воздухе райское благоухание, и словно дым кадильный изошел от гробницы Димитрия. И открыли гроб, и обрели тело отрока-мученика неистлевшим. Даже ризы царевича Димитрия не коснулось тление земное. Держал убиенный отрок в левой руке платок, шитый золотом; цел и невредим нашли тот платок в руке его. В правой же руке держал мученик – в ту пору, как нож убийцы нечестивого прекратил житие его, – орех садовый. И тот орех нашли у него в руке целым… Великое чудо сотворил Господь! Пятнадцать лет лежало в сырой земле тело мученика и по воле Божией избегло оно тления, и исполнилось оно силы чудотворной… Многие чудеса совершились у святых мощей царевича… В Москве встретили мощи царь, патриарх, царица-инокиня Марфа, поставили их в церкви Михаила Архангела в раке деревянной, обитой атласом золотым… И доныне открыт доступ к мощам святого царевича Димитрия, и исходят от них чудеса и исцеления… Как же, чада мои любезные, верить ныне злому обманщику, именующему себя царевичем Димитрием, сыном Иоанновым?!
Зашумела толпа, заволновалась, послышались угрозы ляхам, самозванцу… А вражеские пушки ревели все громче.
Дальше пошел отец Иоасаф, туда, где за крепкими каменными стенами монастырских кладовых, под навесами, лежали раненые, ушибленные каменьями, оглушенные выстрелами. Стоны и мольбы встретили архимандрита: одни просили исповеди и причастия, другие молили перевязать раны, водицы испить… И тут не омрачилось лицо троицкого игумена, бодрый, твердый взгляд его. Приметил он богомолок, молодых и старых, что пеклись о страдальцах, переходя от одного к другому. Всех заботливее была одна девушка, еще не вышедшая из детских лет; с молитвой на устах помогала она то этому, то тому раненому, не содрогаясь, примачивала водой студеной страшные кровавые язвы, подкладывала под головы страдальцев свежего сена… С глубокой нежностью взглянул архимандрит на Грунюшку – то она была радетельницей и помощницей страдальцам…
– Благослови тебя Господь, отроковица! – молвил он, кладя ей на голову руку.
Слезы засверкали в голубых очах Грунюшки. Прильнула она горячими устами к другой руке старца.
– Ох, отче, изболелось сердце мое за страдальцев несчастных… То-то мучение, то-то раны кровавые!..
– Не кручинься, дочь моя! За святое дело страдают и томятся мученики. Примет их Господь в Свое Царство Небесное, отпустит им все прегрешения за то, что пролили они кровь в защиту святой обители. Облегчай же их муки, дочь моя, и тебе на небесах зачтется!..
– Истинно, отец архимандрит, зачтется, – отозвался седой стрелец, раненный в голову, которому Грунюшка только что обвязала окровавленный лоб, оторвав лоскут от своей скудной одежи. – Добра она, словно ангел Божий…
Подозвал отец Иоасаф проходившего послушника:
– Беги к отцу казначею; пусть велит он из погребов принести сюда вина крепкого, фряжского; пусть отпустит из кладовых полотна да холста потоньше… Надо льющим за нас кровь страдальцам телесные силы подкрепить, надо им язвы перевязать. Да скажи, не велел-де отец настоятель скупиться, не время теперь бренные блага беречь…
Просветлели раненые, услышав приказ игуменский, посыпались на отца Иоасафа благословения…
В трапезной монастырской в чугунное било ударили, созывая братию к трапезе. Отец Иоасаф повелел, чтобы все обычным порядком шло, дабы не смущались иноки и миряне… Потянулись из келий старцы, коим не под силу было на стенах помогать. Пришли и от пушек смены воинов и богомольцев-охотников подкрепиться пищею. Сытными блюдами, крепкими, сладкими медами угощали иноки своих защитников: в монастыре всего вдоволь запасено было.
Все в трапезной не уместились – расставили по дворам скамьи да столы, и с молитвою насыщались бойцы монастырские под рев пушек.
Молодцы молоковские все рядом сели; сначала молча ели: натрудились за целое утро, голод их мучил… Потом, передохнув, и разговорились…
– Как у вас там, на Плотнишной башне, Тимофей? Сильно ядра сыплют ляхи? – спросил Ананий.
– Словно град идет, – отвечал Суета, справляясь с ковригой монастырского хлеба. – И меня задело…
Он показал локоть, обвязанный тряпицей.
– Чай, больно? – спросил торопливо Оська Селевин, и пугливо забегали его лукавые глаза на побледневшем лице.
– Чего больно! Я и думать забыл…
Суета придвинул к себе чашку с брагой.
– А слышь, Ананий, – начал Данила Селевин, – больно уж сильна та пушка ляшская, что в нашу сторону палит. Ядра-то с голову людскую!.. Такие ямы в стенах рвет, что страсть одна… Да и метят из нее лихо…
– Чай, много побило у вас людей?
– Немало. Намедни одного пушкаря хватило, да еще не самым ядром, а осколком от стены… Не пикнул даже бедняга, пополам голову разнесло… Со мной рядом стоял.
– Рядом? – переспросил Оська, даже зубы у него застучали о край чашки с брагой.
Ананий сурово покосился на него:
– А тебе, Оська, я вижу, больно жизнь дорога?!
Смутился Осип, голову опустил, побледнел еще более.
– Что ж, кому помирать охота? – пробормотал он.
– За обитель-то святую? За веру-то? – грозно проговорил Ананий. – Смей ты у меня еще такое слово молвить!..
– Да разве я отрекаюсь? Христос с тобой! Что он меня, братцы, ни за что ни про что изобидел? – плаксиво прибавил младший Селевин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.