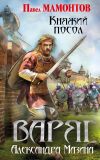Текст книги "За святую обитель"
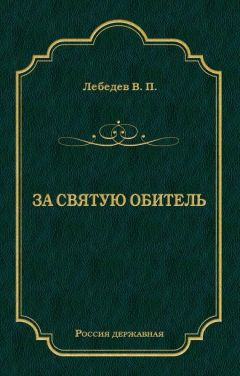
Автор книги: Владимир Лебедев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Больше других любили в обители церковь Живоначальной Троицы; много в ней было святынь православных: древних икон, мощей чудотворных. Особенно чтился иноками и богомольцами большой, украшенный богатой золотой ризой образ святителя Николая Чудотворца. Стоял тот образ напротив южных дверей церковных, и кроткий, благой лик святого, озаренный сиянием, прежде всего являлся очам вошедших.
Много богомольцев со вздохами и рыданиями пало ниц перед тем образом в молитве…
Полузадохнувшиеся, безмолвные от ужаса, сдавленные толпою стояли невдалеке от входа Грунюшка и ее старуха-мать. Обе богомолки здвиженские не могли в себя прийти: старуха ждала смерти неминуемой, скорбя и ужасаясь душою; Грунюшка все еще вспоминала внезапную кончину доброго старца Корнилия. Ей все чудился его тихий, ласковый голос…
– Чай, теперь отец Корнилий за нас, грешных, Бога молит, – тихо молвила она матери; но старуха, не слушая ее, начала причитать:
– Ох, страсти какие! Спаси нас, святой Николай, Чудотворец Божий! Не дай злой смертью помереть! На погибель свою пришли мы в обитель-то!
– Что, матушка, жаловаться, Бога гневить, – хотела ее остановить Груня, но не успела…
Громыхнуло что-то страшное, тяжелое в окованные железом южные двери церкви; треснули двери, расщепились – и внеслось в переполненный народом храм с дымом и шипением каленое ядро. Прямо ударилось оно в икону святителя Николая Чудотворца; загремел сбитый с места медный подсвечник, со звоном разбилась и потухла лампада. Скрылся лик Чудотворца в облаке дыма и пыли от взоров богомольцев. Застонала вся церковь от воплей и рыданий: одни к выходу бросились, иные без памяти упали, третьи начали в алтарь ломиться…
– Святую икону разбили! Конец нам!
– Последний час пришел! Храмы рушатся!
– Отвратил Господь лицо Свое!
Но вновь, как и во время прежнего безумного смятения, остановил толпу голос бодрствующего пастыря, вдохновенное слово отца архимандрита Иоасафа.
– Воззрите, православные! Явил Господь во вразумление наше – чудо великое. Видите, невредим лик Чудотворца Николая, не тронут ядром ляшским… Славьте Бога!
Многие из смятенных и бегущих обратили взоры на чтимый образ… И верно: снаряд вражий поразил лишь толстую доску, на которой была написана икона. Чернело отверстие выше левого плеча Чудотворца, близ золотого венца его… Лик святителя Николая все с тою же кроткой улыбкой обращался к богомольцам…
Не миновать бы гибели Грунюшке с матерью: обе слабосильные, попали бы они под ноги толпе… Да помог старый знакомец Ананий. Раздвинул он толпу мощными руками и вытащил обеих на волю.
– Впору поспел! Что в храме стряслось? Меня воевода со стен послал узнать, чего народ вопит…
Захлебываясь от горького плача, благословляя своего спасителя, рассказала ему девушка про смерть отца Корнилия, про образ, в который попало ядро.
– Святой был старец! – вздохнул Ананий.
Невдалеке опять вопли послышались; из соседней церкви тоже народ хлынул, рыдая и вопя:
– Ядро в образ Архангела Михаила угодило!..
Хоть и стало темнеть, пушки вражьи палили яростно…
Атаман Епифанец
После черного дня, принесшего обители столько страха и горя, занялась, сменив темную ночь, кровавая заря на небе. Холодный ветер завывал, как голодный зверь, ломая сучья голых деревьев. В ложбинах белел уже кое-где снег; утренний мороз сковал тонким льдом овраги и ямы, залитые осенними дождями. Ноябрь уже зиму кликал, и шла она – студеная и сердитая – на землю скорыми шагами.
Мутно-красными лучами прорезывало ноябрьское солнце предутренний сумрак; словно нехотя будило оно спящий люд, зная, что не к добру опять день занялся, что снова польется на земле кровь человеческая.
Отразилась заря на крестах и куполах монастырских; понесся навстречу лучам густой удар вестового колокола… Посветлело и в станах ляшских, послышалось ржание коней, бряцание оружия… Задымились позади тур и окопов утренние костры, засуетились разноплеменные воины…
Разбудил утренний шум и изменника Оську Селевина, что проспал всю ночь глубоким сном, как будто и не его вина была, что пришлось обители столько муки вытерпеть. Оська жил в стане Сапеги, спал в исправном шатре, где помещались слуги пана гетмана, где всего вдоволь было: и еды, и вина, и меду… Не то чтобы полюбил пан монастырского беглеца, но видел, что от Оськи продажного немалая польза выйти может: все-то в обители знал переметчик, обо всем-то рассказал ляхам. Одет был Оська в красный жупан, Сапегой пожалованный; на боку у него болталась ценная сабля с насечкою; в высокую шапку сверху красивое перо было воткнуто. «Эх, – частенько подумывал Оська, – кабы меня наши молоковские увидели, то-то бы подивились! Чем не пан? И казна есть!» И побрякивал переметчик серебром да золотом в кармане – наградой за то, что предал своих братьев и единоверцев.
Поднялся Оська, подсел к костру, медом крепким согрелся и, позевывая, начал раздумывать, сколько ему из добычи на долю выпадет, когда возьмут ляхи обитель. Но не докончил он своих корыстных расчетов, позвали его к пану Сапеге: понадобился он зачем-то гетману.
Петр Сапега лежал на широкой лавке, покрытой медвежьей шкурой; мальчик-слуга держал перед ним большой серебряный кубок с гретым вином, от которого вился по шатру легкий пар. Около гетмана сидели князь Горский, удалой наездник, начальник одного из конных полков, Константин Вишневецкий, тоже князь знатного польского рода, прельстившийся военной потехой и добычей, ротмистр Костовский и еще два-три пана важных. Перед их ясновельможностями, согнув спину, хитро поглядывая, стоял рыжий литвин Мартьяш. Весело было лицо лукавого пушкаря, самодовольно улыбались и удалые паны.
– Через два дня, пан гетман, взлетит угловая башня монастырская, – говорил литвин. – Нелегко было подкоп делать, да уж я трудов не жалел, надеясь на богатую награду… Теперь немного уж рыть осталось…
– Славно! – воскликнул Сапега. – Наконец-то доберемся мы до монашеской казны… Не придется здесь зиму мерзнуть…
Заликовали и другие паны; стали советоваться, какие полки наперед в пролом пустить, где прежде всего грабеж начать. Принялись Оську расспрашивать о казне обительской. Лукав и сметлив был парень, сразу понял, в чем дело, обрадовался.
– Наперед надо большую Троицкую церковь оцепить. Там, милостивцы, добычи видимо-невидимо будет: в ризнице не перечесть сосудов золотых да серебряных, образов с окладами тысячными… Слыхал я, что и казна обительская там в кованом сундуке хранится… Неподалеку и кладовые монастырские, тоже поживиться есть чем…
И чем дальше, тем больше пересчитывал переметчик монастырские богатства – и горели у панов глаза жадным пламенем, и смеялись меж собою они, и делили загодя богатую добычу.
Гремя саблей, вошел в гетманский шатер пан Лисовский, раскрасневшийся от быстрой езды.
– Доброго утра, панове! Я уже со своей стороны пальбу начал, пора и вам… О чем такая шумная беседа?
– Через два дня монастырь – наш, пан полковник! – закричал Сапега. – Ваш литвин знает свое дело.
Принимаясь за кубок с горячим вином, Лисовский весело мотнул головой. Скоро и он был увлечен шумной беседой о добыче. В шатер начали долетать громыхания ляшских пушек: опять пальба пошла…
Оська Селевин и литвин Мартьяш вышли из шатра вместе. Каждый из них чуял в другом такого же хитрого, лукавого, безбожного да корыстного, и разговорились они по-дружески. Вина и меда в стане вдоволь было; сели новые приятели к жаркому костру и начали угощаться.
– Ты только со мной иди, – говорил Оська. – Я тебя в такое место укромное приведу, когда обитель возьмем, что оба сразу панами станем. Пусть там другие сукно да полотно забирают, а мы чистое золото найдем…
– Берегут его крепко монахи?..
– А топоры-то на что?! Ты только за мной иди!
Долго пировали друзья под оглушительный грохот пушек, обмениваясь советами да рассказами: Оська – все про казну обительскую, Мартьяш – все про свой подкоп хитрый да про свою любимицу – горластую Трещеру.
Охмелел сильно Оська-переметчик, духом посмелел и, простившись с Мартьяшом рыжим, направился на окопы, где в дыму и пламени грохотали пушки, где шипели и перекрещивались тяжелые ядра. Бродя от тур к турам, попал он и в казачий стан атамана Епифанца. Все кругом в казачьем окопе иначе глядело, чем в шумном, пестром стане польском… Правда, также попивали казаки вино и мед, лежа под защитой своих пушек, но не слышно было ни буйных песен, ни смеха, не видно было веселых, довольных лиц. Не по душе была казакам трудная и долгая осада, не любили донские молодцы пальбы пушечной, приступного упорного боя. Уж и немало полегло их от защитников обительских, от ядер, камней и бревен монастырских. Еще в первую вылазку много посек их Ананий с товарищами. Злобились казаки и на ляхов, что все их вперед посылали, в самый огонь, не жалея, добычу сулили, а добычи все не было; к тому же хоть и разбойный народ, а все ж родились и выросли казаки в православной вере – и порой жутко им было из своего нечестивого стана глядеть на блестящие кресты, слышать знакомый с детства благозвучный перезвон православных колоколов. Хмуро сидели казаки у костров, в своих темных свитках и бараньих шапках. Сумрачно следили они за пальбой. Всех угрюмее да молчаливее был седоусый атаман Епифанец.
По красному жупану да по богатой сабле приняли казаки переметчика Оську Селевина за какого-нибудь главного ляха. Поднялся атаман, подошел к нему:
– От гетмана, что ли?
– Из стана гетманского. Ближний слуга я пана Сапеги, – ответил, спесиво подбоченясь, Оська.
– За каким делом? – сердито спросил Епифанец.
– Поглядеть пришел, исправно ль палите… Стража везде ль у вас поставлена… Непорядка нету ли?..
– Про то мы сами знаем, – отрубил ему старый атаман и зорко глянул на переметчика: – А ты ведь, молодец, никак не из ляхов будешь? Речь не та…
Еще спесивее надулся Оська, руку на саблю положил:
– Пану гетману служу. А пришел я оттуда, из монастыря… Больно скучно там стало; сиди себе за стенами каменными, ровно крыса какая. Ни погулять, ни выпить нельзя. А здесь зато не житье, а мед братии! И гетман меня жалует, денег отсыпал кучу…
– Стало быть, ты переметчик тот самый? – проворчал Епифанец, хмуря седые брови.
– Знать уж прослышали про молодца Оську Селевина? – И охорашиваясь, закрутил Оська усы по-ляшскому.
Темнее тучи сделался старый атаман, не стерпело его смутное сердце: схватил он переметчика за плечо могучей рукой и вышвырнул из окопа…
– Ишь, христопродавец, чем хвалиться надумал! Не позорь честной стан казацкий… Нет у нас места перелетам-корыстникам, что веру и братьев продают… Прочь уходи, не то саблю выну!
Не удержавшийся на ногах Оська неловко с земли поднялся. Хотел было побраниться с грозным атаманом, да боязно стало: больно сердито поглядывали на него усатые, смуглые казаки. Побрел он дальше, ворча…
Сел на свое место у дымного костра седоусый атаман Епифанец, опять зачернели глубокие складки на грубом челе его с сабельными отметками. Под грохот пальбы начали опять старика одолевать непривычные, чудные, неотвязные думы. Все желаннее ловил его чуткий еще слух переливы колокольного звона, что прорывались сквозь рев пушек. Чуть глаза закрыл – знакомые лица чудятся, о детстве старому разбойнику напоминают, шепчут давно забытые, сладкие речи…
Зелены-зеленешеньки, без конца, без границ, лежат славные донские степи… Высока и сочна трава степная, до гривы коням достает. В глубоких, тенистых буераках журчат весело студеные ключи, манят в жаркий день хлебнуть алмазной воды. Белеют хатки низкие с желтыми соломенными крышами. Сторожевые вышки, словно журавлиные долгие шеи, тянутся из зелени к синему небу. Белопенными валами плещет батюшка – глубокий Дон, несет-баюкает казацкие ладьи; в камышах тихая рыбачья песня слышится… Вон городок замаячил, крест золотой загорелся над церковкой. Поставила храм Божий сама вольница казацкая на то серебро-золото, что добыла мечом и копьем от басурман-турок да бритоголовых татар. Около церкви видны могильные плиты да кресты: немало казацких удальцов легло здесь, защищая родную церковь от нехристей. И батька атамана Епифанца под одной плитой лежит; пробито сердце храброго казака татарской стрелой… Чей это жалобный голос? Ужели старуха-мать из могилы встала, опять сына голубит, причитает жалобно? «Помни смерть батькину, сынушка мой ненаглядный, голубь мой, Епифанушка! Блюди веру православную, рази басурман-нехристей… Не дружись никогда с богоборцами-нечестивцами…»
Вздрогнул седоусый атаман: и въявь послышался возле костра чей-то жалобный голос. То казак молодой, Матюшка Дедилов, затянул родную, степную заунывную думку. Молодцу по родине взгрустнулось:
…Как нахлынули злы татаровья
На широки степи, на тихий Дон…
Почали злодеи грабить, разбойничать,
Святые церкви рушить-ломать,
Над святыми иконами ругатися,
Золоты кресты на добычу брать…
Льется, льется заунывная думка, и не один седоусый атаман чутко вслушивается в знакомый родной ее лад… И другие казаки, старые ли, молодые ли, утихли, словечка не молвят, глядят на певца – не шелохнутся… Допелась родная думка под грохот пушек, замерла жалобно, еле слышно – и разом глубоко вздохнула казацкая вольница.
– Вот и мы… – начал кто-то, да осекся на полуслове. Очнулся атаман, огляделся – уж вечер настал…
В сапегинском и лисовском стане начала стихать пальба, монастырские пушки тоже давно замолчали.
– Полно, кончай пальбу! – крикнул атаман. – Довольно иноков пугать, пусть помолятся старцы честные…
– А не больно и пугаются старцы-то, – ввернул словечко Матюшка Дедилов. – Переметчики сказывали, что все иноки крестным ходом по обители ходят, в церквах службу правят: день и ночь зовут на подмогу Сергия…
– Пустое мелешь! – оборвал молодца атаман, невесть на что разгневавшись. – Время и на ночлег… Живо!
По грозному окрику сердитого атамана засуетились казаки: пушки отодвинули, на ночь стражу поставили, костры разожгли и разбрелись по шалашам да наметам. Скоро затих всякий шум в их стане.
Матюшка Дедилов атаману Епифанцу племянником доводился; спал он в атаманском шатре.
– Ты чего, атаман? – спросил молодой казак, видя, что старик в глубокой думе стоит, не ложится отдыхать на мягкие бараньи шкуры.
– Спи себе! – сурово ответил Епифанец. Мигом захрапел, заснул Матюшка крепким сном.
Атаман сел на шкуры и опять задумался. Узорные полы дорогого шатра озарялись слабым, мерцающим светом: в глиняной чашке, налитой топленым жиром, теплился синеватый, тусклый огонек. Черные тени ползли по узорчатой ткани, уходя кверху, к темной верхушке намета… Посреди шатра алели полусгоревшие головни потухающего костра…
Ныло сердце, томилась казачья душа. «Грех-то какой! – молнией проносилось в его смятенном уме. – На святыню православную поднял я свою саблю разбойничью! Родительский завет забыл!»
Туманятся глаза, и в том тумане из ночного мрака выступает чей-то знакомый лик: седые брови грозно сдвинулись над очами соколиными, горящими гневным пламенем… Под седыми усами старческие, бескровные губы шепчут укоры, проклятием грозят… «Ужли это батька из гроба вышел – проклясть меня, окаянного, за грех мой?» – И леденеет от ужаса седоусый Епифанец… А батька-то все грознее очами сверкает; вот распахнул он костлявой рукою могильный саван на широкой груди – видит Епифанец: в батькином сердце глубокая кровавая язва, а в той язве дрожит татарская оперенная стрела, словно сейчас из лука пущена… И слышит Епифанец глухой, замогильный голос своего батьки: «Окаянный ты, окаянный! Опозорил ты свою честь казацкую – побратался с басурманами-нехристями. Пришел ты боем на святую обитель, поднял руку на угодника Божия… Гореть тебе в огне вечном! Не даешь ты, грешник, старым костям батькиным на покое лежать. Вновь пронзил ты мне сердце мертвое кровавой стрелою… Берегись, окаянный, огня вечного!»
– Не кляни меня, батька! – вскрикнул Епифанец и очнулся… Неужели то сон был? Гудит буйный ветер вокруг шатра, глухо и грозно воет, словно вторит страшным батькиным словам. Все трепещется синий огонек в чашке, все ползут тени по ткани.
«Что это?! Кто там?!» – содрогнулся всем телом Епифанец, впился в угол горящим взором… Из глубины шатра подвигается к нему, грозно подняв руку, неведомый старец в длинной, черной монашеской мантии.
Белее снега лицо ночного гостя – страшит, пепелит атамана огненными очами. Над клобуком старца сияние видится…
Вскочил Епифанец, дико вскрикнул и упал ничком.
– Что ты, атаман? – бросился к нему разбуженный Матюшка.
Не сразу поднялся старый казак, а как встал, было лицо его словно другое: осунулось, потемнело; поспешно начал атаман сбираться в путь-дорогу.
– Буди казаков, Матюшка! – велел он молодцу.
– Куда, атаман? Ведь ночь на дворе!
– Вон из стана ляшского! Полно нам обитель святую воевать; полно нам губить душу христианскую! Созывай на совет казачий круг… Было мне сей ночью видение… Надо от греха скорей бежать!
Обрадовался Матюшка, да и заробел сильно, глядя на старого Епифанца: словно вырос атаман, сверкали под седыми бровями глаза его, голос – словно гром гремел.
Пошла тревога по казачьему стану. Утомленные дневным трудом, без просыпу спали донские удальцы. Но привыкли они каждого слова атаманского слушаться: повылезли из-под бараньих шкур да кожухов, начали к шатру собираться говорливой толпою.
Зажгли перед шатром осмоленные сучья, и в красном пламени их, в полном воинском вооружении, вышел к своим верным казакам Епифанец…
– Удалое казачество! – зычно начал он. – Не буду более над вами атаманствовать, вот булава[34]34
Булава – оружие: тяжелый, обычно снабженный шипами шар на недлинной рукояти. Богато украшенные булавы были знаком достоинства воевод и других высших военачальников.
[Закрыть] моя – возьмите! Не к лицу мне, старику, честную саблю свою православной кровью пятнать… Оставайся здесь с ляхами кто хочет, воюй-бери обитель святую. Я ж вам отныне в том деле не пособник! Да и вас-то жалко мне, удалые казаченьки: великий грех вы на душу берете, и великий ответ вам держать придется за могилою… Неспроста, братцы, старый атаман говорит… Было видение мне середь ночи, угодника Божия узрел я, грешник окаянный… Грозил мне старец святой за мой грех, за братанье с ляхами-басурманами… Простите, казаченьки!
Зашумели, заговорили разом казаки. До сердца проникла им речь атамана; давно уж не по душе было донцам на святыню православную идти.
– Вестимо, грех!
– Ну их, этих ляхов нечестивых!
– Все с тобой уйдем, атаман; веди хоть сейчас!
Поглядел Епифанец кругом, видит – нет противников…
Прояснело лицо старого атамана:
– На коней, казачество! В путь-дороженьку!
– Стойте, казаки, – молвил Матюшка Дедилов, выступив вперед. – А я что еще удумал: обители святой услужить, беду упредить великую… Ведь ляхи-то под стены, под угловую башню подкоп ведут; того и гляди громыхнут всю обитель…
– Что ж ты удумал? – перебил племянника атаман.
– А прокрадусь к инокам, да укажу им подкоп-то вражий… Небось не возьмут тогда ляхи обители.
Обнял старый атаман Матюшку горячо, словно сына родного:
– Спаси тебя Бог! Послужи, племяш, святому Сергию за нас всех, старых грешников-разбойников. Искупи, коли придется, и муками грех наш великий…
Молча простился молодой казак со всеми; бледно, но твердо и спокойно было лицо его…
Покинув шатры и громадную рухлядь, еще до свету выступили донские казаки из ляшского стана. Хотела было венгерская ночная стража задержать их отряд, да смяли венгерцев молодцы одним натиском и помчались на волю-волюшку.
Невеселые вести понесли венгерские гонцы пану Петру Сапеге да пану Лисовскому.
Милость Божия
Удалой сотник Семен Павлов стоял на страже за выступом монастырской стены над Красными воротами. Прозяб Семен в непогожую ноябрьскую ночь, руки у него оледенели, держа тяжелую пищаль. В ляшском стане царила тишина, монастырь тоже спал, покоясь после ожесточенной дневной пальбы… Перекликнется Семен с соседними стражами и опять молчит, глядит во тьму ночную, думает о тяжелых временах… Давно ль жил он себе мирно да тихо в послушниках обительских, не чаял, не гадал, что из него воин выйдет… А вдруг и пришлось за пищаль взяться: палить что твой стрелец научился, полюбился воеводе князю Долгорукому за удаль да ловкость – в сотники попал. Усмехнулся Семен в темноте… Дивно ему на себя стало, что не робеет он в бою, словно испытанный воин, что не щемит его сердце при мысли о гибели от меча иль пули… Вон теперь все о подкопе говорят, – ну что ж, пускай взрывают ляхи хоть всю стену, недаром он крест святому Сергию целовал!
Вдруг поднял сотник голову: в стане вражьем раздался глухой гул голосов; далеко за турами огни засверкали… «Что за притча? Не на приступ ли сбираются ляхи?» – Окликнул Семен товарищей: ухо-де востро держите… Но все тише и тише становился шум, все реже и реже огни; наконец, опять полная тишина настала. Но не успокоился потревоженный сотник, еще чутче прислушиваться, еще зорче приглядываться стал. И вот донесся до него снизу осторожный шелест чьих-то одиноких шагов… «Должно, разведчик передовой!» – подумал Семен, приложился, да наугад со стены вниз из пищали пальнул. Громыхнул выстрел, огонь сверкнул, снизу стон послышался.
Зажгли стражи меж зубцами кучу сухих веток, осветили вал приворотный, – нет никаких полков ляшских, лишь у вала лежит какой-то человек, тяжко стонет, о чем-то молит. Слышно:
– Спасите, православные!
– Давай веревки, ребята. Спускай меня! – крикнул сотник и с помощью других стражей скоро очутился он возле раненого.
– Убили вы меня, братцы! – простонал неведомый человек. – А я вам добрую весточку принес…
Видит сотник: по одежде – казак, пришел от ляхов и вправду может, что-нибудь про вражьи замыслы откроет. Кликнул товарищей; связали две-три веревки, втащили раненого на стену.
– Ох, спешите, братцы! – хрипел казак. – Воеводу позовите да из иноков кого… Умираю я… пусть мне грехи отпустят, чтобы не мучиться мне в огне адском…
Наскоро собравшиеся воевода Долгорукий и отец архимандрит поспешили на стену, еще в живых казака застали. Тяжко дышал умирающий, из уст его вырывались отрывочные, хриплые слова…
– Отпусти, отче, тяжелый грех мой, что пришел я с нехристями обитель воевать… Из донских казаков я… Нас атаман Епифанец привел… Да только этой ночью бросили все донцы ляшский стан: убоялись греха великого, гнева угодника Божия…
При дрожащем свете горящих сучьев видно было, как просветлели лица бойцов при доброй вести.
– А я, отче, – с усилием молвил дальше Матюшка, – не ушел с другими казаками: мыслил обитель о подкопе ляшском оповестить…
Встрепенулись все; посыпались на раненого вопросы…
– Все открою, братцы; только не дайте умереть без покаяния… Отпустятся ль мне грехи мои?!
– Не кручинься, чадо мое, сам буду за твою душу денно и нощно молиться Богу, – сказал отец Иоасаф.
– Ведут ляхи подкоп к угловой башне… Почитай, все готово, скоро подпалить хотят… Начало берет ляшский ход подземный в Мишутинском овраге, в среднем осиннике… Изловчитесь бочки с зельем достать; до конца еще их ляхи не докатили. Подпалите – весь подкоп рухнет… А стража там невелика стоит…
Передохнул казак и глухо крикнул:
– Отец честной, молитву читай! Смерть идет! Ой, холодно! Подошел к Матюшке Дедилову отец Иоасаф – принять его душу грешную; опустился на колени около донского разбойника, положившего живот за обитель.
Воевода же с другими воинами беседу вел, как теперь быть, когда вылазку делать…
Помаленьку рассветать стало… Обрисовались в серой полумгле зубцы башни. Бледнее горели трескучие сучья на стене монастырской.
– Кончился! – произнес отец Иоасаф, осеняясь крестом и отходя от тела казака. – Мирную кончину послал ему Господь, покаяние в грехах, подвиг богоугодный…
– Отец архимандрит, – молвил воевода, – завтра чуть свет в бой надо идти – избыть тот подкоп злокозненный… Надо немалую силу собрать, немало крови пролить: даром не отдадут ляхи подкопа. Идем, отец честной, соберем ратных людей да иноков на совет.
Тем временем разгораясь да разгораясь, ясное утро настало. Заняли на башнях и стенах привычные места воины; вот первая пушка от ляхов грохнула, со стены ответили, и повсюду кругом началась яростная пальба. Бодрее и веселее стояли стрельцы, послушники и дети боярские против вражьей пальбы, потому что пролетела по всем уголкам монастыря добрая весточка: найден-де подкоп ляшский, не допустят теперь обитель подорвать…
На Водяную башню, где уже в поте лица трудился в дыму и огне Меркурий Айгустов, принес ту весть о подкопе сам удалой сотник Павлов. Ликовали молодцы-пушкари, слыша о завтрашней вылазке…
– И я пойду с воеводой, – молвил Меркурий. – Авось до Трещеры вражьей пробьюсь; хоть руками попорчу, сломаю… Что за притча: все не могу ей в жерло угодить… Словно околдовал кто-то пушку треклятую!
Трещера с тур ляшских гулко рявкнула в эту самую пору, словно заслышав, что о ней речь идет… Ядро в стенную сторожевую вышку угодило, разбило ее, камнями всех осыпало, двоих поранило…
– Постой ты! – разгневался Меркурий. – Сегодня у нас в обители удача… Еще раз попробую – пальну…
Пошел он к большой пушке, сам ее зарядил, целить начал, тихо, старательно…
– И так мне жалко стало того казака, братцы, – говорил сотник, – инда слеза прошибла. Моей-то вины тут нет, а все же худо вышло… Ну уж, знать, ему так умереть на роду было положено: за грехи прежние, за душегубство. Панихиду я по нем закажу…
Громыхнула пушка Меркуриева. Взглянул пушкарь со стены и глазам не поверил: страшная Трещера молчит, скривилась на одну сторону, вокруг нее суетятся ляхи пестрой толпой.
– Сбылся вещий сон мой! – радостно перекрестился пушкарь.
– Меркурий Трещеру подбил! – закричали воины.
– Еще воеводу порадую весточкой доброй, – сказал Павлов и бегом вниз по лестнице с башни сбежал. По дороге всем, кто ни встретится, передавал он об удаче пушкаря; радовались все и крестились…
В покоях отца архимандрита собирались старцы и чины воинские. Тихо переговаривались, рассаживаясь по местам. Не было только доброго отца Корнилия, сраженного ядром. Бледны и измучены были лица у защитников обители. Отозвалась на них тяжкая осада: бессонные ночи, тревога, ожидание близкой гибели. Воины тоже похудели, осунулись, как и старцы; у многих виднелись повязки на голове, на руках – где кого поранила вражья пуля. Лишь отец архимандрит каков был, таков и остался: высшей силой поддерживался дух его, да и тело старца словно не ведало устали.
Лишь только расселся совет обительский, шумно вбежал в покои сотник Семен Павлов со своей счастливой весточкой:
– Радуйтесь, отцы! Подбил наш Меркурий с башни Водяной Трещеру!
– Ой ли? – воскликнул князь-воевода. – Исполать же ему. Другой такой пушки нет у ляхов… Теперь не взять им, нехристям, обители нашей одной пальбой… Ай да Меркурьюшка-удалец! Водяные-то ворота за последнее время чуть-чуть уж держались…
Порадовались и все кругом, духовные и миряне – про Трещеру всякий в монастыре знал… Поднялся отец архимандрит, благословил всех.
– Милость Божия над нами, братие! Счастливый нам сегодня денек выпал… Слышали вы, чай, вести добрые: подкоп найден, лютейшая пушка нашим ядром подбита… Восславим Бога, братие, за милость его великую…
Долгое время слышалось в покоях лишь шептание молитвенное, лишь шелест широкой иноческой одежды да побрякивание доспехов и мечей воинов.
Поднялся за отцом Иоасафом воевода Долгорукий; светел и бодр был взор его, начал он речь свою:
– Наутро надумали мы с отцом архимандритом, да с моим товарищем воеводой в бой пойти. И хоть половину воинов положив, а подкоп надо взорвать. И пробиться к нему трудно будет; придется нежданно разом ляхов смять. Все мои молодцы мне завтра понадобятся: так уж вы, отцы духовные, постерегите стены да пушки… Людей мало…
Даже самые древние старцы-схимники подали голос в ответ князю-воеводе. Отовсюду послышалось:
– Постоим, княже, с Божьей помощью!
– Без заботы на врага иди, воевода!
– Соблюдем обитель…
– Ладно, отцы досточтимые! На вас надеясь, схватимся мы с ляшской силой покрепче; авось наша возьмет.
Перебил князя-воеводу Голохвастов Алексей, второй за Долгоруким воинский начальник в монастыре. Скучен и хмур сидел воевода на совете; робел ли он боя предстоящего, надежду ль потерял обитель выручить – только угрюмо, исподлобья поглядывал на всех…
– А как мы подкоп возьмем, княже? Ведь зелье-то подпалить надо; как взорвется – не убежишь… Много людей потерять надо в том подземном ходе…
Тут призадумался князь Долгорукий: правда была в речи младшего воеводы; глядя на него, приуныли и все… Нелегкое дело предстояло воинам: верная гибель грозила. Еще и казначей отец Иосиф вставил робкое словечко:
– Много уж, ох, как много у нас людей побито! Скоро, чай, и с пушками управляться некому будет.
Опять замолчали все в тяжком раздумье.
– Отцы честные, воеводы храбрые! – молвил кто-то.
Глянули все – видят: выступил вперед богатырь молоковский Ананий Селевин, за ним Данила Селевин, сотник, и еще два рослых молодца.
– Коли за подкопом дело стало, – начал Ананий, – то не кручиньтесь, воеводы: вот мы, четверо, справимся с тем ухищрением. Есть у нас и еще товарищи, да тем очередь потом будет. Про меня да про брата Данилу ведомо уж вам, отцы и воеводы: опозорил наш род меньшой брат-переметчик, и на кресте поклялись мы кровью искупить грех братний… А эти двое – Шилов Максимка да Ивашка Слот – от нашей дружины по жребию идут. Бойцы они неробкие; чай, видал их в бою, князь-воевода?..
– Видал, видал! – весело ответил князь. – Добрые молодцы, не выдадут… Видишь, воевода, – повернулся он к Голохвастову, – искать удальцов не надо – сами нашлись! Не перевелись еще воины доблестные на Святой Руси… Что ж, постойте за святого Сергия, молодцы; авось и живы из боя выйдете…
– О том мы, княже, не думаем! – ответили разом все четверо. А братья Селевины, погодя немного, молвили:
– Отцы и воеводы, отпустите нам вину брата меньшого!
И оба упали в ноги отцу архимандриту. Поднял их отец Иоасаф, благословил…
– Коли в бою головы сложите – вечно о вас память в Троицкой обители останется… А того изменника имя да будет забыто на веки веков! Болит сердце мое, отпуская вас на гибель верную, но не стану перечить решению вашему. Знать, Богу так угодно… Ввечеру приходите ко мне все четверо, исповедаю вас – с легкой душой на подвиг пойдете, ратники Божии…
Пошло своим чередом совещание в покоях архимандрита: рати распределяли, начальников ставили, зелье да оружие считали…
Когда вышли четверо молодцов на двор монастырский, была уже пальба тише да ленивее.
– Ишь ты, не ревет Трещера-то! Подавилась, душегубка, Меркурьевым ядром, – усмехнулся Данила.
Потрапезовали товарищи, выбрали позади кладовых укромное безлюдное местечко, прилегли… Пошла меж ними тихая, дружеская беседа…
– Может, последний денек нам на белом свете жить, – молвил раздумчиво Ананий. – Эх, греха-то, греха-то на земле сколько! Не остерегись только – ни за что душу загубишь… А жить-то как без души?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.