Текст книги "История Москвы в пословицах и поговорках"
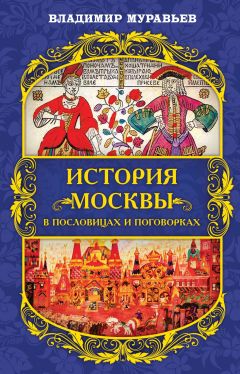
Автор книги: Владимир Муравьев
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Максимов отмечает принципиально важную особенность русского и в том числе московского градостроительства. В ее основу закладывались не только технические соображения, но и, чуть ли не в первую очередь, элементы морали: «Чтобы его (соседа. – В. М.) не потеснить». Старинное правило, запрещающее лишать соседа солнца и света, действовало еще в советских строительных законах. Мне известен пример из довоенных времен, когда жильцам одного дома удалось остановить надстройку соседнего корпуса именно по этой причине. Право на солнце – одно из главных и признанных тысячелетней традицией прав человека. (Однажды полководец Александр Македонский, решив наградить великого философа Диогена, пришел к бочке, в которой тот жил, и сказал: «Проси в награду, что пожелаешь». Диоген ответил: «Прошу тебя, отойди в сторону, ты загораживаешь мне солнце».)
Те, кто ругает планировку исторической Москвы, наиболее возмутительным примером считают обычно тупики. А С. В. Максимов замечает: «Наиболее же прославилась ими холмистая Москва», ведь тупик удобство и благо для местного жителя: оберегает его от потока проезжающих мимо и в то же время предоставляет удобный подъезд к дому.
Подобная органически образующаяся планировка города естественно сохранила в себе «следы» прошлого, предания и памятники. Она вся «пронизана» историей.
Москвич или житель другого старинного русского города легко и быстро ориентируется в переулках и закоулках Москвы, поскольку их расположение имеет свою разумную логику. У писателя первой половины XIX века Н. А. Полевого есть рассказ, в котором он описывает парня, приехавшего в Москву из провинции извозничать: ему понадобилась всего неделя, чтобы разобраться в улицах нового для него города.
Человеку же, не знакомому с этими особенностями градостроительства, Москва представлялась верхом бессмысленности и безобразия. Иной от собственного недомыслия, говоря словами Максимова, «пускался переделывать этот неудобный порядок». Первым крупным деятелем, задумавшим переделать старинный город, была Екатерина II.
«Петр I, – как справедливо отметил в очерке „Москва“ А. С. Пушкин, – не любил Москвы». Но великий преобразователь не стал ее рушить и перекраивать «на европейский лад», он просто уехал из столицы, и таким образом на этот раз московская старина была спасена.
Екатерина II, часто повторявшая, что она – продолжательница дела Петра, также не скрывала своей нелюбви, почти ненависти к древней русской столице. Все в ней ее раздражало.
«Я вовсе не люблю Москвы», – пишет она в своих «Записках». Как видно из ее собственных слов, Екатерину II раздражали не только москвичи, но и святыни, церкви, монастыри, то есть памятники старины, а также московская история – воспоминания о прошлых событиях, которыми народ «питает… свой ум».
Вынужденная бывать и жить в Москве, Екатерина II задумала заняться ее перестройкой по своему вкусу. Начала она с Кремля, распорядившись снести его башни и построить новый дворец. Часть кремлевских стен была разрушена, но, к счастью, строительство застопорилось, и впоследствии стены были восстановлены.
Но процесс борьбы самонадеянных и невежественных властителей с исторической Москвой был начат.
Следующий большой урон московской старине нанесло нашествие Наполеона. При бегстве из города французский император приказал взрывать исторические памятники. Тогда сгорело или было разрушено подрывами и артиллерией почти две трети зданий. Но и пожаром 1812 года не были уничтожены градостроительные основы Москвы.
Ее живой, естественно развивающийся организм хорошо чувствовали архитекторы, которым было поручено восстановление города. В мае 1813 года была создана «Комиссия для строения Москвы». Ее возглавил генерал-губернатор граф Ф. В. Ростопчин, а вошли в нее известные архитекторы Д. Г. Григорьев, О. И. Бове, И. Д. Жуков, Ф. Д. Соколов, Ф. М. Шестаков и другие. Многие из них были учениками и соратниками великого зодчего М. Ф. Казакова, который возвел кремлевский Сенат, Московский университет, Голицынскую больницу, Петровский дворец, церковь митрополита Филиппа и другие здания, ставшие украшением города.
Комиссия принялась за разработку плана восстановления столицы. Одновременно Александр I поручил составить такой план главному архитектору Царского Села В. И. Гесте, который до этого планировал города на юге России и составил альбом «образцовых» планов улиц и площадей. Гесте Москвы совсем не знал. В феврале 1813 года он совершил туда краткую поездку «для обозрения погорелых мест», получил план города «с означением кварталов и казенных зданий» и принялся за проект «исправления плана Российской столицы», поставив перед собой задачу привести ее «в регулярство».
Проект Гесте предусматривал почти полную перепланировку города. Москва представлялась ему чем-то вроде регулярного французского парка с центральной площадью-клумбой – Кремлем. Веером от него отходили прямые улицы-лучи, кончавшиеся площадями на приведенном к правильному кругу Камер-Коллежском валу. Проект ломал исторически сложившуюся структуру города, требовал проведения новых улиц, расширения старых, образования площадей, многочисленных сносов. Гесте объяснял, что «все строения, которые означены в сломку, состоят в одноэтажных и малой части двухэтажных домов, весьма не важны».
Александр I, находившийся в то время в армии в Австрии, утвердил этот план, и с «высочайшим одобрением» он был отправлен в Москву.
Получив в июне 1813 года лихой проект Гесте, Ф. В. Ростопчин немедленно послал в Петербург свои возражения. Он сообщал, что среди предназначенных к сносу строений «есть много значащих зданий и обширных домов… Уничтожение же вовсе сих строений, исключая знатного убытка, хозяевам нанесет огорчение и произведет ропот, быв совсем несогласно благотворным видам государя императора». Не согласен он был и с уничтожением Китайгородской стены: «Стену Китай-города, хотя она и требует поправления, должно оставить, потому что она по долговременности своей заслуживает уважения и дает вид величественности части города, ею окруженной».
С решительными возражениями против этого «спущенного сверху» плана выступила и «Комиссия для строения Москвы», проявив при этом профессиональную честность и немалое гражданское мужество. Московские архитекторы в отзыве на имя царя писали: «Прожектируемый план хотя заслуживает полное одобрение касательно прожектов теоретических, но произвести оные в исполнение почти невозможно, ибо многие годы и великия суммы не могут обещать того события, чтобы Москву выстроить по одному плану, поелику художник, полагая прожекты, не соблюдал местного положения».
Московской строительной традиции был чужд революционный вандализм, но присуща в высшей степени плодотворная историческая преемственность. Еще в Средние века Москва, вынужденная восстанавливаться после вражеских нашествий, сохраняла свою планировочную основу. После пожара или разрушения прежде всего возрождали церкви и обязательно на их исконных местах. Храмы организовывали городское пространство – важно отметить еще один обычай: если средств на восстановление не было, то «церковное место» (этот термин часто встречается в переписных книгах) сохранялось не-застраиваемым до того времени, когда средства появлялись. Москва – живой город, она строилась постоянно, что-то меняя, переделывая, спокойно входила в новые архитектурные эпохи, возводя здания в иных стилях, но не разрушая общего облика города.
Отбившись от проекта Гесте, московские архитекторы разработали собственный план восстановления Москвы после пожара 1812 года. В нем была соблюдена преемственность в планировке города, поставлена задача сохранить и восстановить пострадавшие исторические памятники. Вместо бездумной казенной пробивки проспектов через весь город напролет (основной прием бездарных градостроителей) – предлагались планы восстановления каждого района.
В возрожденной послепожарной Москве был создан новый архитектурный стиль, развивающий традиции, – московский ампир, постройки которого естественно вошли в среду города и стали еще одной чертой его своеобразия.
Веками Москва накапливала «московские» черточки, воплотившиеся в тех или иных зданиях, тщательно отбирала, а затем крепко за них держалась, потому что они-то и создавали ее образ – и смысловой, и эстетический, и архитектурный.
Легко и органично включала она в свой пейзаж новое и при этом не теряла традиционного облика. П. А. Вяземский, помнивший и любивший Москву допожарную, в 1860-е годы описывает промышленный, капиталистический город. И он не вызывает у поэта, казалось бы, естественного раздражения. Напротив, Вяземский видит прекрасное, доброе единство старого и нового, какое бывает в крепких многопоколенных семьях:
…Есть прелесть в этом беспорядке
Твоих разбросанных палат,
Твоих садов и огородов,
Высоких башен, пустырей,
С железной мачтою заводов
И с колокольнями церквей!
Но все же памятники старины всегда занимали первое место и в пейзаже города, и в народном сознании. О них рассказывают путеводители, создаются мифы и легенды, их окружает любовь москвичей.
Роль достопримечательностей в создании образа Москвы была осознана давно. Историки архитектуры, например, видят в них (и в первую очередь в храмах) доминанту, организующую пространство и играющую важнейшую роль во внешнем архитектурном облике города.
В общественном и народном сознании известнейшие московские достопамятности выступали как символы образа столицы, духовного и художественного.
Эти отобранные общенародным сознанием и мнением москвичей постройки представляют собой не только архитектурные сооружения, они еще и хранители народной исторической памяти и национальных духовных ценностей – вечных идеалов и вечных предрассудков. Недаром каждая из них воздействует на чувства, вызывает размышления и порождает легенды. Множество преданий связано с Кремлем, Спасской башней, Иваном Великим, храмом Василия Блаженного, храмом Христа Спасителя, Сухаревой башней…
При обновлении рядовой жилой застройки они оставались теми опорными точками, которые помогали разным поколениям видеть и узнавать традиционный, оригинальный, прекрасный и в сути своей неизменный, родной и дорогой москвичу и России образ народной столицы.
В начале XX века Москва уже была большим промышленным городом, но, несмотря на это, избежала стандартизации своего облика. Последний предреволюционный путеводитель «По Москве» (вышедший в 1917 году между февралем и октябрем) дает такую общую характеристику городу: «Когда вы попадаете в Москву и начинаете ориентироваться в этом море домов, захвативших огромное пространство в полтораста с лишним квадратных верст, у вас не может не сложиться представления о Москве как о городе со своеобразной, ему только присущей физиономией…»
Как кедр меж низкими древами,
Пречудна в древней красоте, —
так писал М. В. Ломоносов в середине XVIII века, отмечая характернейшую черту Москвы: «Пречудна в древней красоте».
И сейчас, полистав современный рекламный путеводитель или альбом, увидите то же самое: «Пречудна в древней красоте». Только границы «древности» ее красоты будут иные: она пополнилась памятниками второй половины XVIII, XIX, начала XX века, и теперь менее поэтично ее можно охарактеризовать так: пречудна в красоте своей исторической застройки.
Но проект Гесте открыл собой поток предложений варварского преобразования Москвы с уничтожением его исторических памятников. Наиболее ярким и последовательным из них был проект знаменитого французского архитектора-новатора Ле Корбюзье, предложившего в начале 1930-х годов снести историческую Москву полностью и построить на ее месте новый рационально распланированный город. Идеологическая и в высшей мере безнравственная основа этих проектов – презрение к русской культуре и истории.
Послереволюционные отечественные планы реконструкции Москвы, как Генеральный «сталинский» план 1930-х годов, так и ныне действующий, пошли по пути, предложенному Гесте и Корбюзье, они предполагают полное преобразование города. Правда, в том и другом имеются оговорки о необходимости сохранения исторических памятников (дань общественному мнению), но они не обязательны для исполнения. В «сталинском» проекте об этом заявлено прямо: «Схема планировки отвергает слепое преклонение перед стариной и не останавливается перед сносом того или иного памятника, когда он мешает развитию города».
Кажется, уже всем понятно, что Москва как уникальное явление мировой культуры ценна и признана всем миром, что ее своеобразие в первую очередь проявляется в ее исторической застройке. И все же… продолжается уничтожение Москвы исторической – и тем самым Москвы вообще.
«Вы не узнаете Москву через десять лет!» – с гордостью заявляют современные деятели реконструкции, видимо, не понимая истинного смысла своих слов. Неузнаваемая Москва – это уже не Москва, а совсем другой город.
Неприязнь к историческим памятникам Москвы Екатерины II была продиктована политическим расчетом.
В разрушении Москвы Наполеоном проявилась его мстительная натура, обнаружившая в момент опасности свою невежественность и мелочность.
В конце XIX – начале XX века московские памятники уничтожала эгоистичная алчность капиталистов.
Сталинский генеральный план был оружием идеологической борьбы.
Современные сносы и перестройки исторической Москвы опять происходят по требованию и в интересах новых капиталистов.
Результат один: наносится урон не только Москве, но и всей мировой цивилизации.
Разрушать памятники истории противоестественно нормальной человеческой натуре и нормальному разуму. В европейской и американской научной литературе имеется ряд медицинских и философских трудов, исследующих феномен глупости. В них речь идет о принципиальных признаках этого явления и его конкретных проявлениях. Так, французский физиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине и иностранный член-корреспондент Академии наук СССР Шарль Рише в работе «Человек глупый» среди клинических проявлений этого порока называет «варварское разрушение памятников».
Ни один из разрушителей памятников не избежит резко негативной оценки истории, затмевающей даже хорошее, что было в его деятельности.
В истории нашего города мы постоянно встречаем имена москвичей, встававших на защиту достопамятностей старины. Н. М. Карамзин осудил идею Екатерины II о сносе кремлевских стен. Он сформулировал задачу сбережения историко-архитектурного наследия: «У нас мало памятников, тем более мы должны беречь, что есть». С тех пор движение за охрану памятников не прерывалось ни в XIX веке, ни в советское время. Продолжается оно и сейчас.
Если разрушителем московской старины обычно выступает конкретное лицо или организация, то на защиту памятника поднимается общественность, народ – земщина. Разрушители обладают денежным, административным, силовым ресурсом, защитники могут противопоставлять им только общественное мнение и обоснованные доказательства ошибочности их действий.
И сама Москва как город, как система, как живой организм сопротивляется насильственным изменениям. Израненная, она заживляет раны, оставаясь собою, сохраняя свое своеобразие. Она не дала капиталистическим деятелям начала XX века превратить себя в «московскую Америку». Не дала коммунистическим «мечтателям» поставить на ее месте стандартный «город победившего социализма». И сейчас сопротивляется навязываемой ей идее стать неким мифическим «европейским городом». Она остается узнаваемой Москвой, иногда даже заставляя восстановить разрушенное (например, храм Христа Спасителя).
«Москва не сразу строилась», – говорит пословица. Было немало и ошибок, которые потом выправлялись. Но она строилась и будет строиться. А москвичи будут отстаивать главное достояние, основу города – его историчность.
У Москвы есть будущее, есть историческая идея – собирание и объединение земель. Как и прежде, она остается общенародной идеей и общим земским делом, что вселяет уверенность в справедливость еще одной старой истины: Москва строится веками. И узнать ее всегда можно будет с первого взгляда.
 Словно Мамай прошел
Словно Мамай прошел
«Словно Мамай воевал», «Словно Мамай прошел», «Словно после Мамаева побоища» – эти выражения, означающие крайнюю степень разорения, опустошения, пришли в современную речь из времен татаро-монгольского ига.
Современные толковые словари объясняют, что в поговорке говорится о татарском хане Мамае, совершившем в XIV веке опустошительное нашествие на Русь и разгромленном русским войском в Куликовской битве (1380 г.).
Имел в виду хана (вернее: военачальника-темника) Мамая, предводителя татар в Куликовской битве, и П. П. Ершов, когда писал в «Коньке-Горбунке» – «русской сказке в трех частях»:
Утро с полднем повстречалось,
А в селе уж не осталось
Ни одной души живой,
Словно шел Мамай войной.
Точно так же и А. Н. Островский в комедии «Правда – хорошо, а счастье лучше» в реплике Мавры Тарасовны подразумевает этого же татарского военачальника XIV века: «Оглядись хорошенько, что у нас в саду-то! Где же яблоки-то? Точно Мамай с своей силой прошел – много ль их осталось?»
Объяснение этимологического словаря на первый взгляд убедительно, а литературные примеры подтверждают его правоту. Но обращение к историческим фактам вызывает сомнение в правильности такого толкования.
И Ершов, и Островский говорят о завоевателе-победителе, который пришел, разорил и пошел дальше. Исторический же Мамай потерпел поражение, бежал и был убит своими же воинами. О потерях, которые понесло татарское войско в Куликовской битве, в современном событию «Сказании о Мамаевом побоище» написано: «Поле же Куликово – не бе видети порожнего места, но все покрыто человеческими телесы: христианы, но седморицею (в семь раз. – В. М.) больши того побито поганых». Слово «побоище» имело тогда несколько другое значение, чем теперь, и значило не просто «жестокое сражение», «поражение, разгром». Поэтому переводить на современный язык название следует так: «Сказание о поражении Мамая». В более поздних, относящихся к XVII веку списках название сказания вносит большую ясность, кто же был побит: «Книга о побоище Мамая, царя татарского, от князя владимирского и московского Димитрия».
Смысл выражений «Мамай воевал», «Мамай прошел», изображающих крайнюю степень разорения, разгрома чего-либо во время нашествия врага и злодея, ясен и не вызывает сомнения, но мамай, упоминаемый в них, – это не конкретная историческая личность, не хан, потерпевший поражение в Куликовской битве, а нарицательное имя, которым на Руси в период татаро-монгольского ига называли татаро-монголов.
В 1237 году орды Батыя, разбив русское войско под Коломной, «взяша, – как сообщает летопись, – Москву… люди избиша от старьца и до сущего младенца, а град и церкви святые огневи предаши, и монастыри все и села пожгоша, и, много именья вземше, отъидоша».
Батый открыл длинный ряд татарских походов на Москву. Имена предводителей их отрядов были разные, но цель и дела – одни и те же. Из множества ханских имен народу особенно запомнилось одно – Мамай, наверное, потому, что его нашествие связывалось не только с тем, что он «избиша», «разориша» русские земли, но и его самого русские полки «избиша». Не последнюю роль, видимо, сыграло и то, что имя Мамай происходит от татарского фольклорного персонажа мамая – чудовища, которым пугают детей («Словарь русского языка XI–XVII вв.»).
Слово «мамай», в значении татарин, в русском литературном языке не сохранилось. Память о нем осталась лишь в некоторых областных говорах, да и то не столько в живой речи, сколько в старых словарях.
Областные говоры русского языка дают следующий материал для выяснения значения этого старинного слова. Перед революцией в Московской области было записано (и опубликовано в «Словаре русских народных говоров») слово «мамай» в значении «татарин». На Волге еще в 1920-е годы татарские могильники времен Золотой Орды называли мамайскими могилами, такого же происхождения название Мамаев курган в Царицыне (Волгограде). А на Дону до сих пор мамайскими называют исторические песни о татаро-монгольском нашествии:
Что в поле за пыль пылит,
Что за пыль пылит, столбом валит?
Злы татаровья полон делят…
В связи с тем, что слово «мамай» в значении «татарин», хорошо известное в XIII–XV веках, позже ушло из языка, а выражение «как мамай прошел», хотя и было понятно, но перестало употребляться, ему грозило со временем полное забвение. Но в XVIII веке оно, обретя второе дыхание, вновь вошло в активный запас языка.
С Петра Великого началась новая, блестящая эпоха победных войн России. На этом фоне поднялся интерес к военной истории страны, к воинским подвигам предков, в первом ряду которых стоял Дмитрий Донской – победитель в Куликовской битве. К его образу обратились художники и писатели. М. В. Ломоносов написал трагедию «Тамира и Селим». В ней, пишет он в предисловии, «изображается стихотворческим вымыслом позорная гибель гордого Мамая, царя татарского, о котором из российской истории известно, что он, будучи побежден храбростию московского государя, великого князя Дмитрия Иоанновича на Дону, убежал с четырьмя князьями своими в Крым, в город Кафу, и там убит от своих». Во второй половине XVIII века несколько раз издается лубочный лист «Ополчение и поход великого князя Дмитрия Иоанновича противу злочестивого и безбожного царя татарского Мамая, его же Божиею помощью доконца победи»; выходит предназначенное для народа сочинение поручика Ивана Михайлова «Низверженный Мамай, или Подробное описание достопамятной битвы… на Куликовом поле» и другие сочинения.
В 1807 году, когда Россия жила в ожидании неминуемой войны с Наполеоном, имела всеобщий успех трагедия В. Озерова «Дмитрий Донской». Критик того времени писал о ней: «Озеров возвратил трагедии истинное ее достоинство: питать гордость народную священными воспоминаниями и вызывать из древности подвиги великих героев, служащих образцом для потомства».
О воздействии этой трагедии на зрителя рассказал в своем дневнике С. П. Жихарев: «Вчера, по возвращении из спектакля, я так был взволнован, что не в силах был приняться за перо, да, признаться, и теперь еще опомниться не могу от тех ощущений, которые вынес с собою из театра… Я сидел в креслах и не могу отдать отчета в том, что со мною происходило. Я чувствовал стеснение в груди, меня душили спазмы, била лихорадка, бросало то в озноб, то в жар, то я плакал навзрыд, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу – словом, безумствовал, как безумствовала, впрочем, и вся публика, до такой степени многочисленная, что буквально некуда было уронить яблока… Сцена слилась с зрительной залой; чувства, которые выражались актерами, переживались всеми зрителями; молитва, которою трагик Яковлев заключал пьесу, неслась из всех грудей, принималась как выражение общих стремлений».
В трагедии Озерова Мамай как действующее лицо не выходит на сцену, но его имя постоянно звучит в репликах героев пьесы.
Таким образом, в XVIII – начале XIX века воскрешенное имя хана Мамая, ставшее первым и главным символом ордынского ига, широко и во всех слоях общества распространяется по России. И тогда-то вновь оживает старая поговорка. Но слово «мамай» теперь воспринимается как личное имя татарского военачальника и поэтому приобретает в написании прописную букву.
Кроме известных выражений «Мамай прошел» и «Мамай воевал», лишь отмечающих с горечью произошедшее, существует еще одна пословица, выражающая веру в торжество правого дела и, может быть, говорящая действительно об историческом хане Мамае: «И Мамай правды не съел». С. В. Максимов в своей книге «Крылатые слова» приводит ее как общеизвестную и потому не требующую объяснения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































