Текст книги "Истинная жизнь Севастьяна Найта"
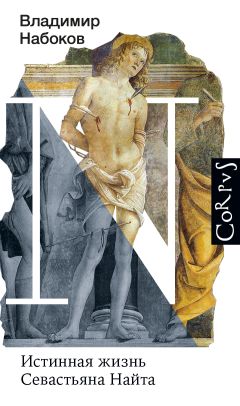
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Седьмая глава
Книга г. Гудмана «Трагедия Севастьяна Найта» получила в печати прекрасные отзывы. Ведущие ежедневные и еженедельные газеты поместили длинные рецензии. Ее назвали «впечатляющей и убедительной». Автору отдавали должное за «глубокое проникновение» в «характерный для нашего времени по самой своей сути» человеческий тип. Приводились пассажи, показывающие его искусное обращение с мелкими частностями. Один критик договорился до того, что снимает перед ним шляпу, – хотя надо сказать, что собственная шапка на Гудмане горит. Короче говоря, его дружески похлопывали по плечу, между тем как его нужно было поощрять пониже.
Что до меня, то я игнорировал бы эту книжку совершенно, если бы то была просто плохая книга, каких много, обреченная с прочими подобными ей на полное забвение уже следующей весной. Я знаю наверное, что в коллекции Летейской библиотеки без произведения г. Гудмана будет зиять досадная лакуна, несмотря на безчисленное множество имеющихся там томов. Но книга эта не просто дурна. Из-за качества ее предмета она автоматически сделается придатком неизбывной славы другого человека. Доколе будут помнить имя Севастьяна Найта, всегда найдется какой‐нибудь любознательный ученый, который добросовестно полезет по стремянке к полке, где «Трагедия Севастьяна Найта» полусонно притулилась между «Падением человека» Годфрея Гудмана и «Воспоминанием всей жизни» Самюэля Гудрича[43]43
Первый из помянутых был глостерский епископ в первой половине XVII века, второй – американский писатель и издатель первой половины XIX.
[Закрыть]. И если я не оставляю этой темы, то только ради Севастьяна Найта.
Метод г. Гудмана столь же незамысловат, что и его философия. Его единственная цель – показать, что «бедный Найт» был произведением и жертвой «нашего», по его выражению, времени, – хотя для меня всегда было тайной, отчего иным людям так хочется втянуть других в свои хронометрические понятия. «Послевоенные волнения», «послевоенное поколение» суть волшебные слова, отпирающие г. Гудману любую дверь. Бывают, однако, такие заклинания, которые отворяют сезамы не столько волшебством, сколько отмычкой, и боюсь, что Гудманово принадлежало к этому именно разряду. Но он глубоко заблуждается, думая, что, проникнув внутрь со взломом, нашел там что‐то ценное. Не хочу этим сказать, что г. Гудман вообще думает. На это он не способен при всем желании. Его книга касается только тех понятий, которые (по мнению книгопродавцев) кажутся рядовому уму привлекательными.
По г. Гудману выходит, что Севастьян Найт, «вылупившись из точеного кокона Кембриджа», был молодым человеком с обостренной чувствительностью, оказавшимся в мире жестоком и холодном. В этом мире «внешняя действительность столь грубо вторгается в самые заветные мечты», что она сначала насильно загоняет юную душу в угол, а потом разбивает ее. «Великая Война, – говорит г. Гудман не краснея, – изменила лик вселенной». После чего он пускается сочно описывать особенности послевоенной жизни, с которыми молодой человек сталкивался «на тревожной заре своего поприща»: глубокое чувство обманутости; душевная усталость и лихорадочное телесное возбуждение (выразившееся, например, в «развратной пустоте фокстрота»); ощущение безсмысленности всего на свете – и отсюда грубая распущенность. Затем: жестокость; в воздухе еще пахнет кровью; сверкают дворцы синема; неясные силуэты парочек в темных аллеях Гайд-парка; прелести стандартизации; культ машинерии; деградация Красоты, Любви, Чести, Искусства… и проч. Достойно удивления, что сам г. Гудман, который, насколько мне известно, был ровесником Севастьяна, сумел как‐то пережить это страшное время.
Но если г. Гудман и смог устоять, то его Севастьяну Найту это, очевидно, оказалось не под силу. Нам показывают, как в 1923 году Севастьян нервно ходит по комнатам в своей лондонской квартире, после короткой поездки на Континент, каковой континент «неописуемо поразил его вульгарным блеском своих адских игорных домов». Да, «ходит из угла в угол… хватаясь за виски… в пароксизме неудовлетворенности… зол на весь мир… одинок… жаждет какой‐нибудь деятельности, но сил нет, сил нет…» Отточия здесь обозначают не гудмановское тремоло, но фразы, которые я из милосердия прореживаю. «Нет, – продолжает г. Гудман, – в таком мире художнику не выжить. Найт мог сколько угодно бравировать, выставлять напоказ свой цинизм, столь раздражающий читателя в его ранних произведениях и причиняющий такую боль в двух его последних книгах… он мог сколько угодно казаться надменным и утонченно-сложным, но все же жало в нем сидело – колючее, отравленное жало».
Не знаю отчего, но у меня такое чувство, что наличие этого жала (полностью вымышленного) доставляет г. Гудману какое‐то мрачное удовольствие.
Было бы несправедливо с моей стороны создать впечатление, будто эта первая глава «Трагедии» представляет собою один густой поток философической патоки. Попадаются тут и художественные описания, и анекдоты, которые вообще составляют всю толщу книги с того момента, когда г. Гудман добирается до времени его знакомства с Севастьяном; но они подобны крошенному в сиропе печенью. Господин Гудман отнюдь не Бозвель[44]44
Многолетний (и своенравный) собеседник Самуила Джонсона и автор знаменитой его биографии, составленной из записанных и обработанных их разговоров.
[Закрыть]; и однако он, без сомненья, имел записную книжечку, куда заносил некоторые замечания своего хозяина – и, по‐видимому, относил иные из этих замечаний к его прошлому. Другими словами, нам предлагается вообразить, что в перерывах между своими занятиями Севастьян говаривал: «А знаете, любезный мой Гудман, мне это напомнило один случай из моей жизни, много лет тому назад, когда…» За чем следовал рассказ. У г. Гудмана с полдюжины таких историй, и ему кажется, что этого материала достаточно, чтобы заполнить пробелы его неведения о молодых годах Севастьяна в Англии.
Первая такая история (которую г. Гудман считает чрезвычайно характерной для «послевоенного университетского быта») повествует о том, как Севастьян показывал Кембридж своей лондонской подруге. «Это окно декана, – сказал он; после чего, разбив стекло камнем, прибавил: – А это сам декан». Стоит ли говорить, что Севастьян тут натянул г. Гудману нос – этот анекдот того же возраста, что и Кембридж.
Теперь другой. Во время короткого посещения Германии на вакациях (1921? 1922?) Севастьян как‐то раз поздним вечером, в раздражении от кошачьего концерта на улице, принялся запускать в нарушителей спокойствия разными предметами, в том числе и яйцом. Вскоре к нему в дверь постучал полицейский, который принес все эти вещи – кроме яйца.
Взято из старой (г. Гудман сказал бы «довоенной») книжки Джерома К. Джерома[45]45
«Трое на прогулке» (1900) – продолжение известной книги «Трое в лодке» (1889): те же герои ездят по Германии на викторианских велосипедах.
[Закрыть]. Господина Гудмана опять же провели за нос.
Третий анекдот: Севастьян, говоря о самом первом своем романе (ненапечатанном и уничтоженном), объясняет, что в нем повествовалось об одном располневшем студенте, который, приехав домой, узнает, что мать вышла замуж за его дядю; дядя же этот, отоларинголог, убил отца студента.
Господин Гудман не понял и этой шутки.
Четвертый: Летом 1922 года Севастьян перетрудился до того, что у него начались галлюцинации: он по временам видел как бы оптический призрак – монаха в черной рясе, быстро идущего на него с неба.
Этот потруднее: из рассказа Чехова.
Пятый —
Но довольно, не то г. Гудман, чего доброго, превратится в г. Сирано. Оставим его с носом, т. е. с собственным его рыльцем. Жаль его, но что тут поделаешь. И если б он хотя бы не приукрашивал и не комментировал так глубокомысленно этих «странных, причудливых происшествий», сопровождая их своими богатыми выводами! Угрюмый, своенравный, шальной Севастьян, мятущийся в сорвавшемся с цепи мире цеппелинов, и фабрик-исполинов, и метрополитэнов, и поливитаминов… Ну, может быть, здесь что‐то и есть.
Я стремлюсь к научной точности. Я никак не хочу лишать себя и крупицы правды оттого лишь, что в известном пункте моего исследования меня до крайности возмутила чья‐то несусветная чушь… Кто тут толкует о Севастьяне Найте? Бывший его секретарь. Были ли они в приятелях? Ничего подобного, как мы увидим позже. Правда ли – возможно ли, – что болезненный, порывистый Севастьян был в каком‐то противоречии со злокозненным, утомленным миром? Никоим образом. Но, быть может, был тут какой‐нибудь другой разлом, брешь, расщелина? Да, это правда.
Довольно обратиться к первым же тридцати страницам «Забытых вещей», чтобы увидеть, насколько пресный г. Гудман (кстати, никогда не приводящий цитат, которые могли бы поставить под сомнение главный тезис его в корне ложного сочинения) не понимает внутреннего отношения Севастьяна к внешнему миру. Для Севастьяна время никогда не было 1914 годом, или 1920‐м, или 1936‐м – у него всегда был год 1‐й. Газетные заголовки, политические теории, модные идеи значили для него ровно столько же, сколько словоизлияния инструкций, напечатанных на обертке мыла или зубной пасты (на трех языках, с ошибками по крайней мере в двух). Пена, может быть, получалась и вправду густая, и извещение о том могло звучать убедительно, да что из того. Он мог прекрасно понимать чувствительность интеллигентов, которые лишались сна из‐за землетрясения в Китае; но не мог, в силу своей натуры, понять, отчего те же самые люди не испытывают точно такого же приступа горестного возмущения при мысли о подобном бедствии, произошедшем столько же лет тому назад, сколько до Китая верст. Время и пространство были для него измерениями одной и той же вечности, почему чудовищно нелепа самая мысль, что он как‐то особенно, «по‐современному», относился к тому, что г. Гудман именует «атмосферой послевоенной Европы». В том мире, в котором он явился на свет, он чувствовал себя попеременно то счастливым, то не в своей тарелке, но так чувствует себя и путешественник, который может приходить в восторг от путевых впечатлений и чуть ли не одновременно страдать от морской болезни. В каком бы веке Севастьян ни родился, он точно так же радовался бы, точно так же был бы несчастлив, весел и встревожен: так дитя, сидя на пантомиме, нет-нет да и вспомнит о завтрашнем визите к зубному. Корень его затруднений заключался не в том, что он был человек высоконравственный, а век его безнравственный, или наоборот; и не в том, что у него было загнанное внутрь чувство, будто его молодость не могла получить естественного развития в мире, где катафалки и фейерверки сменяют друг друга слишком быстрой чередой; но в том только, что он начинал сознавать, что ритм его души значительно богаче, чем у других. Уже тогда, в конце кембриджского периода, а может быть, и того раньше, он знал, что у легчайшей его мысли или ощущения всегда было хотя бы на одно измерение больше, чем у ближнего. Он мог бы выставлять эту способность напоказ, если бы ему свойственно было хвастливое тщеславие. Но этого в нем не было вовсе, и ему приходилось испытывать только неловкость оттого, что среди простого стекла он – хрусталь, среди окружностей – шар (хотя все это было ничто в сравнении с тем, что ему пришлось пережить, когда он наконец засел за свои литературные труды).
«Я был, – пишет Севастьян в «Забытых вещах», – до того стеснителен, что постоянно умудрялся совершить самую ту оплошность, которой более всего хотел избежать. В своих отчаянно-неудачных попытках не выделяться в окружающей меня среде я был похож на хамелеона, страдающего дальтонизмом. И мне, и другим людям легче было бы сносить эту мою стеснительность, когда б она была обыкновенной неуклюже-прыщавой разновидности: многие молодые люди через это проходят, и никто на это не обращает внимания. Но у меня это приняло болезненно-скрытную форму, совершенно безотносительную к страданиям полового порядка. Среди самых избитых изобретений пыточного застенка имеется лишение узника сна. У большинства в течение дня какая‐то часть сознания пребывает в блаженной дреме: голодный, поедая бифштекс, занят своей едой, а не, скажем, воспоминанием о сне, виденном за семь лет перед тем, в котором у ангелов были на головах цилиндры. Но в моем случае все ставни и люки и двери ума в любое время дня стояли отворенными. У большинства человеческих мозгов бывают воскресные дни, а моему было отказано даже в коротеньком отдыхе. Это состояние непрерывного бодрствования было чрезвычайно мучительно, причем не только само по себе, но и по прямым своим последствиям.
Всякое обыкновенное действие, которое я в ходе вещей должен был произвести, приобретало такой усложненный образ, вызывало в моей голове такое множество связанных с ним идей, а ассоциации эти бывали до того замысловатыми и неразборчивыми, до такой крайности безполезными в практическом применении, – что я или бросал начатое, или все портил из‐за одного только нервного напряжения. Однажды утром я зашел к издателю одного журнала, где хотел поместить несколько своих кембриджских стихотворений, и какое‐то особенное его заикание, соединившись с некоей комбинацией углов в очертании крыш и труб, слегка искаженном из‐за дефекта оконного стекла, – да еще странный запах как бы прели в комнате (не от роз ли, разлагавшихся в корзине для бумажного сора?) – отправили мои мысли в такое дальнее и извилистое странствие, что, вместо того чтобы сказать то, что я имел в виду сказать, я вдруг начал рассказывать человеку, которого видел впервые, о литературных видах нашего общего знакомого, который, как я запоздало вспомнил, просил меня держать их в секрете…
…Хорошо зная это опасное свойство моего сознания отлучаться, я боялся знакомиться с людьми, боялся их обидеть, боялся показаться в их глазах смешным. Но та же самая особенность, или изъян, который меня так мучил, когда приходилось сталкиваться с так называемой практической стороной жизни (хотя, между нами говоря, вести амбарные книги или торговать книгами – занятия вполне нереальные при свете звезд), доставлял мне изысканное удовольствие, когда я предавался своему одиночеству. Я был влюблен в страну, которая была мне домом (поскольку моя природа вообще могла вместить понятие дома); у меня случались настроения то в духе Киплинга, то Руперта Брука, то Гаусмана. Собака слепого возле Гарродса или картинка, цветными мелками нарисованная на панели, бурые листья на дорожках Новолесья или жестяное корыто, висящее снаружи на черной кирпичной стене дома на рабочей окраине, карикатура в «Петрушке» или витиевато-яркое место в «Гамлете» – все это образовывало ясную гармонию, в которой я тоже занимал некое место в тени[46]46
Гарродс (Harrods) – гигантский магазин в Лондоне; Новолесье (New Forest) – старинное живописное место прогулок, особенно верхом на пони, в гэмпширском графстве в ста пятидесяти верстах от Лондона; «Петрушка» (Punch) – старый английский сатирический журнал.
[Закрыть]. Лондон моей молодости вспоминается мне в образе каких‐то безконечных блужданий, вдруг вспыхнувшего на солнце окна, прорезавшего синюю утреннюю мгу, или красивых черных проводов, по которым бегут, как подвешенные, дождевые капли. Я словно прохожу неощутимыми шагами по призрачным газонам, через танцевальные залы, где скулит гавайская музыка, по сереньким улочкам с милыми названьями, покуда не добираюсь до некоей теплой ложбинки, где, свернувшись калачиком в темноте, обретается нечто очень похожее на самую суть моей самости».
Жаль, что г. Гудман не удосужился прочесть это место, хотя сомневаюсь, что он уловил бы его внутренний смысл.
Он любезно прислал мне экземпляр своей книги. В сопроводительном письме объяснялось – слогом тяжеловесно-шутливым, долженствовавшим обозначать на письме добродушное подмигивание, – что если он не упомянул об этой книге во время нашей с ним встречи, то это оттого, что он хотел осчастливить меня сюрпризом. И тон его, и этот погромыхивающий смешок, и напыщенное краснобайство подходили для роли как бы старого друга дома, милого брюзги, который привез детям дорогие подарки. Но г. Гудман плохой актер. Он вовсе и не думал, что мне могут доставить удовольствие его книга и усердие, с которым он способствовал прославлению имени члена моего семейства. Он знал с самого начала, что книга его дрянь, как знал и то, что ни ее обложка, ни суперобложка, ни рекламное перечисление ее достоинств на суперобложке, ни, наконец, все эти рецензии и объявления в печати меня не проведут. Отчего он полагал за лучшее держать меня в неведении, несовсем понятно. Может быть, он боялся, что я могу назло ему взять да и настрочить собственную книжку и успеть перебежать ему дорогу.
Но он прислал мне не только книгу. Он приложил и обещанные счета. Здесь не место входить в эти материи. Я передал их своему поверенному, который уже познакомил меня со своим заключением. Скажу только, что неискушенностью Севастьяна в делах практических воспользовались самым безцеремонным образом. Господин Гудман никакой не литературный агент. Он просто ставит на книги, как ставят на лошадей. Он не принадлежит по праву к этой интеллигентной, честной, трудоемкой профессии. На сем остановимся; но я еще не свел всех счетов с «Трагедией Севастьяна Найта» – или, вернее, с «Комедией господина Гудмана».
Восьмая глава
После смерти матери я не виделся с Севастьяном два года. За это время от него пришла всего одна открытка, с видом на обороте, да еще чеки, которые он считал своим долгом мне присылать. И вот серым пасмурным днем в ноябре или декабре 1924 года, идя по Елисейским Полям к Этуали, я вдруг увидел Севастьяна в окне одного известного кафе. Помню, что первым моим побуждением было продолжать идти своей дорогой, так больно мне было сознавать, что он не снесся со мной по приезде в Париж. Но потом я одумался и вошел. Увидел затылок Севастьяна, с его блестящими темными волосами, и опущенное лицо барышни в очках, сидевшей насупротив. Она читала письмо, и пока я подходил к ним, она с легкой улыбкой отдала его Севастьяну и сняла свои роговые очки.
– Славно, правда? – сказал Севастьян в то самое мгновение, что я положил руку ему на худое плечо. – А-а, здравствуй, В., – сказал он, поднимая глаза. – Это мой брат, мисс Бишоп. Присаживайся, сделай милость.
Она была хороша неяркой какой‐то миловидностью, с бледным, слегка веснущатым лицом, чуть впалыми щеками, серо-голубыми близорукими глазами и тонкими губами. На ней был серый тайер с голубым шарфом и треугольная шляпка. Волосы у нее были, помнится, коротко острижены.
– А я как раз собирался тебе телефонировать, – сказал Севастьян, боюсь, не слишком искренне. – Я здесь, видишь ли, всего на день, а завтра назад в Лондон. Что тебе заказать?
Они пили кофе. Клэр Бишоп, часто моргая, порылась у себя в ридикюле, нашла платок и слегка прижала его к одной розовой ноздре, потом к другой. «Насморк усиливается», – сказала она и защелкнула сумку.
– Отлично, – сказал Севастьян в ответ на естественный вопрос. – Вот только что кончил роман, и издателю, которому я его послал, он как будто нравится, судя по его обнадеживающему письму. Он даже, кажется, одобряет мое название, «Дрозд зашиб воробья», хотя Клэр оно не нравится.
– По-моему, оно звучит как‐то глупо, – сказала Клэр. – А потом, птица вообще не может никого «зашибить».
– Это из известной частушки, – сказал Севастьян, чтобы мне было понятно, о чем речь[47]47
В английской частушке для детей, «Who Killed Cock Robin?», известной по крайней мере с начала XVIII века, Дрозда (Cock Robin) убивает Воробей. Вот грубый перевод: «Кто да кто убил Дрозда? / Я, ответил Воробей. / Это я убил Дрозда, / Подстрелил его стрелой. <…> / И тогда все пернатые / Стали плакать и сетовать, / Когда птицы прослышали / О смерти бедного Дрозда». Название книги Севастьяна Найта, «Cock Robin Hits Back», буквально значит «Дрозд дает сдачи», отвечает ударом на удар. Присловье «зашибить дрозда» по‐русски значит выпить лишнего.
[Закрыть].
– Довольно глупой частушки, – сказала Клэр. – Первое ваше название было куда лучше.
– Не знаю… Призма… Край призмы… – проговорил Севастьян. – Это несовсем то… Жалко, что мой Дрозд не пользуется успехом…
– Название, – сказала Клэр, – должно передавать расцветку книги, а не содержание.
То был первый и последний раз, что Севастьян при мне говорил на литературные темы. В таком безпечном настроении мне тоже редко случалось его видеть. Он выглядел ухоженным и подтянутым. На его белом лице, с тонкими чертами, с легкой подштриховкой на щеках (он принадлежал к числу тех бедолаг, которые вынуждены повторно бриться, перед тем как обедать в обществе других людей), не было и следа того тусклого, нездорового налета, который так часто на нем появлялся. Мне же, напротив, было неловко, слова не шли. Я чувствовал, что был тут лишний.
– А не пойти ли нам в синема, – спросил Севастьян, запуская два пальца в жилетный карман.
– Пойдемте, если хотите, – сказала Клэр.
– Га-сонн, – сказал Севастьян. Я и раньше замечал, что он нарочно говорит по‐французски с завзятым британским выговором.
Мы долго шарили под столом и под плюшевыми диванчиками в поисках Клэриной перчатки. Ее духи были нежно-прохладного оттенка. Наконец я нашел ее – серая замша, белая подкладка, опястья фестонами. Она не спеша натягивала их, пока мы проталкивались сквозь карусельную дверь. Роста скорее высокого, с очень прямой осанкой, хорошие щиколки, туфли на низком каблуке.
– Вот что, – сказал я, – я, пожалуй, не пойду с вами в кинематограф. Ужасно жалко, но у меня дела. Может быть… Когда, собственно, ты уезжаешь?
– Когда? Нынче вечером, – отвечал Севастьян, – но я скоро опять приеду… Какой я болван, что не известил тебя загодя. Во всяком случае мы тебя немного проводим…
– Вы хорошо знаете Париж? – спросил я Клэр…
– Забыла пакетик! – сказала она, вдруг остановившись.
– Не беда, я принесу, – сказал Севастьян и пошел назад в кафе.
Мы же с ней очень медленно двинулись по широкому троттуару.
Я в смущении повторил свой вопрос.
– Да, довольно хорошо, – сказала она. – У меня здесь живут друзья, я у них гощу до Рождества.
– Севастьян замечательно хорошо выглядит, – сказал я.
– Да, пожалуй, – сказала Клэр, оглянувшись, и потом бросила на меня прищуренный взгляд. – Когда мы с ним познакомились, он выглядел человеком конченым.
– Когда это было? – должно быть, спросил я, потому что запомнил ее ответ: «Этой весной в Лондоне, на одной прежалкой вечеринке; а впрочем, на вечеринках он всегда выглядит обреченно».
– Вот ваши бонн-бонн… – раздался позади голос Севастьяна. Я им сказал, что мне нужно на станцию метро Этуаль, и мы стали обходить площадь с левой стороны. Мы начали было переходить авеню Клебер, когда велосипедист чуть не сбил Клэр с ног.
– Вот глупышка‐то, – сказал Севастьян, хватая ее за локоть.
– Тут слишком много голубей, – сказала она, когда мы достигли троттуара.
– Они к тому же пахнут, – прибавил Севастьян.
– Чем? У меня заложен нос, – спросила она, втягивая воздух и глядя на плотную толпу жирных птиц, важно ступавших у нас под ногами.
– Ирисом и резиной, – сказал Севастьян.
Застонал грузовик, уворачиваясь от мебельного фургона, и вспугнутые голуби принялись колесить по небу. Потом они расселись по фризу Триумфальной арки, а когда несколько из них спорхнуло оттуда вниз, то, казалось, кусочки резного карниза оперились и ожили. Годы спустя я нашел этот образ «камня, переплавленного в крылья» у Севастьяна в третьей книге.
Мы пересекли еще несколько улиц и пришли к белой балюстраде подземной станции. Здесь мы простились, в приподнятом тоне… Помню, как удалялся плащ Севастьяна и голубовато-серая фигура Клэр. Она взяла его под руку и переменила шаг, подлаживаясь к его непринужденной походке.
От мисс Пратт я теперь узнал немало такого, от чего мне захотелось узнать еще гораздо больше. Она ко мне прибегла с тою целью, чтобы выяснить, остались ли между бумагами Севастьяна какие‐нибудь письма от Клэр Бишоп. Она обращала мое особенное внимание на то обстоятельство, что сама Клэр Бишоп ей этого не поручала; что она вообще не была осведомлена о нашей встрече. Она вот уже три или четыре года как замужем и слишком горда, чтобы говорить о прошлом. Мисс Пратт виделась с ней через неделю после того, как известие о смерти Севастьяна было распечатано в газетах, но хотя они и очень старые подруги (иными словами, знали друг о друге больше, чем каждая из них воображала), Клэр по поводу этого события не распространялась. «Надеюсь, он не очень был несчастлив, – сказала она тихо, потом прибавила: – Интересно, сохранил ли он мои письма». Она это так сказала – так сузила глаза – так коротко вздохнула, прежде чем переменить тему разговора, – что ее подруга пришла к заключению, что для нее было бы большим облегчением знать, что письма эти уничтожены. Я спросил мисс Пратт, можно ли мне снестись с Клэр и можно ли уговорить ее рассказать мне что‐нибудь о Севастьяне. Мисс Пратт отвечала, что, зная Клэр, она даже не осмелилась бы передать ей мою просьбу. Сказала, что это «безнадежно». Меня мимолетом посетил недостойный соблазн намекнуть, что письма эти у меня имеются и что я передам их Клэр, если она согласится встретиться со мной, – так страстно мне хотелось увидеть ее, увидеть, подглядеть, как по ее лицу пробежит тень имени, которое я произнесу. Но нет – шантажировать прошлое Севастьяна я не мог. Об этом не могло быть и речи.
– Письма сожжены, – сказал я. Потом я продолжал просить, опять и опять повторяя, что спрос не грех, что она могла бы, может быть, уговорить Клэр, передав ей наш разговор и сказав, что мой визит будет очень кратким и совершенно безобидным. «Но что, собственно, вы хотите знать? – спросила мисс Пратт. – Я ведь и сама многое могу вам рассказать». Она долго говорила о Клэр и Севастьяне, и говорила очень хорошо, хотя, как у большинства женщин, у нее была склонность к назидательности задним числом. «Вы хотите сказать, – прервал я ее в одном месте повествования, – что имя этой женщины так и осталось никому не известно?» – «Да», – сказала мисс Пратт. «Но тогда как же я ее разыщу?» – воскликнул я. «Никак».
– Когда, вы сказали, это началось? – опять перебил я ее, услышав о его болезни.
– Не знаю наверное, – сказала она. – Когда это при мне случилось, это был уже не первый припадок. Мы вышли из ресторана. Было очень холодно, а он никак не мог найти таксомотора. Был раздражен, рассержен. Он бросился было к одному, затормазившему невдалеке, но вдруг остановился и сказал, что ему нехорошо. Помню, как он достал из коробочки какую‐то пилюлю и раскрошил ее в своем белом шолковом кашнэ, при этом он как‐то прижимал его к лицу. Я думаю, это было в двадцать седьмом году или в двадцать восьмом.
Я задал еще несколько вопросов. Она на все отвечала с тою же добросовестностью, а потом досказала свою грустную историю.
Когда она ушла, я все записал, – но все это было мертво, мертво… Мне просто непременно нужно было повидаться с Клэр! Одного ее взгляда, слова, самого звука ее голоса было бы довольно, чтобы оживить прошлое, а иначе это совершенно, совершенно невозможно! Отчего это так было, я не понимал, как не мог понять и того, почему в тот незабываемый день за несколько недель перед тем я был так уверен, что если застану умирающего человека в живых и в памяти, то узнаю нечто такое, чего покуда не знает ни один смертный.
И вот как‐то утром в понедельник я отправился с визитом.
Горничная ввела меня в маленькую гостиную. Клэр была дома, что мне удалось узнать у этой ражей, грубоватой молодой особы. (Севастьян где‐то пишет, что английские романисты никогда не отступают от раз заведенной у них манеры описывать домашнюю прислугу.) А от мисс Пратт я знал, что г. Бишоп служит по будням в городе; странно, что она вышла за однофамильца, причем не из родни какой‐нибудь, а по чистому совпадению. Неужели откажет? Все как будто говорило о достатке, впрочем, не более того… Не иначе на втором этаже главная гостиная глаголем, над нею спальни. По всей улице стояли такие же узкие, тесно придвинутые друг к другу дома. Долго же она раздумывает… Может быть, нужно было рискнуть и сначала телефонировать? Успела ли уже мисс Пратт сказать ей о письмах? Вдруг послышались мягкие шаги на лестнице, и в комнату быстро вошел крупный мужчина в черном халате с пунцовым подбоем.
– Прошу прощенья за мой вид, – сказал он, – но я сильно простужен. Моя фамилья Бишоп; вы, полагаю, желали бы видеть мою жену.
У меня мелькнула странная мысль, не подхватил ли он этот насморк у розовоносой, охрипшей Клэр, какой я ее видел за двенадцать лет перед тем.
– Да, – сказал я, – если она еще помнит меня. Мы с ней виделись однажды в Париже.
– О да, она отлично помнит ваше имя, – сказал г. Бишоп, смотря мне прямо в глаза, – только, к сожалению, она не может вас принять.
– Нельзя ли мне прийти в другой раз? – спросил я.
Наступила короткая пауза, а затем г. Бишоп спросил:
– Если не ошибаюсь, ваше посещение имеет какое‐то отношение к кончине вашего брата?
Он стоял передо мною, засунув руки в карманы халата и глядя на меня; его светлые волосы были на скорую и сердитую руку зачесаны назад – хороший, добропорядочный человек, который, надеюсь, не будет в претензии за эти мои слова. Надо сказать, что совсем недавно, при весьма печальных обстоятельствах, мы с ним обменялись письмами, которые совершенно рассеяли всякое недоброе чувство, которое могло закрасться в наш первый разговор.
– Если и так, разве она оттого не захочет увидеться со мной? – спросил я в свою очередь. Признаюсь, это было глупо сказано.
– Вы ни в каком случае не увидите ее, – сказал г. Бишоп.
После этих слов мне ничего не оставалось делать, как удалиться[48]48
Эта фраза, стоящая в манускрипте, выпущена при наборе, вероятнее всего по ошибке.
[Закрыть].
– Сожалею, – примолвил он, слегка сбавив тон, чувствуя, что опасность миновала и я отступаю. – Уверен, что в других обстоятельствах… но видите ли, жена моя совсем не расположена вспоминать прежние знакомства, и, не в обиду будет сказано, я полагаю, что вам не следовало сюда приходить.
Я шел восвояси с чувством, что все это у меня вышло из рук вон плохо. Я представлял себе, чтó сказал бы ей, если б застал ее одну. Мне как‐то удалось убедить себя, что, будь она одна, она бы вышла ко мне: так препятствие непредвиденное приуменьшает первоначально воображенное. Я сказал бы ей: «Не будем о Севастьяне. Поговорим о Париже. Хорошо ли вы его знаете? А помните голубей? Что вы теперь читаете… Ходите ли в кинематограф? Всё ли теряете перчатки, пакетики?» Или, может быть, я бы действовал решительнее, прямым наступлением. «Да, я знаю, какие вас могут обуревать чувства, но прошу вас, прошу вас, поговорите со мной о нем. Ради его портрета. Ради вещиц, которые разбредутся и пропадут, если вы откажетесь отдать их мне для книги о нем». Я так был уверен, что она бы не отказала.
И через два дня, твердо решившись следовать второму плану, я сделал еще одну попытку. На сей раз я положил себе быть осмотрительнее. Было чудесное утро, очень раннее, и я не сомневался, что она выйдет из дому. Я незаметно занял бы свой пост на углу ее улицы, дождался бы, когда ее муж уйдет на службу, дождался бы, когда она выйдет, и тогда‐то подошел бы к ней. Но все получилось несовсем так, как я рассчитывал.
Мне еще оставалось пройти некоторое расстояние до угла, как вдруг появилась сама Клэр Бишоп. Она только что перешла с моей стороны улицы на противуположную панель. Я сразу ее узнал, хоть видел ее всего каких‐нибудь полчаса за много лет перед тем. Узнал – хотя лицо ее теперь съежилось, а тело странно раздалось. Она ступала медленно и тяжело, и, идя к ней через улицу, я понял, что она на сносях. В силу своего порывистого характера, который меня часто подводил, я продолжал идти по направлению к ней с приветственной улыбкой, но в эти несколько мгновений мною уже овладело совершенно ясное сознание невозможности ни заговорить с ней, ни даже как‐нибудь окликнуть ее. Дело было вовсе не в Севастьяне или моей книге и не в нашем разговоре с Бишопом, а исключительно в этой ее важной самососредоточенности. Я знал, что мне заказано даже обнаружить себя, но, как я сказал, порыв мой уже перенес меня на ту сторону, да так, что, ступив на панель, я едва с ней не столкнулся. Она тяжело посторонилась и подняла на меня свои близорукие глаза. Слава Богу, она меня не узнала. Было что‐то душещемящее в торжественном выражении ее бледного, словно опилками обсыпанного лица. Мы оба остановились. С возмутительным присутствием духа я извлек из кармана первое, что подвернулось под руку, и сказал: «Простите, это не вы обронили?»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































