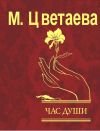Текст книги "Вечные ценности. Статьи о русской литературе"

Автор книги: Владимир Рудинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Я. Кулдуркаев183183
Яков Яковлевич Кулдуркаев (1894–1966) – мордовский поэт, писатель. Участник Первой мировой войны. В 1938 репрессирован как «враг народа». Реабилитирован в 1958.
[Закрыть], К. Абрамов184184
Кузьма Григорьевич Абрамов (1914–2008) – писатель, драматург. Народный писатель республики Мордовия. Главный редактор Мордовского книжного издательства.
[Закрыть], Н. Эркай185185
Никул Эркай (наст. имя Николай Лазаревич Иркаев; 1906–1978) – мордовский поэт, писатель, драматург, переводчик.
[Закрыть]. «Кезэрень пингеде эрзянь раськеде» (Саранск, 1994); И. Кривошеев186186
Иван Петрович Кривошеев (псевд. Илька Морыця) (1898–1967) – мордовский поэт. Педагог. Заслуженный учитель Мордовской АССР.
[Закрыть]. «Кочказь произведеният» (Саранск, 1998)
Обе книги изданы в элегантных крепких переплетах и сопровождены прекрасными иллюстрациями. Название первой, содержащее три поэмы: «Эрьмезь», «Сараклыч» и «Моро Ратордо», по-русски означает: «О древних временах, об эрзянском народе», второй – «Избранное».
Из приложенных биографий мы узнаем, что двое из авторов подверглись большевицким репрессиям. Кулдуркаев провел в лагере 20 лет (и умер вскоре по выходе); Кривошеев отделался несколькими месяцами заключения, но вдоволь натерпелся истязаний и оскорблений.
Обоих обвиняли в мордовском национализме. Со свойственной советской системе противоречивостью, сперва маленьким народам России было позволено развивать свои культуру и литературу; а потом их стали за это с крайней строгостью преследовать. Помнится, мы где-то читали, что у черемисов под корень истребили местную интеллигенцию. Как видим, и у мордвы было немногим лучше.
Немудрено, что поэты обращали свой взгляд по преимуществу в прошлое, которое казалось более светлым (а возможно, и менее опасным, – хотя это и оказалось ошибкой).
«Песнь о Раторе» Никула Эркая (он же Николай Лазаревич Иркаев) переносит нас в седую древность. Мордвины живут среди глухих лесов, молятся языческим богам, охота для них один из главных источников существования; и капканы для зверей – самое важное искусство. Лес источник жизни; но в нем обитают могучие и недобрые духи; беда тому, кто попадает в их руки!
Поэма открывается увлекательным введением в стиле арабских сказок, сразу захватывающим внимание читателя.
Мы бы сказали, однако, что вторая часть повествования оставляет впечатление анахронизма, и потому слабее первой. История о жестоком наместнике и его свирепых солдатах явно принадлежит другой уже эпохе.
Эпическая поэма «Эрьмезь» (за которую сочинитель заплатил такой страшной ценой!) отчасти напоминает «Руслана и Людмилу»: превращения, чудеса, мотивы, взятые из фольклора (только не русского, а мордовского, где, впрочем, встречается немало сходных элементов). Как факт, первоначальное название и было «Эрьмезь ды Котова».
Эрзянский витязь Эрьмезь влюбляется в дочь мокшанского князька Котову. Но ее отец, коварный Пурейша, сперва задает ему всякие трудные поручения (типичный сказочный сюжет!), которые он все же выполняет, а потом пытается его обмануть. Эрьмезь похищает девушку и навлекает на себя мщение тестя, тот призывает на помощь враждебных соседей, половцев и русских, и в завязавшейся войне Эрьмезь в конце концов погибает.
Согласимся с негодующим восклицанием биографа о судьбе Якова Яковлевича Кулдуркаева, кандидата филологических наук И. Инжеватова: «Вот в какие времена мы жили!»
Короткая поэма К. Абрамова «Сараклыч» говорит о более ясно определенной эпохе: о татарских набегах и татарском иге, от которых мордва страдала наравне с русскими, а и то и хуже (мордовские народные песни полны о том воспоминаний). В борьбе с кочевниками мордовцы и русские действовали вместе, что здесь и показано.
Абрамов пишет исключительно ясным и прозрачным языком. Он, впрочем, не только поэт, но и автор нескольких романов в прозе.
К прошлому обращался и выдающийся эрзянский поэт Илья Кривошеев; но к прошлому уже более близкому. Положим, в его «старинной сказке» о непредусмотрительной девушке время действия определить нельзя; но персонажи носят уже христианские имена – Манюша, Алексей, – и даже местные названия отмечены русским влиянием; например, магическое озеро Зеркалка.
Напротив, в его пьесе «Олдокимень свадьбазо» («Свадьба Евдокима») время точно указано: 1880-е годы. Цепь не лишенных очарования картинок из сельской жизни, вплоть до включенных в нее остроумных частушек, отдельно напоминает «Сорочинскую ярмарку». Дочь богатого хозяина Катя избрала себе изо всех поклонников пастуха Олдокима и добивается своей цели с еще большей решительностью, чем ее суженый.
Лирические стихи Кривошеева, почти все небольшие по размеру, посвящены главным образом природе; реже любви. Иногда он отдает дань советским мотивам своего периода; но грешит он этим относительно немного.
Его ученик (не только в поэзии, он окончил педагогическое училище, где тот преподавал), А. Доронин рисует очень обаятельный образ Кривошеева в его биографии, озаглавленный «Илька Морыця» (псевдоним, которым пользовался Кривошеев; по-русски примерно «Ильюша Певец»).
Так, он рассказывает, что, ведя литературный кружок в училище, Кривошеев избегал критиковать, а всегда пытался отметить то удачное, что можно было найти в стихах начинающих поэтов и поэтесс, стараясь их ободрить к дальнейшему творчеству.
В целом, мы видим, что несмотря на испытания, литературная Мордовия пережила не без успеха ужасы советского строя. Будем надеяться, что с концом большевизма она сможет развернуться еще успешнее…
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 24 января 2004 г., № 2743, с. 3.
Литературы Поволжья
В московском журнале «Дружба народов», № 9 за 1988 г., помещен большой репортаж чувашского литературоведа А. Хузангая «Право на наследство» с подзаголовком «Молодая финно-угорская поэзия Поволжья и Приуралья». Для нас ситуация, сложившаяся в культурной жизни данных народов, представляется особо важной потому, что речь идет о племенах, которые в рамках здравого смысла не могут (да вроде бы и не проявляют желания) отделиться от России; и притом таких, которые с нами тесно связаны принятой ими православной религией и опытом долгого общения.
Хузангай рассказывает, как он, выехав из Чебоксар, посетил города Йошкар-Ола (бывший Царевококшайск и затем Краснококшайск), Саранск и Ижевск, где имел беседы с местными писателями, выражая сожаление, что мог с их произведениями ознакомиться только в русских переводах. Впрочем, он уточняет, что: «Быть чувашским критиком, оказывается, большое преимущество в данном случае, ибо, как выражаются ученые мужи, “…по мере укрепления ислама в культуре татар и башкир, в разной степени расширялись и стабилизировались центрально– и среднеазиатские традиции, а среди чувашей – язычников и христиан – доминирующим стал субстратный слой финно-угорской культуры. В результате чуваши оказались наиболее бикультуральным этносом: сохраняя архаичный тюркский язык, они в то же время развивали культуру, во многих отношениях близкую к культуре финно-угорского мира”» («Болгары и чуваши», Чебоксары, 1984).
Жаль, что этюд Хузангая не охватывает зырянской литературы (кажется, как раз весьма богатой), не говоря уже о положении дел у пермяков, вогулов и остяков. Он ограничивается, как факт, черемисами (марийцами), мордвой и вотяками (удмуртами).
О новых веяниях, или вернее о пробуждении спавших сил, свидетельствует следующий пассаж, посвященный творчеству одного из молодых марийских поэтов, Анатолия Тимиркаева: «Есть у Тимиркаева замысел новой поэмы, тема которой снова память – на этот раз память о марийских поэтах поколения “отцов”, незаконно репрессированных в конце тридцатых голов, погибших на полях войны в сороковые (Олык Ипай, Йыван Кырля, Пет Першут, Шадт Булат, Яныш Ялкайн и другие). Словно ночные бабочки, тени этих вечно юных поэтов слетаются на свет лампы, стоящей на столе поэта конца восьмидесятых, совесть которого тревожит несправедливость их судьбы, и он ведет с ними долгий разговор. Их поддержка нужна Тимиркаеву сейчас, когда поэтическое слово проходит испытание на ветру гласности. Хочу только пожелать, чтобы автор нашел в себе душевные силы воплотить трагедию того поколения, не оставляя места недомолвкам и полуправде».
Те же проблемы, что и у нас!
С этими образами перекликаются цитируемые далее оценки венгерского литературоведа Петера Домокоша: «Исследователь отмечает конец 30-х годов, когда “литература национального духа и социалистической гражданственности была разделена: национальная ветвь погибла, политическая исказилась…”».
Как формулирует сам Хузангай: «Репрессии конца 30-х годов, последующая война уничтожили самую активную часть творческой интеллигенции в автономиях Урала и Поволжья… другим навешали ярлыки… третьих обрекли на длительное молчание и открыли дорогу спекулятивному словоблудию, которое всячески отмежевывалось от национального».
Но есть и другие, более специфические проблемы, завещанные предшествующими годами, – теми, которые нынешняя под-советская печать именует временами культа личности и застоя: «Последовательно, на всех ступенях надо осуществить коренное улучшение преподавания марийского языка н литературы. Это первый шаг на трудном пути».
Хузангай приводит слова черемисского литературоведа А. Васинкина: «Серьезные проблемы связаны с литературной критикой. Мы же не имеем возможности назвать белое – белым, черное – черным. Критика конкретная, с называнием фамилий авторов, жесткая и нелицеприятная, не в чести. А с другой стороны, вот два наших молодых прозаика выступили в журнале “Ончыко” с повестями (Алексей Александров – “Узел сердец”, Геннадий Алексеев – “Сиротская душа”), попытались поглубже заглянуть в душу человеческую, острее, чем привычно, поставить проблемы современного села. Это была попытка прорвать традицию вторичной “деревенской” прозы. Наша критика встретила ее в штыки, она подошла к этим вещам с критериями чуть ли не 20-летней давности. “Городской”, “молодежной” прозы у нас нет. Молодые (к названным именам можно прибавить имена Валерия Берлинского, Геннадия Гордеева) приблизились, скажем, к некоторым “запретным” в контексте местной ситуации темам (брошенные дети, алкоголизм, более открытое изображение интимной сферы). И тут же посыпались обвинения чуть ли не во фрейдизме, натурализме, порнографии. Хотя у них через интимное, через сферу эмоций, просвечивают как раз социальные проблемы”».
Интересно упоминание о талантливом третьекласснике, стихи которого взбудоражили среду взрослых поэтов. Как-то сложится судьба этого марийского Пушкина, чье имя нам пока не названо?
Светлое впечатление осталось у чувашского критика от встреч с поэтами Удмуртии: «Уже самые первые встречи в Ижевске оставили впечатление, что организационно-творческая работа с молодыми ведется Союзом Писателей Удмуртии довольно успешно. Обычная “универсальная” система здесь срабатывает без ощутимых сбоев. Активно задействованы различные литобъединения и кружки (их в Удмуртии около сорока, вниманием не обделена и глубинка, так, например, в Глазове, Сарапуле, Воткинске, в Можгинском районе литобъединения достаточно многочисленны и сильны)».
И затем: «Мы обсуждаем и чисто полиграфические проблемы: в этом отношении продукция издательства “Удмуртия” выгодно отличается от “рядовых” провинциальных изданий. Особенно хороши поэтические книги – изящны, нестандартно оформлены».
Мы узнаем, что в целом в литературах Поволжья и Приуралья отчетливо чувствуется преобладание поэзии над прозой. Любопытное явление представляет собою особое развитие женской лирики; выдающихся поэтесс больше, чем поэтов. Привлекают внимание стихотворения Татьяны Черновой, сохраняющие очарование даже в переводе:
Была я разговорчивой и смелой, —
Ты замкнутость привил к моей судьбе.
Тогда я верить лишь тебе хотела,
Теперь не доверяю и себе.
Или:
Как жаворонок в вышине
Звенит, озвучив поднебесье,
Так песня новая во мне
Звучит, но ты не слышишь песни.
К сожалению, стихи Людмилы Кутяновой Хузангай дает только в подстрочном переложении, не могущем передать качества подлинника:
А я как человек, живущий последний день,
смотрю и смотрю пристально на тебя.
Боюсь – шальной вихрь промчится через наши жизни
или вдруг ни с того ни с сего
потеряем друг друга, не осилив счастья.
Это две удмуртки, а вот марийка Альбертина Иванова:
Улыбнись,
Когда в окошко ветер
Постучит,
Спугнув твой сон к утру.
Раствори окошко на рассвете,
Это я озябла на ветру.
Тогда как в мордовской поэзии женская лирика представлена Раисой Кемайкиной:
Я снова слышу песни детства
И вижу теплый свет в окне,
и Анной Сульдиной, о которой критик верно подмечает, что ее стихи похожи на японские:
И запах из сада
Заполнил наш дом,
И кажется жизнь
Светла и легка,
А я внутри яблока…
В оконный проем
Плывут и плывут Облака.
Курьезно, что наиболее пессимистическую оценку чувашский критик дает положению дел в Мордовии, хотя мордва остается самым многочисленным финским народом Поволжья, насчитывая 1150000 человек. Отрицательную роль играют наличие двух национальных языков, эрзянского и мокшанского, и в значительной мере чересполосное с русскими расселение.
Однако мрачному взгляду автора противоречит существование талантливых поэтесс, как названные уже выше Кемайкина и Сульдина, и поэтов, как Александр Пудин (хотя Хузангай о философских стихах этого последнего и отзывается несколько скептически):
Одною прямой неэвклидовой мир осенен,
И тварь, и Творец бесподобны на ней и согласны,
И слово идет, и мотив созывает прекрасный,
И песня звучит, словно точное эхо времен.
А о поэме поэта старшего поколения Василия Радаева «Сияжар» «даже возникла несколько лет тому назад целая дискуссия, считать ли его мордовским народным эпосом (третьим финно-угорским – наряду с “Калевалой” и “Калевипоэгом”) или авторским произведением?».
Раздел о мордовских писателях завершается стихами Константина Смородинова в память знаменитого скульптора с трагической судьбой, Эрьзи:
О Эрьзя! Как же ты сумел
Оставить головы без тел
Полуживые.
Оставить Ужасу раскрытый
Навеки рот.
А если Ужас оживет
То – что закричит тобой убитый?
«Голос зарубежья», Мюнхен, март 1989 г., № 52, с. 29–31.
В. Абрамов. «Мордовское национальное движение» (Саранск, 2007)
Книгу можно было бы назвать иначе: «Краткая история мордовского народа». И она написана самым авторитетным лицом в сфере данных проблем, какое только можно найти.
Сын самого крупного из мордовских писателей, Кузьмы Абрамова (автора увлекательного исторического романа «Пургаз»), Владимир Кузьмич Абрамов, доктор исторических наук и заведующий кафедрой новейшей истории народов России в Мордовском государственном университете, не лишен притом поэтического таланта, весьма полезного для историка: его изложение материалов всегда живо и интересно, никогда не утомляя читателя.
А история самого большого финно-угорского племени России тесно связана с судьбою нашей страны в целом, и ни один настоящий русский патриот не может оставаться к ней равнодушен. Тем более что она своеобразна и оригинальна, имея свой особый характер среди маленьких народностей, вошедших с давних пор в состав нашего государства.
Например, в отличие от других, мордовский народ присоединился к России не через завоевание, а путем свободного союза.
Его участь определялась тем, что он оказался между двух огней: монгольскими завоевателями и ширившимся Московским Княжеством. Не без колебаний и военных столкновений, вожди Мордвы сделали трезвый выбор, и в 1551 году мордовские князья приняли в Свияжске присягу на верность русскому царю.
Как комментирует автор, в результате: «Среди мордовских княжеских родов, вошедших в господствующий слой России, было немало фамилий, оставивших заметный след в истории страны: князья Баюшевы, а также Еникеевы, Кугушевы, Тенишевы и многие другие. Один только род графов Мордвиновых, например, дал государству целый ряд выдающихся деятелей: министров, сенаторов послов, генералов и адмиралов, деятелей науки и искусства».
Титаническая фигура мордвина патриарха Никона свидетельствует о том, как близко приняла мордва к сердцу новую веру, в делах которой, как видим, сыграла и свою роль.
Абрамов жалеет об оставлении ею прежней религии: но ведь в реальности, та, при всей своей поэтичности и красоте не могла удовлетворить интеллектуальные запросы развивающегося народа. Что до того, что христианство вводилось частично насильственно, – этого бедствия не избежали и русские, как множество других народов; но это был несомненно важный шаг в развитии культуры и общественной жизни.
Итак, в начале «местные князья, дружественные Москве, сохраняют свои вотчины, долю в налогах и даже свои дружины». Как замечает автор, «отрыв местной знати от племенных корней» имел постепенный и долгий характер. Жаль, что он не уточняет; вот по его же сведениям при переписи 1897 года в 10 губерниях 34 дворянина указали как родной мордовский язык. Вероятно, это зависело от сохранения связи с начальной территорией, где находились их исконные поместья.
Как мы знаем, мордва, в отличие от русских крестьян, избежала крепостного права, оставаясь вольной. К сожалению, лишь частично: иным помещикам удавалось, вопреки закону, закрепостить в отдельных местах коренное население. «Правительство боролось против захватов и наказывало виновных… отбирало захваченные земли…» Но громоздкий царский административный аппарат не всегда оказывался эффективным…
Трагическую страницу в прошлом мордвы составляет ее массовое участие в разинщине и пугачевщине, с огромными потерями людьми, сперва в боях, а потом при усмирении.
Вопреки Абрамову, мы не видим тут проявление национального сопротивления. Ведь нигде даже не упоминалось о какой-либо попытке создать или возродить мордовское царство или мордовское княжество! Пугачевцы стояли за русского царя, только царя-то фальшивого (и даже неправдоподобного; удивительно, если могли в его подлинность искренне верить!).
Курьезный феномен религиозного реформаторства представляла собою деятельность «пророка» Кузьмы Алексеева, в начале XIX века. Но и тут национальные чувства не вполне убедительны.
Терюшевский проповедник ратовал не за восстановление старой веры, а за какую-то особую и свою собственную (за что и поплатился ссылкой в Сибири) с элементами иудейской («царь Давид») и христианской («Николай-угодник») религий.
К числу очень интересных страниц книги принадлежит картина зарождения и развития мордовской просветительской интеллигенции, при активном участии духовенства: создание народной письменности, а затем и литературы на ней и оживления любви к своей национальности и ее культурным традициям, связанные с именами И. Евсеева, А. Юртова, и, в несколько другом виде И. Ильминского.
Дальше мы вступаем в зловещую эпоху коммунизма, и тут многие страницы Абрамова словно бы кровью написаны и звучат нестерпимой болью за свой родной народ.
Коллективизация, раскулачивание, партийные чистки и расстрелы, концлагеря и подавление до глубины свободной мысли и творческого духа…
Деловито и обстоятельно, опираясь на статистику, мордовский историк разоблачает ужасы советского строя.
Согласимся с ним, что для мордвы (как и для других малых народов СССР) большевизм был даже страшнее чем для русских – сильных многочисленностью: их народности стояли перед угрозой полного уничтожения. В этом разделе его труда, должны признаться, мы часто чувствуем себя дальше от позиций Владимира Кузьмича, его мировоззрения и мировосприятия.
Когда он произносит трафаретные фразы о достоинствах «ленинской политики», или о «достижениях советского строя», – ощущение, что он еще не полностью освободился от иллюзий, навязывавшихся большевиками порабощенному ими народу и в особенности интеллигенции.
Что уж искать светлые проблески (хотя они, понятно, тоже были) в море кошмара, страданий и черной несправедливости, каковые представляет собою большевицкий режим! Почему не сказать правды, что он решительно плох и несет чудовищные бедствия странам и народам, которые надолго или пусть на миг попадают в его лапы!
Это особенно чувствуется во второй половине его труда. Но не обойдем вниманием и некоторых концепций в первой. В частности, предвзятое и слишком строгое отношение к дореволюционной России и ее внутренней и внешней политики.
При власти большевиков все были принуждены и обязаны следовать именно такой линии; но теперь? При том минимуме свободы, каким пользуются люди в послесоветской России, – не пора ли бы отказаться от подобных стандартов?
Иногда Абрамов просто очевидным образом неправ. Возьмем такое место:
«До начала XIX века Россия практически не знала деления по национальностям… Мордвин Никон мог стать Патриархом всея Руси, потомок татарского мурзы Годунов-царем, не говоря уж о роли остзейских немцев в истории России и др. А когда Николай I в рамках идеи “официальной народности” разделил население на великороссов, малороссов, белороссов и прочих “недороссов”, было нарушено этническое единство страны».
Разве роль остзейцев уменьшилась при Императоре Николае I? Вспомним Бенкендорфа и Дубельта! А позже армяне Делянов и Лорис-Меликов стояли на самом что ни на есть верху! Как в армии граф Келлер и Хан Нахичеванский, и множество поляков и грузин. И вот о чем он говорит сам, но прежде, академику В. Ключевскому мордовское происхождение в карьере не препятствовало!
Ну, разумеется, отдельные сомнительные утверждения не меняют факта, что перед нами книга исключительной ценности и написанная с высоким мастерством.
Которую мы от души рекомендуем всем читателям, кого интересует история России и входящих в нее многообразных племен и народностей.
Эти последние суть богатства нашего отечества. Не зря русские цари любили в торжественных случаях собирать представителей разных национальностей от самоедов до туркмен в живописные и столь красноречивые группы!
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 17 ноября 2007 г., № 2831, с. 2.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?