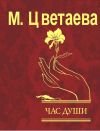Текст книги "Вечные ценности. Статьи о русской литературе"

Автор книги: Владимир Рудинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Е. Ольшанская192192
Евдокия Мироновна Ольшанская (Д. М. Зайденваг; 1929–2003) – поэтесса, литературовед.
[Закрыть]. «Сиреневый час» (Киев, 1991)
В этой небольшой книжке собраны, бесспорно, талантливые стихи, посвященные главным образом природе, и почти исключительно украинской (в частности, Киеву и его окрестностям). Пейзаж переплетается, впрочем, и органически сливается с переживаниями поэтессы, как, например, в строках, давших название сборнику в целом:
Сиреневый час: полусвет, полумгла.
Прощание с домом, в котором жила…
Или, в других:
День отлит из янтаря,
Листьев тихое паренье.
Хоть и поздняя заря
Все равно – благодаренье.
Или еще (с оптимистическими нотами, редкими в творчестве Ольшанской):
Пахнет травами: завтра «Троица»,
Это значит, лето в зените…
Все устроится, все устроится,
Лишь на жизнь с доверьем взгляните.
Важное место занимают ссылки на любимых автором мастеров, среди коих она специально называет следующих:
Ахматова, Тарковский, Мандельштам, Самойлов193193
Давид Самойлов (наст. имя Давид Самуилович Кауфман; 1920–1990) – поэт и переводчик.
[Закрыть], Чичибабин194194
Борис Алексеевич Чичибабин (наст. имя Полушин; 1923–1994) – поэт. Издавался преимущественно в самиздате.
[Закрыть], Петровых195195
Мария Сергеевна Петровых (1908–1979) – поэтесса и переводчица. Заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1970).
[Закрыть].
Сдается, однако, что на деле более сильное влияние оказали на нее другие предшественники, сравнительно недавние и более старые.
Отметим два стихотворения о Гумилеве. Одно начинается такими строфами:
Стихи возвращены и празднуется дата,
Для жаждущих удить – сейчас особый клев.
Но не могу простить того, что был когда-то
У юности моей украден Гумилев.
Как пламенен поток пульсирующей крови,
Как молодость поет из-под его пера!
И Африка живет в невыгоревшем слове
Предсмертного почти – волшебного «Шатра».
Из второго выпишем
И стихи звучат как заклинанье,
Одаряет мужеством строка.
Ольшанская права: стихи Гумилева в первую очередь – для молодежи, лучше всего способной его понимать. В этом смысле нам, нашему поколению, еще юными вырвавшимся за границу из советского ада, повезло: мы смогли тогда же прочесть и полюбить дивного поэта дальних странствий, запрещенного в ту пору и надолго еще оставшегося под запретом для жителей Империи Зла.
Упомянем тоже стихотворение «Памяти Максимилиана Волошина»:
Повсюду степь да степь с полынными дарами,
Цветут по сторонам скупые деревца,
А дальше – гребни гор, и на одной ветрами
Изваяно лицо поэта – мудреца.
Культ Ахматовой в творчестве Ольшанской вряд ли не чрезмерен: о ней тут целый венок сонетов, да еще и цикл «Памяти Анны Ахматовой».
Политические мотивы у нее встречаются редко. К ним, видимо, надо отнести стихотворение, начинающееся строками:
А я вас уверяю, что дороже
Обходятся нам в жизни компромиссы,
Чем смелость, бескорыстье, прямота!
И, еще более того, другие:
Приснился ночью мне расстрел,
Стреляли в тех, кто добр и смел.
По одному вели к стене.
Пришел черед идти и мне.
Удивляют восторженные четыре строфы в честь Кампанеллы! Заслуживает ли восхвалений сей предтеча утопизма?
Другой знаменитый итальянец находит под пером Ольшанской куда более суровую оценку, в стихотворении «Флоренция»:
Но вступил в тебя Савонаролла —
Иступленный яростный монах.
Небезынтересен отдел, представляющий собою отклики на античные мифы: о Диоскурах, Ариадне, Галатее.
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 1 февраля 1992 года, № 2165, с. 2.
«Литература народов России. XX век» (Москва, 2005)
Без Армении и Грузии, без Украины и Белоруссии, без Средней Азии… можно ли остающийся кровоточащий обрубок назвать Россией? Неясно, но перо не поворачивается. Хочется добавить «бывшая Россия». Или надо сказать «бывший СССР»?
Но не только это делает данную книгу, – 365 страниц большого формата, – страшной.
А то, что она рассказывает о судьбах народов, переживавших советское иго, и о судьбах их культур, в первую очередь литератур.
Особо, пожалуй, финно-угорских племен – черемисов, мордвы, вотяков.
В несколько приемов их лучшие писатели уничтожены; порою, как вот у черемисов (по советскому, марийцев) дочиста.
Впрочем, у татар дело обстояло не на много лучше.
Да что там! Даже столь малые народности, как юкагиры, пережили ту же участь.
И вот на каждой странице читаешь, вслед за именами писателей и поэтов, более или менее представлявших цвет своей национальности, ее наиболее культурных и талантливых людей, зловещие указания: «расстрелян», «репрессирован». Изредка – с последовавшей посмертной реабилитацией.
А уж о сосланных нациях, как там калмыки или ингуши, – что и говорить…
Так что то, что могло бы быть предметом гордости Российской Империи, при иных обстоятельствах, представляет собою позорный и жуткий мартиролог.
Если бы тут была включена русская литература – картина была бы столь же мрачной.
Но русские – народ великий, как еще в глубокой древности арабские путешественники констатировали. А небольшим народностям, включая те, где культура только начинала развиваться, будет куда труднее восстановить истребленную элиту.
Пожелаем им справиться с тяжелой задачей.
А пока – выразим им свое сочувствие.
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 24 января 2009 г., № 2860, с. 3.
«Карпато-русские писатели» (Бриджпорт, Коннектикут, 1977)
Надо быть признательным Карпато-русскому Литературному Обществу за переиздание книги профессора Аристова, опубликованной первоначально в Москве, в 1916 году. Она является вполне добросовестным, обстоятельным и компетентным научным исследованием, с более широким охватом предметов, чем указано в ее заглавии; ознакомившись с нею, читатель получает представление не только о литературе, но и об истории карпатороссов, а равно и о политических и идеологических проблемах их бытия вплоть до Первой Мировой войны, поскольку писатели Галиции, Угорской Руси и Буковины в основном активно участвовали в общественной и духовной жизни их родины.
Сведения же эти весьма ценны, ибо в силу позднейших событий нам часто приходится задумываться о судьбе и роли карпато-россов в пределах Советского Союза и за границей.
Аристов подробно излагает биографии главных карпаторосских писателей, разбирает их творчество, дает список их работ и даже прилагает их портреты.
Любопытно, что вопреки нашему обычному представлению о карпатской словесности как о преимущественно простонародной, наиболее крупные из ее деятелей принадлежали на деле по происхождению к знатным, но обедневшим дворянским родам (Д. Зубрицкий196196
Денис Иванович Зубрицкий (1777–1862) – галицко-русский ученый, историк. Автор «Истории Галицкой Руси».
[Закрыть], Я. Головацкий197197
Яков Федорович Головацкий (1814–1888) – галицкий поэт, писатель, ученый. Ректор Львовского университета. Представитель романтизма в украинской литературе. Был униатским священником, но позднее сложил с себя сан и принял православие.
[Закрыть], А. Духнович198198
Александр Васильевич Духнович (1803–1865) – писатель, поэт, русинский греко-католический священник. Один из зачинателей русофильского движения в Прикарпатской Руси.
[Закрыть], А. Добрянский199199
Адольф Иванович Добрянский-Сачуров (1817–1901) – карпаторосский писатель, юрист, общественный деятель. Идеолог возвращения униатов в православие. Автор работ по истории, этнографии, религиозной и политической ситуации в австрийской Руси.
[Закрыть]), причем такие из них, как Головацкий и Добрянский, были учеными специалистами с мировой репутацией.
При выборе языка для своих сочинений, перед лицом диалектальной разобщенности и культурной необработанности местных наречий, они предпочитали пользоваться общерусской литературной речью, в силу чего их произведения, до известной степени, входят в состав русской литературы.
Отметим как курьез и авторский каприз употребление Аристовым имени Угрия вместо Венгрия (каковое у него встречается только в цитатах), так же как и индивидуальную передачу мадьярских фамилий, скажем: Зичий вместо принятого Зичи, Сепешгазий вместо Сепешгази и т. п. Более защитимо, хотя и сомнительно, что он и все местные названия дает в принятом у карпато-россов их варианте, например, Черновцы вместо Черновицы. Все же вряд ли допустимо писать Ердель вместо Трансильвания или хотя бы Семиградье.
Если высокое качество разбираемого нами труда в целом можно считать бесспорным, более проблематичный характер носят предпосланные ему при перепечатке вступительные статьи.
В первой из них, озаглавленной «Вместо предисловия» и дающейся от имени Карпато-русского Литературного Общества, мы с некоторым удивлением читаем (после упоминания о вековечной мечте карпатороссов об объединении их края с Россией): «Эта мечта в наши дни сбылась, однако не полностью, так как Лемковская и Пряшевская Русь еще остались вне пределов русской государственности». Почтенные переиздатели явно смешивают понятия Россия и СССР!
Зато согласимся с их следующей здесь же фразой: «Крепкий, сознательный и неистребимый патриотизм русского населения этой самой отдаленной западной русской Украины вносит отрезвляющую ясность в безнадежную драму современного украинского сепаратизма, убедительно разоблачая и опровергая его нищую, вздорную и ложную сущность».
Что же до очерка Пантелеймона Юрьева «Федор Федорович Аристов» (1888–1932), резким диссонансом звучат в нем, непонятно для чего введенные, гневные инвективы по адресу охранки, царской власти, русской военщины и даже славянофилов! Они тем более не на месте, что сам то Аристов везде говорит о российских государях с глубоким почтением, об успехах русского оружия – с чувством патриотической гордости, а о славянофилах как их верный последователь…
Если же взять карпаторосских писателей, про коих он пишет, то они ведь, подобно другим славянам, всегда смотрели на Русскую Империю с надеждой, чая от нее освобождения и радуясь ее победам и завоеваниям; а славянофилы, натурально, изо всех течений русской мысли, пользовались их особыми поддержкой и симпатией.
Ибо, как верно и отмечает Аристов: «идея общерусского национально-культурного единства являлась основным фактором всей общественной жизни Карпатской Руси».
«Современник», рубрика «Библиография», Торонто, 1979, № 41, с. 232-233.
Василий Кельсиев. «Галичина и Молдавия» (Бриджпорт, 1976)
Карпаторосское Литературное общество в США прекрасно сделало, переиздав книгу В. Кельсиева200200
Василий Иванович Кельсиев (1835–1872) – журналист, писатель, переводчик.
[Закрыть], первоначально опубликованную в Петербурге в 1868 году.
Столкнувшись в Галиции и Закарпатии с двумя типами культуры – польской и русинской, Кельсиев всей душой возлюбил последнюю. Один из главных упреков полякам у него – аристократический характер их литературы, искусства, их быта. Не замечает он только того, что ведь аристократична не меньше и русская литература, хотя и на иной лад. Впрочем, тут не только в этом дело. Кельсиев остро чувствует враждебность поляков к России (в большей мере понятную, собственно говоря), а карпатороссов отождествляет с русскими (пункт довольно-таки сомнительный).
Привязанность Кельсиева к темным, забитым хлопам и к униатскому духовенству (почти единственной среди них интеллигентной прослойке) не знает границ и выдерживает любые испытания. Даже когда он сталкивается с тем, как некрасиво эти мужики надувают своих добродушных и беззаботных панов; как они, в пору польского восстания, грабят и выдают властям молодежь, героически (если и неразумно) борющуюся за свободу отчизны; и даже когда вовсе дикие гуцулы, в горы коих он заехал из этнографического любопытства, его самого обносят жандармам как опасного шпиона, да так, что его в результате высылают из пределов Австро-Венгрии!
Все с той же порывистой страстностью Кельсиев невзлюбил евреев, в которых увидел эксплуататоров беззащитных галичан и угророссов (между тем, из его же сочинения видно, что те не просто хищники, а часто и советники селян, и даже их союзники против помещиков и чиновников). И уж тут он никак не хочет входить в положение народа, каковому тоже нужно жить и для того заниматься торговлей, ремеслом и пр.; в нем он замечает только дурное. Причем придирки его удивляют подчас мелочностью и желчностью: и молятся-то не так, как надо (а уж как русским свойственно уважать всякую молитву, соблюдение своего закона, как бы он странен и необычен ни казался!), и светских манер не проявляют, даже когда радушны и любезны (вот уж вовсе не типичный для великоросса формализм!).
В остальном, чего не отнимешь, дорожные записки экс-революционера, эволюционирующего к славянофильству, Василия Ивановича Кельсиева набросаны живо, метко, с задором, и читаются с удовольствием, даже если местами и раздражают своей предвзятостью. Однако, сколь опасна роль предсказателя! Он вот заверяет, что Польша не возродится. Возродилась! – правда, чтобы вновь скатиться под власть угнетателей, худших, чем когда-либо прежде. Но верно и опять еще восстанет, как Феникс из пепла: великий народ с подлинно великой культурой убить трудно. Finis Poloniae уже не раз наступал; и всегда – не окончательный.
«Современник», рубрика «Библиография, Книжное обозрение», Торонто, 1979 г., № 43–44, с. 258–265.
Мемуарная литература
«Жизнь Николая Гумилева» (Москва, 1991)
Эти «воспоминания современников» чрезвычайно содержательны. Многие материалы совершенно новы. В том числе подробное описание предков Гумилева и всей его семьи, составленное его старшей сестрой (от другой матери) А. Сверчковой.
Некоторые другие сообщения, – невестки поэта А. Гумилевой, В. Неведомской, – нам уже известны по публикациям в «Новом Журнале», но представляют большую ценность; хорошо, что они отныне доступны читателям в России.
Удивляют (хотя это – вещь обычная) противоречия мемуаристов. Даже в таком, казалось бы, простом, вопросе, как рост Гумилева. Большинство свидетелей, в том числе людей к нему близких, говорят, что он был высокого роста (иные даже добавляют очень). Но другие пишут «среднего» и даже «низкого»!
Составители комментариев, за что надо их поблагодарить, не пытаются отрицать участие Николая Степановича в таганцевском заговоре. Зато они весьма упорно выражают сомнение в его монархических взглядах, видя в них только позу и браваду.
Нам сдается, что это «попытка с негодными средствами». Гумилев свои взгляды выражал многократно, перед самыми разными людьми, и не имея к тому никакого расчета (скорее, наоборот).
Тот факт, что он, в литературной среде и в обществе, не затевал политических споров и имел хороших знакомых и друзей из числа лиц с иными убеждениями (республиканскими и даже советскими) доказывает только то, что он был хорошо воспитан и отличался широкой терпимостью.
Настолько же неубедительны и ссылки на то, что в заговоре Таганцева принимали участие люди различной ориентации, в частности эсеры. Это был заговор против большевиков. Ничего нет странного, если в него входили представители различных партий и направлений.
В примечаниях воспроизведены прекрасные слова о Гумилеве А. Куприна: «Да, надо признать, ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувство личной чести. И еще старомоднее было то, что он по этим трем пунктам всегда готов был заплатить собственной жизнью».
Многие высказывания, – Е. Полонской, Н. Павлович, отчасти даже и Н. Тихонова, – неприятно читать, в силу их враждебности Гумилеву или, по меньшей мере, стремления от него отгородиться. Но и они, конечно, нужны: в них проявляется дух эпохи.
Разочаровывают своей неожиданной пошлостью соображения К. Чуковского с очень неумными насмешками над африканскими стихами поэта.
Совсем уж идиотский отзыв о Гумилеве сделал Горький, о чем передает В. Рождественский: «Описывает всякие убийства и страсти… а сам крахмальные воротнички носит». В чем же тут, собственно, противоречие? Еще Пушкин констатировал:
Быть можно умным человеком
И думать о красе ногтей.
Для Горького Гумилев был «не русским» писателем. Вероятно, автор «Буревестника» полагал, что русский писатель должен трактовать только о Чухломе. Но опять же, а как быть тогда с Пушкиным? А что до «страстей», Гумилев-то, путешественник и кавалерийский офицер их, несомненно, повидал за жизнь больше, чем Алексей Максимович!
И. фон Гюнтер (тут – в плохом переводе с немецкого) рассказывает историю Черубины де Габриак, оставляя, видимо, много недоговоренного и не всегда будучи искренним. Во всяком случае, Гумилев вел себя в этом темном деле как джентльмен; и он, и Волошин явились, к несчастью, игрушками в руках этой взбалмошной женщины.
Очень хорошо, что книга раз навсегда кладет конец рассказам, будто Ленин хотел отменить казнь Гумилева. Приведены его подлинные слова в ответ на хлопоты: «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас».
Нет нужды приписывать Ильичу чрезмерную гуманность, которою он отнюдь не грешил.
Ценной информацией является, – как будто в первый раз публикуемое в печати, – указание имени той девушки, которой Гумилев посвятил свой цикл любовных стихов, самых замечательных во всей русской литературе, под названием «К Синей Звезде»: Елена Карловна Дюбуше.
До сих пор мы только и знали ее христианское имя, Елена:
И всю ночь я думал об Елене,
А потом томился целый день.
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 29 января 1994 г., № 2269, с. 2.
«Марина Цветаева. Неизданное. Семья: история в письмах» (Москва, 1999)
Книга – исключительно увлекательная; и не только для тех, кто любит Цветаеву.
Эта переписка между Цветаевой, Волошиным, Эфроном201201
Сергей Яковлевич Эфрон (1893–1941) – писатель, поэт. Муж М. И. Цветаевой.
[Закрыть] с его сестрами, и между другими лицами, есть история целой эпохи, вернее нескольких различных эпох, и каких интересных! Серебряный век, первые годы революции, русская эмиграция (в Чехословакии и во Франции), затем страшные сталинские годы у нас на родине.
Ценность большого тома, в 500 с лишним страниц сильно повышается еще тем, что он снабжен фотографиями большинства действующих в нем лиц.
Читатель найдет тут отражение высокой культуры русского общества в годы перед роковым крахом, драматических чувств и порывов фигурирующих тут персонажей, равно как и их интеллектуальных интересов, всякого рода, вплоть порою до жутковатых; и, во всяком случае, он найдет тут много для себя неожиданного.
Действия самой Цветаевой и ее окружения часто рисуются иначе, чем мы привыкли себе представлять.
Хотелось бы проследить позорную эволюцию С. Эфрона, от участия в Белом Движении до службы чекистам; но это как раз остается не слишком ясным. Видно только, что немалую роль сыграло озлобление против французов, довольно-таки распространенное у русских во Франции, но, разумеется, никак не могущее быть оправданием переходу во стан большевиков.
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 29 апреля 2000 г., № 2593–2594, с. 5.
«Марина Цветаева. Николай Гронский» (Москва, 2003)
Переписка Цветаевой с молодым, трагически погибшим поэтом, датирующаяся 1928–1933 годами, неожиданно интересна. Из нее видно, что Гронский202202
Николай Павлович Гронский (1909–1934) – поэт. С 1920 в эмиграции. Погиб в результате несчастного случая в парижском метро, не напечатав при жизни своих стихотворений.
[Закрыть] сильно отличался от предметов нелепых увлечений Марины Сергеевны, интеллектуально ничтожных и морально отталкивающих: Родзевича или посредственного, незначительного Бахраха. Он, напротив, в культурном отношении и по своим литературным интересам стоял с поэтессой на примерно одном уровне.
Благодаря этому в письмах содержатся высказывания, иногда очень интересные, Цветаевой (и, понятно, Гронского тоже) о писателях и поэтах, как Рильке, Цвейг, Ромэн Роллан, Гете. В том числе очень любопытные мысли о Льве Толстом (о которых Гронский справедливо замечает: «умнейшие!»).
Многое говорится и о других вопросах и, помимо прочего, ряд деталей существенно дополняют наши сведения о повседневном быте цветаевской семьи в парижский период.
Отметим ее слова о себе, что она «христианка невыправимая» (а ее некоторые исследователи пытаются изобразить атеисткой!). Хотя ее размышления о христианстве и не выглядят вполне ортодоксально; как часто и в других вопросах, ее верования носят резко индивидуальный характер.
Дружба не мешает ей видеть сравнительную слабость юного поэта во сфере творчества, где она дает ему ряд ценных советов.
О политике в письмах мало, но в оценках исторических событий оба корреспондента сходятся; например, о французской революции, о которой процитируем стихи Гронского:
Ты священною станешь, машина,
Обагренная кровью святых.
И тебя я точу, гильотина,
Острый нож – металлический стих.
Отметим проницательные слова матери Гронского (талантливой скульпторши) по поводу Мура: «Нельзя жить ребенком, нельзя, чтобы кроме – ничего, нужен противовес (Бог, работа, любовь…), иначе – залюбишь». И впрямь, ведь: чрезмерная любовь к сыну привела гениальную мать к гибели…
Гибель самого Гронского выглядит несколько загадочно: попал под поезд метро… Но как? Тем более, что в письмах он несколько раз говорит, что его чуть-чуть не сбил трамвай, а в другом месте о том, что спас из-под вагона метро падавшую туда девушку.
Издание писем подготовлено, как сообщает анонс, Ю. Брадовской и Е. Коркиной, снабдивших их подробными комментариями.
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 5 февраля 2005 г., № 2764, с. 5.
«Марина Цветаева. Борис Пастернак» (Москва, 2004)
Переписка двух выдающихся поэтов за период с 1922 по 1936 год, представляет несомненный интерес для раскрытия их внутреннего мира, и в частности их литературных вкусов. Так, мы узнаем, что Пастернак был поклонником Суинберна203203
Алджернон Чарльз Суинберн (Algernon Charles Swinburne; 1837– 1909) – английский поэт.
[Закрыть], а Цветаева – Джозефа Конрада.
Напротив, оба корреспондента не любили Есенина, – что не делает чести их способности к оценкам; он по таланту, несомненно, не уступал ни одному, ни другой из них. Враждебность к нему Пастернака легко понять, особенно принимая во внимание, что критика и публика их часто сравнивали, отдавая предпочтение второму. Цветаева, сама черпавшая порою сюжеты из русского фольклора, скорее казалось бы, могла понять значение «рязанского соловья»; но, очевидно, находилась под влиянием интеллигентского набора воззрений, несколько пренебрежительного по отношению к певцу крестьянской России.
Хотя, мы видим из ее писем, Марина Цветаева не считала себя интеллигенткой, а подчеркивала, что она по духу и воспитанию аристократка. Однако она как раз не без удивления отмечает, что в Лондоне именно стихи Есенина вызывали бурный восторг аристократических слушателей, включая представителей династии Романовых.
В других литературных суждениях мы готовы вполне согласиться с Цветаевой. Например, касательно Бабеля: «Захлебывание зверствами и уродствами. Какой романтизм ненависти!» И даже о Чехове: «Чехова с его шуточками, прибауточками, усмешечками, ненавижу с детства».
С интересом открываем, что она в действительности думала о Маяковском (за увлечение которым ее часто осуждают, а то и хвалят): «Маяковский ведь бессловесное животное, в чистом смысле слова скот. Маяковский – сплошной грех перед Богом; вина такая огромная, что надо молчать. Падший ангел».
Вот ее безоговорочное восхищение Пастернаком, оно наводит на сомнения. Хотя опять же, оно не мешало ей резко критиковать, например, его поэму о лейтенанте Шмидте.
Но тут мы скорее сходимся во мнении с Ходасевичем, говорившим: «Пастернак – сильно раздутое явление». И в более полной форме: «Восхищаться Пастернаком мудрено: плоховато он знает русский язык, неумело выражает свои мысли, и вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов. Не одно его стихотворение вызывает у читателя восклицание: “Экая, ей Богу, чепуха!”» (Эти высказывания выдающегося литературного критика приведены, – в примечаниях, – в самой разбираемой нами книге).
Впрочем, сама же Цветаева трезво писала своему кумиру: «Тебя широкие массы любить не могут».
А вот к себе она подчас бывала несправедлива. О своей дивной прозе, которая, безусловно, не менее драгоценна, чем стихи, и иногда даже выше их, она говорит: «Моя проза. Пойми, что пишу для заработка».
С политической точки зрения, отметим слова поэтессы: «В Россию никогда не вернусь. Просто потому что такой страны нет. Мне некуда возвращаться. Не могу возвращаться в букву, смысла которой не понимаю (объясняют и забываю)».
Как жаль, что в силу обстоятельств, она все же вернулась! На страшную гибель.
В отличие от нее, Пастернак, в своих письмах часто пытается обосновать и оправдать революцию. Правда, в те годы. Под конец жизни он, вероятно, яснее понимал реальность вещей.
Совершенно неверны, – или сознательно фальшивы или в корне ошибочны, – его рассуждения о Гумилеве: «Проживи он до наших дней, он был бы человеком революции». Такая фраза, – это почти что клевета!
Цветаеву любят изображать атеисткой или язычницей. Вряд ли правильно. В письмах она просит Пастернака прислать ей немецкую Библию (он в тот момент был в Германии); чего он видимо не сделал.
А об Евангелии она говорит: «Я ведь знаю, что Евангелие – больше всего. Если бы я то оспаривала, нет, я знаю, что больше и выше нет, а все-таки не живу им». – Но кто же из нас живет! Как говорится: «Кто Богу не грешен».
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 20 августа 2005 г., № 2778, с. 4.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?