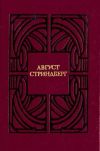Читать книгу "Голубое сало"

Автор книги: Владимир Сорокин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
“И голос у него непролетарский, и голова ковригой, а умер как Марат!” – сурово подумал Бубнов и спрыгнул с ломтевоза.
Вокруг в сумерках умирали покалеченные белые. Бубнов не стал их добивать, а пошел отвязывать инвалидов. Но резкое торможение погубило их тоже: проволока слишком глубоко вошла в тела привязанных, перерезав важные вены. Инвалиды умирали в полусне, поливая дымящейся кровью молчаливое железо, не поблагодарившее их за помощь.
– С кем же я победу разделю?! – осерчал Бубнов на безногих. – Вы же не белой кости, чтобы так сломаться легко!
Сзади из темноты высунулась рука и приложила серп к горлу машиниста, собираясь срезать его, как переросший колос.
– Отойди от ломтевоза! – приказал голос.
Бубнов попятился назад – туда, где нагретая земля отдыхала от слепого солнца.
– Теперь стой! – скомандовал голос.
Бубнов остановился. Какие-то угрюмые люди подбежали к ломтевозу, покопошились и кинулись прочь. Послышалось змеиное шипение бикфордова шнура.
– Что ж вы делаете, гады? Это же народное добро! – закричал машинист голосом матери, безвозвратно теряющей ребенка.
В ответ полыхнуло напряженное пламя, и куски ломтевоза полетели в степь. Бубнова и полуночников уложило волной на землю.
– Белуга недобитая! – выплюнул песок изо рта Бубнов. – От горя совсем с ума спятили, холуи врангелевские!
– Мы не белые, не кипятись! – ответили ему.
– Бандиты, значит?
– И не бандиты!
– Тогда – из партии исключенные?
– Мы не красные! – настаивал голос.
– Стало быть – махновцы?
– Мы не анархисты! Анархия – новый опиум для народа: Иисус Христос с маузером!
– Да кто ж вы такие? – вконец осерчал Бубнов.
– Мы дети природы! – объяснил притемненный человек. – Против машин воюем! За полное и безоговорочное освобождение от механического труда! Ты читать умеешь?
– До революции не умел! – гордо ответил Бубнов.
– Как рассветет, я тебе свою книгу дам – “Власть машин”. Там все написано. Моя фамилия Покревский. Сейчас испечем картошки, и я тебе все про машины словами расскажу.
– Чего мне про машины слушать! Я с четырнадцати лет в депо обживаюсь! Все двигатели знаю!
– А сути – не ведаешь! С машинами человек к мировому счастью никогда не придет! Они его обуржуазят и рабом самого себя сделают! Какой уж тут святой коммунизм, когда за тебя железо землю роет! Это подлость мировая! С ней воевать надо до костей! Порушим машины и ихними обломками себе в красный рай дорогу вымостим!
– А пахать – опять на кобыле?
– Не на кобыле, темный человек! На себе самих и пахать, и сеять, и скородить будем!
– Это не по мне! – зевнул уставший ехать, убивать и разговаривать Бубнов. – Я в хомут сроду не полезу! А без ломтевозов – жить не могу!
По колебанию ночного воздуха он понял, что люди переглянулись.
– Убивать будете? Тогда уж быстро валяйте – я болеть не люблю!
– Мы людей не трогаем! – ответили невидимые и скрылись.
Бубнов лег на теплую землю и заснул. Ему приснилось что-то мучительно родное и огромное, от чего нечем заслониться, что нельзя убить, забыть или похоронить и с чем невозможно навсегда слиться, а можно только любить безответной любовью сироты. Потом это огромное и родное сжалось до сияющей водяной капли и капнуло ему на плечо. Бубнов проснулся. Солнце стояло в зените и глупо грело землю и лежащего на ней Бубнова. Кругом лежали куски взорванного ломтевоза. Рядом с ногами машиниста валялся несожженный ломоть буржуазной плоти, так и не превратившийся в пролетарский пар. Бубнов посмотрел на свое плечо и увидел в нем торец белогвардейской пули.
“Зацепило все-таки! А я боялся богородицей небеременной остаться!” – весело подумал Бубнов и вытащил пулю из плеча. Черная кровь, скопившаяся под пулей, лениво потекла из раны. Бубнов поднял ломоть и приложил его к плечу. Надо было идти куда-то.
“Дойду хоть до Житной! Там телеграмму в депо отстучат: ломтевоз взорвали антимашинные люди!” – подумал Бубнов.
Он выбрался на полотно и двинулся по черным шпалам.
На ходу Бубнов думал о новом ломтевозе, который, как конь седока, где-то в темном пространстве спокойно дожидается его.
“Не буду же я теперь пехом по земле драть! – рассуждал машинист. – На ломтевозе жить интереснее. И думать медленно не надо, как во время ходьбы. Там за тебя механика думает железными мыслями”.
Верст через шесть показалась Житная.
Бубнов устал от скучной ходьбы и от прижимания буржуазного мяса к раненому плечу, поэтому не пошел на станцию, а стукнул в ворота самого первого двора: воды напиться. Ворота были не заперты. Бубнов вошел на двор. Лежащая на перегретой соломе собака сонно посмотрела на него.
– Хозяин! – позвал Бубнов.
– Чиво надо? – отозвался из сенного сарая женский голос.
– Воды попить!
– Чиво? Зайди, не слышу!
Бубнов вошел в полупустой и полутемный сарай и с трудом разглядел невероятно толстую голую женщину, лежащую на сене и лузгающую семечки.
– Воды, говорю, попить! – произнес Бубнов, удивляясь белым формам необычного человеческого существа.
– Говори громче, чего пищишь, как комар! – посоветовала женщина.
Бубнов шагнул вперед, чтобы крикнуть, и провалился в глубокий, клином сужающийся погреб, вырытый не для сохранения продуктов. Очнувшись, машинист глянул наверх. Толстая женщина внимательно смотрела на него.
– Поживи здеся, – сказала она.
– Ты что, вдовая? – спросил Бубнов, не понимая.
– Я цельная, – ответила женщина и сплюнула шелуху.
– У меня предписание. Меня люди ждут, – зашевелился на земляных комьях Бубнов.
– Покажь! – Женщина бросила ему кузовок на веревке.
Бубнов достал предписание, вложил в кузовок. Женщина подтянула кузовок к себе и долго читала предписание, шевеля толстыми губами.
– Ничиво! – она спрятала предписание у себя между громадных ляжек. – Спи! Я на тебя типерь часто пялиться буду!
Дубовая крышка захлопнулась над головой Бубнова.
По шкале Витте в этом тексте 79 % L-гармонии.
It’s hard to believe, рипс нимада табень!
Платонова-3 инкубировали питерские чжуаньмыньцзя семь месяцев назад после двух dis-провалов, сильно подорвавших авторитет школы Файбисовича и Co. В генсреде к питерцам отношение, похожее на юйван синвэй твоего чоуди Мартина на свадьбе у Саввы: бить по гаовань парализованного Илью Муромца способен каждый посредственный байчи. А Файбисович сумел доказать всем неблагородным ванам, что он не лаовай в генинже и способен не раскрасить носорога с RK.
Что и продемонстрировал живой стол Платонов-3.
Ждем от него не более 2 кг голубого сала. Места отложения – локтевые и коленные сгибы, пах, простата (sic!), защечные мешки.
Ликуй, ЦИКЛОПик.
Boris.
16 января
Все-таки военные – свиньи не только по определению.
Вчера напились с полковником (остальные потащились на охоту). И этот пеньтань шагуа полез ко мне. Поначалу начал издалека, как типичный фиолет:
– Борис, вы не представляете, как мне надоел запах живородящих сапог в казарме. Я забыл, как пахнет чистая мужская кожа.
Ты знаешь, я всегда волосею от такого razbega. Мои ритуальные усмешки не помогли, этот ханкун мудень двинул прямо в LOB:
– Борис, вы пробировали 3 плюс Каролина?
– Нет. И вряд ли пробирую.
– Почему?
– Я предпочитаю чистый мультисекс.
– Откуда такой квиетизм?
– От моего психосомо, полковник.
– Вы обкрадываете себя.
– Ничуть. Просто не хочу дисгармонировать мой LV.
Пауза.
Рипс, для каждого шагуа упоминание LV – удар по темному темени. Помолчали. Полковник глотнул “Кати Бобринской” и надолго уперся в меня ежиными глазами:
– Борис, я спрашиваю не просто так.
(Будто я не DOGадался, рипс табень тудин.)
Оказывается, несмотря на свой ADAR, этот муравьед пробирует после отбоя вонючий 3 плюс Каролина. С сержантами. И еще жалуется на солдатский запах. Серый лянмяньпай. Как и все его поколение. Но это все – хушо бадао, мальчик мой прозрачноухий.
Чехов-3: без сюрпризов, но и без соплей.
Объект сильно изможден процессом и ееееееееле дышит.
Почитай.
чехов-3
Погребение Аттиса
Драматический этюд в одном действии
Виктор Николаевич Полозов, помещик.
Арина Борисовна Знаменская, молодая актриса.
Сергей Леонидович Штанге, врач.
Антон, пожилой лакей.
I
Часть яблоневого сада в имении Полозова. Антон роет яму меж двух старых яблонь. Вечереет.
Антон (тяжело дыша). Господи… Иисусе Христе… помилуй нас, грешных. Это надо же такое удумать – в саду хоронить. Будто других мест нет. До чего же мы дошли, прости господи. А мне-то грех на старости лет. Да и барину-то стыдно… ой, как стыдно-с! Жаль, старый барин помер, а то б сказал, как бывало, – выкинь ты, Витюша, эти кардыбалеты из головы.
Входит Знаменская с веткой сирени; на ней забрызганный грязью плащ и испанская шляпа с широкими полями.
Господи, Арина Борисовна!
Знаменская. Ты узнал меня, Антон. Как это славно! Здравствуй.
Антон (кланяется). Желаю здравствовать! Как же – не узнать! Как же – не узнать! (Суетится, бросает лопату.) Помилуйте, позвольте, я сию минуту доложу.
Знаменская. Не надо никому ничего докладывать.
Антон (торопится идти в дом). Как же! Как же!
Знаменская (останавливает его). Постой. Я говорю – не надо.
Антон. Да барин ведь, поди, давно ждет вас.
Знаменская. Милый, хороший Антон. Меня здесь давно уже никто не ждет. (Осматривается.) За два года ничего не изменилось. И дом все тот же. И сад. И даже флюгер над мезонином все такой же ржавый.
Антон. Да кто ж туда полезет красить-то, барыня, голубушка! Я уж в летах, а работников барин нанимать не желают-с, потому как денег нет. Уж и управляющего рассчитал, и горничную. Один я остался. Что уж тут до флюгера – крыльцо поправить не на что!
Знаменская. А где качели? Они висели вон на той яблоне.
Антон. Веревки сопрели, вот я и срезал. А барин и не заметили-с, кому ж качаться теперь? Наталья Николавна с детьми больше не приезжают. (Спохватывается.) Барыня, голубушка, вы же все сзади забрызгаться изволили! Позвольте плащик!
Знаменская (облокачивается на ствол яблони). Оставь.
Антон. Вы, чай, со станции?
Знаменская. Да. Я постою здесь немного и пойду. А ты не говори ему ничего. Слышишь?
Антон. Да как же это?
Знаменская. Ответь мне, что он по-прежнему… (Задумывается.)
Антон. Чего изволите?
Знаменская. Нет, ничего. Прощай. (Бросает ветку сирени, идет прочь, но сталкивается с Полозовым. Он во фраке и белых перчатках, держит на руках мертвую борзую собаку.)
Полозов. Арина… Арина Борисовна.
Знаменская (отворачивается). Виктор Николаевич.
Полозов (в оцепенении). Я…
Знаменская. Простите за беспокойство.
Полозов (с трудом говорит). Вы… нисколько. Позвольте. Это так…
Знаменская. Я зашла посмотреть на ваш сад. Просто так. У вас умерла собака? Постойте, неужели это та самая? На руках она такая маленькая.
Полозов (кладет собаку на землю). Я очень рад вас видеть. Это так неожиданно, но очень хорошо. Очень хорошо.
Знаменская. Что – хорошо?
Полозов. Что вы здесь.
Знаменская. Так странно… Когда я шла со станции через рощу, меня обогнал пьяный мужик на лошади. Голый по пояс, с какой-то механической вещью в руке, наверно, отломанной от какой-то машины. Он ею стучал по стволам берез и кричал: “На постой, на постой!” Сумасшедший мужик. На какой постой? Совсем сумасшедший мужик. И очень злобный.
Антон (качает головой). Это, видать, востряковские озоруют.
Полозов (Антону). Поди, собери нам чаю.
Антон. Сию минуту, батюшка. (Уходит.)
Знаменская (наклоняется к собаке, гладит ее). Да. Это тот самый пес. Древнегреческий, как говорила ваша сестра. А я забыла, как его звали: Антиной? Орест? Алкид?
Полозов. Аттис.
Знаменская. Аттис! Милый Аттис. Да-да. Я вас еще тогда спрашивала: кто это – Аттис? А вы отвечали – любовник Кибелы. Но я не знала историю Кибелы. А признаться в этом стеснялась. А теперь – вовсе не стесняюсь. Мы брали Аттиса всегда с собой на прогулки. Он был таким быстрым, красивым. А однажды кинулся трепать барана. И вы так накричали на него. Виктор Николаевич, что у вас с лицом?
Полозов. Ничего. Кажется – ничего.
Знаменская. Скажите, это ужасно, что я здесь?
Полозов. Это очень хорошо.
Знаменская. Я вам признаюсь – я не прочла ни одного вашего письма.
Полозов. Я догадался.
Знаменская. Все восемнадцать писем я сожгла в камине. Это гадко, я знаю. Но мне что-то мешало их прочесть. Я очень скверная?
Полозов. Арина Борисовна, пойдемте в дом. Здесь сыро.
Знаменская. Нет, нет. Останемся, останемся. Я так любила ваш сад. В мае особенно. Помните, когда приехали Панины? И вы с Иваном Ивановичем стреляли по бутылкам. А вечером мы катались на лодке. И Кадашевский упал в воду. А на следующее утро все яблони зацвели. Все сразу. И вы сказали, что это оттого, что я здесь. А Панин сказал, что это к войне.
Полозов. Да… припоминаю.
Знаменская. Но войны не случилось. Только в Коноплеве мужик зарубил свою семью.
Полозов. Это я тоже помню (берет ее за руку). Пойдемте в дом. Вам надо отдохнуть и прийти в себя.
Знаменская (смотрит на мертвую собаку). Странно все-таки.
Полозов. Что?
Знаменская. Мертвые собаки похожи на живых собак. А мертвые люди вовсе не похожи на живых. Когда я хоронила своего отца, я знала, что это не он лежит в гробу, а совсем другой человек. Поэтому я до сих пор не верю, что мой отец умер. Он жив. Да и вообще, то, что лежало в гробу, не было похоже на человека. Вы не согласны?
Полозов. Да-да. Вы правы. Хотя…
Знаменская. Что?
Полозов. Вон отсюда!
Знаменская (непонимающе смотрит на него). Что?
Полозов (кричит). Вон отсюда! Вон! Сейчас же – вон!
Знаменская делает два шага назад, неотрывно глядя ему в лицо, затем поворачивается и убегает. Появляется Антон.
Антон. Звали, барин?
Полозов. Нет… то есть – да. Помоги мне. (Берет пса на руки и осторожно опускает в яму.)
Антон. А что же Арина Борисовна? Чай пить пойдут-с? Я накрыл уж.
Полозов. Помолчи. (Смотрит на мертвого пса, кидает на него горсть земли.) Закапывай.
Антон сваливает землю в яму.
Семь лет. Всего семь лет. Для дворовой собаки это – ничто. А для борзой – срок жизни.
Антон. Как же! У борзых-то вся жизнь на бегу. Продыху нет. А пес славный был. По ладам-то чистый, густопсовый. А разметной-то! Страсть! Так и стелется, так и стелется! Заглядишься, бывало. Ваш покойный батюшка, бывало, говаривал: у нашего Аттиса щипец что у крокодила – зайца пополам перекусит. Сорок три лисицы затравил. Вот дела какие.
Полозов медленно бредет к дому.
II
Гостиная в доме Полозова; Виктор Николаевич сидит в кресле и курит сигару; подле него – китайский чайный столик, накрытый на двоих; с краю стоит графин с водкой. Входит Антон с тарелкой соленых огурцов.
Антон. Вот, батюшка, все, что есть. А каперцы у нас еще на Крещенье кончились. Какие уж тут каперцы, коли скоро хлеба купить не на что будет.
Полозов. Ступай.
Антон (ставит огурцы на столик, прижимает руки к груди). Батюшка барин, помилосердствуйте! Что же вы такое с собой творите?
Полозов. Ступай.
Антон. У меня сердце кровью обливается, глядючи! Я же вас с пеленочек знаю! Как же так, Господи Иисусе Христе! Почто вы себя эдак губить изволите-с?
Полозов. Ступай!
Антон. Да иду, иду уж. Господи! Пропадем ни за грош… (Выходит.)
В полуоткрытое окно просовывается трость и открывает его. Показывается голова Штанге.
Штанге. Виктор Николаич, мамочка, приветствую! У тебя, брат, ворота настежь! Сразу видать широкую натуру! Ты прости, мамочка, я уж через окно, по-флибустьерски! (Влезает в окно; на нем нанковая тройка, белая шляпа, в руках трость и кулек с бутылкой мадеры.) Ну, здравствуй, мамочка!
Полозов, не вставая, подает ему руку.
Штанге. Что это ты – чай огурцами закусываешь? (Замечает графин с водкой.) А, pardon, водка! Прелестно! А я к тебе тоже с питейным трофеем! (Ставит на стол бутылку мадеры.) Ein Geschenk, mein lieber Freund! Крымскую мадеру я предпочитаю испанской. Ты один?
Полозов. Один.
Штанге. Что такой пасмурный? Случилось что?
Полозов. Аттис умер.
Штанге. Издох? Ай-яй-яй. Жаль. Славный пес был. Помнишь, как по осени тогда? Ату, ату! Жаль, черт возьми. Искренне жаль. (Садится.) Угости-ка, брат, сигаркой.
Полозов молча открывает пустую коробку из-под сигар, показывает ему.
Штанге. Вышли все? Черт с ними. (Оживленно.) Ну, мамочка моя, я тебе доложу: Крым весной – это такое безэ, такая прелесть! Мы по глупости туда все осенью да зимой норовим, а весной здесь родную грязь месим. А ты съезди в Ялту в апреле – другим индивидуумом вернешься. Чудо, просто чудо. Все цветет, тепло, сухо, воздух специально для наших бронхов. По набережной дамы прогуливаются. И весьма недурственные.
Полозов молча смотрит на Штанге.
Штанге. Что?
Полозов. Ничего. (Пауза.)
Штанге. Я глупости говорю?
Полозов молча курит.
Давай водки выпьем. (Наполняет рюмки.) Крымский воздух. Опьяняет и оглупляет. Там все как-то мягко, красиво. Иногда даже – приторно. Я не любитель десерта, ты знаешь, но в Крыму вдруг начинаю играть этакого метафизического сладкоежку. Гипероптимиста с позитивистским флером. И поверь – нахожу в этом удовольствие. Prosit! (Выпивает.) А вернешься к родным осинам, опять тоска наваливается, да все это вместе – грязь, гадость и скука. Впряжешься в работу – и вперед, птица-тройка! (Пауза.) Что ты так смотришь? Я околесицу несу? (Усмехается.) Завтра мне директора банка резать. Представляешь, мамочка, банкир, и вдруг – грыжа! С чего бы это у банкира грыжа? Что он – на ассигнациях надорвался?
Полозов (выпивает свою водку). Сейчас здесь была Арина Борисовна.
Штанге. Знаменская? Скажи на милость! Я слышал, у нее был бенефис. Она не осталась?
Полозов. Я ее выгнал.
Штанге. Ты с ума сошел, мамочка.
Полозов. Я ее выгнал. А сейчас хочу выгнать тебя. (Пауза.)
Штанге. Выгони, сделай одолжение. Но может, сперва выпьем? (Наполняет рюмки.)
Полозов мрачно смотрит на него.
Штанге (ставит рюмку не выпив). Послушай, ты из-за нее так разлимонился? Я тебе давно говорил – сия особа твоих чувств не стоит. Помнишь наш давнишний спор? Кто прав оказался? Не связывайся с актрисами, не порть себе кровь. У меня были две актрисы – в Тамбове и в Одессе, две истории буйного помешательства. Забудь ее, забудь совсем и навсегда, как друг советую! Давай лучше сегодня подопьем, а завтра я тебя к Ивашевым свожу. Ты у них, поди, лет семь не был? Напрасно! Там теперь все переменилось, заправляет всем Нина Львовна, а следовательно – по четвергам литературные вечера, со всеми вытекающими, так сказать. Собирается приличная публика, есть очень неглупые люди. Поедем, поедем обязательно! Проветришь мозги, мамочка. Нельзя гнить заживо в сорок лет. Ну, давай, брат, пить! За твое здоровье, потом за мое, потом за наше. (Поднимает рюмку, но опять ставит ее на столик.) О, mein Gott! Я осел. Это же ты из-за дома куксишься, право – из-за дома! А я, телятина, запамятовал! Ну так, мамочка, ты сам виноват. Что ты уцепился за этот дом, как Плюшкин? У нас в губернии нынче все имения заложены-перезаложены! У кого из помещиков теперь деньги водятся? Разве что у Ряжского. Ну так он – альфонс, это каждая собака знает. По правде сказать – в России нынче нельзя ничего иметь недвижимого. Я вон всю жизнь по чужим квартирам, а счастливее тебя – omnia mea mecum porto! Это родовое гнездо тебе как хомут на шее, право. Заложи, заложи, умоляю тебя. А сейчас – выпей со мной на счастье. (Выпивает, бросает рюмку об пол.) Вот так!
Полозов выпивает, ставит пустую рюмку на столик. Штанге хватает ее и кидает об пол.
Штанге. Поцелуемся, брат! (Целует Полозова, возбужденно прохаживается по гостиной.) Все, все продать! И как можно скорее! Всю эту рухлядь, весь этот тлен и мусор гробовой. Ваза китайская, чучело акулы, эти кубки хрустальные – на кой черт они тебе?! (Подходит к коллекции холодного оружия, развешанного на стене.) Разве что это оставить. (Трогает.) Мачете, наваха, кинжал дамасский… а это что? (Берет нож с короткой металлической рукояткой в виде креста.)
Полозов. Мексиканский метательный нож.
Штанге. Значит, его метать надо? Позволь, брат, я метну.
Полозов. Метни. (Пьет.)
Штанге. Во что изволишь?
Полозов. Во что угодно.
Штанге кидает в дверь, но неудачно – нож падает на пол.
Штанге. Из ружья у меня лучше получается. Когда на тягу пойдем?
Полозов. Когда-нибудь. (Поднимает нож с пола, разглядывает его.)
Штанге. Да-да. На тягу. Непременно на тягу. Слава богу, просека еще не заросла. (Садится за рояль, берет несколько аккордов.) Рояль тоже продай… На тетеревиный ток я уж опоздал. А ты без меня ходил?
Полозов. Ходил.
Штанге. Скольких срезал?
Полозов. Ни одного.
Штанге. Вот, мамочка, а все потому, что без меня ходил! А стреляешь в три раза лучше моего! (Наигрывает на рояле.) Басы у тебя дребезжат, как в бочке. Так и не подтянули? Хотя ты же, брат, не играешь?
Полозов. Не играю.
Штанге (напевает под собственный аккомпанемент). Не игра-а-ю, не игра-а-ю, не игра-а-а-а-ю. Послушай, я не спросил – отчего твой Аттис издох?
Полозов смотрит на Штанге, потом вдруг с силой метает в него нож. Нож по самую рукоять впивается Сергею Леонидовичу в левый бок. Штанге на мгновение замирает, словно прислушиваясь к чему-то, затем медленно встает, смотрит на Полозова, открывает рот и замертво падает на ковер.
Антон (осторожно приотворяет дверь). Звали, батюшка?
Полозов. Нет. Ступай.
Антон закрывает дверь. Полозов подходит к мертвому Штанге, садится подле него на ковер, долго сидит, глядя на убитого.
Я хочу что-то рассказать тебе. Собственно, я еще никому не рассказывал об этом. Поэтому мне трудно говорить. Очень трудно. Это произошло совсем недавно. Даже очень недавно. Минуты три или четыре тому назад. Хотя думал об этом я очень давно, лет с шестнадцати. Но открылось это сегодня. Сейчас. В тот самый момент, когда ты стоял посередине гостиной и перечислял находящиеся в ней вещи. Даже не перечислял, а называл их: китайскую вазу, чучело акулы, горку с хрусталем, коллекцию ножей, рояль. Ты стоял свободно, говорил несколько насмешливо, довольно легкомысленно, как часто у тебя выходило, но… (пауза) ты не представляешь, каким серьезным делом занимался ты в эту минуту. Ты называл имена вещей. И все вещи соответствовали своим именам. И это потрясло меня, как гром. Да! Все вещи соответствуют своим именам. Китайская ваза была, есть и будет китайской вазой. Хрусталь навсегда останется хрусталем и будет им, когда Луна упадет на Землю. Ты стоял посреди мертвых вещей – живой, теплокровный человек, – и ты один не соответствовал своему имени. И дело вовсе не в свойствах твоей души, не в твоей порядочности или безнравственности, честности или лживости, не в добре и зле, наполняющих тебя. Просто у тебя не было имени. Как и у нас всех. У человека нет имени. Сергей Леонидович Штанге, господин доктор, Homo sapiens, мыслящее животное, образ и подобие Божие – это все не имена. Это всего лишь названия. А имени нет. И не будет. (Пауза. Полозов встает с пола, садится в кресло, сидит некоторое время.) Антон. Антон! Антон!! Антон!!!
Занавес медленно опускается.
Что-то есть в этом скрипте M-неприятное, рипс табень.
Не могу понять – что?
Когда вернусь (прости за хушо бадао), спрошу у тебя понежнее – маленький мой сяотоу, что M-неприятного в тексте Чехова-3? А ты, рипс шагуа, ответишь, как всегда, вопросом на вопрос – а что L-приятного в нем? И я, Boris, не дам тебе ответа.
17 января
Набоков-7.
Это ВЫСШЕЕ. И не только из-за высокого процента соответствия. Высшее по определению. Во время процесса объект вел себя чудовищно агрессивно: стол, стул и кровать он превратил в щепы, стилос сожрал, erregen-объект (норковую шубу в меду) разодрал на клочья и приклеил их к стенам (используя в качестве клея собственный кал). Ты спросишь – чем же писал этот монстр? Щепкой от стола, которую он макал в свою левую руку, как в чернильницу (старрус). Таким образом, весь текст писан кровью. Что, к сожалению, не получилось у оригинала.